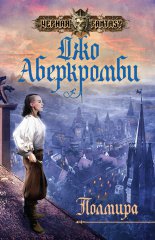Паутина судьбы Stenboo Doc
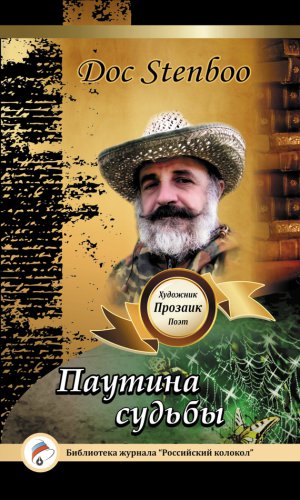
– Как твоя Наталья?
– Разведен уж сто лет. У меня Тасенька. Вместе в церкви работаем, и она мою писанину перепечатывает. Скоро будем электронику осваивать. Девки – одна замужем за хмырем из твоей братии, бизнес-леди. Но жадина. Впрочем, иногда помогает.
– А младшенькая, такая хорошенькая была. Я даже подумывал на ней своего Мишку женить, – явно соврал Зименков.
– Куда нам до аристократии! Ваши предки ведь, извините, навоз-то пальчиком ковыряли… В Архангельской губернии, что ли?
– Ну ладно, не злись. Значит, так, – спохватился Зименков. – Через три часа будет грандиозная презентация в одном из подмосковных поселков с золотыми унитазами. Там в спецзале какой-то американец чего-то пиликать будет. Вход двадцать пять тыщ. Я тебя приглашаю. Там же питье, жратва, общение, заключение договоров.
– Что я там делать буду?
– Виски хлестать, шампань, водку, если хочешь. Икру жрать, суши, жареных каплунов, вырезку из оленя, крабов…
– Это уже интересней, – зевнул Морхинин. – А яичницу с помидорами можно?
– Можно. Набегут всякие ублюдки кроме приличных людей. Несколько политиков приедут среднего уровня, просто так. Журналюги Журнальтисы и писаки Писульщиковы, те что похитрее. Ну шлюхи, естественно, высшего разряда. Чего еще-то… Будут даже какие-то издатели. В общем, сборная солянка. Никаких кутюрье, никаких протоколов. Все одеты свободно, ведут себя как хотят. Любое выступление не запрещено. Прочитай какие-нибудь свои стихи. Глядишь, тебя кто и приголубит, зеленых подкинет. Едешь?
– Еду. А можно я приятеля возьму? Он главный редактор газеты. Но, учти, оппозиционной.
– Даже интересно. А то надоели эти либеральные хныкалы, ну их в задницу. ГУЛАГ, кэгэбизм, тоталитаризм… А сами в академиях кафедры держали… Все в одни ворота пенальти забивают. А тут, слышь, поцапаются. Все-таки развлечение, скандал. Зови своих патриотов, сойдет.
– Богатеи взбесятся. Гляди, как бы не было худо.
– Богатеи не все за либералов. Там всякие. Приятеля хватай и пусть речь обличительную готовит. Через час я вас здесь подбираю. Все, Валерьяша, я помчался. Закончим в саунах, так что безмерно не надирайся.
– Да я вообще мало пью. Мне петь и писать надо.
Морхинин дозвонился до Миколы Лямченко. Объяснил ситуацию, пригласил.
– А как же деньги-то? – изумился Лямченко. – Двадцать пять тыщ за вход! Неужто твой друг за нас заплатит?
– Да вряд ли. Половина гостей будет бесплатно, как и мы с тобой. Они там потом разберутся. Сейчас по России столько ворованных миллиардов витает, что никто их толком и не считает. А это что! Мелочи… Поехали, глянем на золотую орду.
– Давай в кафешку зайдем. Хрястнем для разогрева, а там… по ситуации. Может, воздерживаться придется.
Лямченко примчался молниеносно. Зашли в кафе. А через два часа «мерседес» Зименкова подъезжал к раздвижным воротам в высокой ограде из мозаичного черно-белого кирпича с башнями, похожими на минареты. Вереница шикарных иномарок вливалась в ворота.
Большой двухэтажный зал; на середине овальная эстрада, а вокруг на плоскостях разного уровня с лесенками-переходами ресторанные столики, заваленные закусками и фруктами. На эстраде – конферансье, бывший солист Большого театра энергичный хохол в ослепительно-белом смокинге, орал в микрофон приветствия и представления.
Одеты все были действительно до изумления разнообразно: фраки, визитки бежевые, черные, темно-бордовые, фиолетовые; были и просто пошитые в Париже или Милане ординарные костюмы, но с галстуками из плетеных нитей турмалина. Дамы дефилировали в вечерних платьях сизого и алого бархата, в выставочных шелках, а полуголые куколки – в полупрозрачных лоскутках с бретелькой на плече, прикрывавших только исподнее.
Это были допущенные путаны высокого полета, а также дочери и содержанки магнатов. Их довольно трудно удавалось различить неопытному наблюдателю. Первые выбирались из самых красивых по четко рассчитанному соотношению бюстов, бедер, талий и ног. Однако среди них и правда попадались прелестнейшие в своей рекламной откровенности, а иногда и простодушно милые девчонки, действительно привлекательные и вызывающие чувство ласковой привязанности.
Содержанки и дочери магнатов от путан отличались блеском сапфировых, рубиновых, изумрудных камешков… Ну и где только возможно сияли бриллианты, иные во столько карат, что аж страшно становилось, – потому снаружи крепостной стены и у самого здания прохаживались «камуфляжники» с автоматами и длинноствольными орудиями убийства, смахивающими на миниатюрную артиллерию. Время от времени над башнями, похожими на минареты, грузно повисал охраняющий вертолет.
Среди показной и безмерной роскоши встречались женщины непричесанные, не тронутые макияжем, мужчины с заросшими подбородками и заспанными физиономиями, чтобы подчеркнуть свое полное пренебрежение к любому проводимому в vip-клубе мероприятию. Кто-то даже шаркал домашними тапочками и допивал большой стакан молока.
Гудели разговоры; отовсюду слышался смех. Шныряли корреспонденты-иностранцы. Гости старались веселиться: восклицали, рассказывали анекдоты. Впрочем, кое-где звенели бокалами, договариваясь о каких-то сделках, о вечеринках в узком кругу. Женщины намекающе улыбались тем, кто помоложе. Откровенно подходили к незнакомым мужчинам и предлагали провести вечер вместе, несмотря на присутствие мужей. Некоторые (профессионалы, умеющие проникать на официальные всевозможные торжества) нагло выдавали себя за известных артистов, попсовых певиц или за сотрудников министерств. Они обступили столики. Возникли официанты, несущие подносы, уставленные стеклом с содержимым всех цветов и оттенков.
Зименков познакомил Морхинина и Лямченко со своей секретаршей – изящно одетой женщиной под тридцать. Назвал Лилей, предложил приложиться к шампанскому. Лиля была мила: тонко шутила, ненавязчиво кокетничала, иногда вступала в довольно серьезные разговоры по поводу музыки, эпатирующего театра, знаменитых писателей – то есть о тех, которых представляло телевидение. Ее обняла дружески «телевизионная» дама, подчеркнуто современная, беспардонная, назвалась Магдой и сообщила, что она полька, шляхтянка Сибор-Клеретская.
Морхинин и Лямченко поддерживали эту говорильню, обсуждали что-то политическое с Зименковым. Морхинин решил поднабраться, попробовать чего-нибудь экзотического со столов, чего потом никогда не поешь, а вообще смотреть кругом повнимательнее на всякий случай – может, пригодится.
– Ну чего, Валерьяша, еще по водочке с икрой? – спрашивал радушно Зименков. – А ты, Коля?.. Ребята! – позвал он официантов. – Сделайте нам маленький ужин за этим столом. – Он засунул в верхний карман белобрысого официанта и его напарника, с виду грузинистого, по сотенной зеленой купюре. – Быстренько! А мы пока послушаем.
На эстраде появился долговязый американец с обритым наголо черепом, с длинным унылым лицом и рыжими усами. Он закатал рукава мятой серой рубахи, перехваченной подтяжками штанов с заплатами, сел к роялю, придвинул микрофон. Для начала минут десять брал растопыренными пальцами грустно-гармоничные, потом грубые, нарочито нестройные аккорды.
– Из старого, под Глена Миллера… – забормотала восхищенно Сибор-Клеретская. – …под Пресли, под…
– А под себя когда начнет? – сострил Лямченко, налегая на виски, икру и крабов. Ему это музицирование было как кваканье лягушек в пруду.
– Да нет, это еще ничего, – возразил Морхинин, – хоть уши не режет… О, ну вот теперь задолдонил свой рэп хваленый… Наливай, Микола, а то тошно станет. Ваше здоровье, девушки!
– А правда, что длинный «сашовец» – мировая величина и вообще кумир модной публики? – обратился Лямченко к Зименкову.
– Ну да, – хмыкнул Зименков, – ему за это выступление пол-лимона баксов отвалят…
– Ритмы новых поколений… – умненько вставила секретарша Лиля. – Секс, успех и одновременно бесперспективность жизни. Космическая эра для избранных, ликвидация или дебилизация для остальных – вот содержание его импровизаций… Но главное, он сейчас внедряет откровенный призыв к оргазму. В этом его творческий поиск. Всякий, всякий половой восторг – традиционный, гомосексуальный, бисексуальный, оральный, лесбийский…
Кругом бешено аплодировали, прерывая исполнителя. Вопли восторга, свист. Какие-то настойчивые обращения по-английски: видимо, просьбы исполнить то или иное сочинение. Впрочем, некоторые гости вели себя хладнокровно и разговаривали о чем-то постороннем.
– «Конжексьон», – проговорила шляхтянка с французским прононсом. – Удар, готовый разорвать сосуды! И чтобы кровь не хлынула от страсти, оргазм – любого вида!
Морхинин был уже достаточно пьян. Однако слушал эту галиматью молча, подливая себе и Лямченко желтое, противно пахнущее виски «Белый орел».
– Парни, не увлекайтесь, – сказал Зименков, красный и расстегнувший на груди рубашку. – Все впереди. Как говорили французские короли: «Сбереги себя для главной забавы». У нас еще весь вечер и ночные сауны…
– Эк, ты в Швейцарии-то набрался ума, – насмешливо вклинил ему Морхинин. – Не то что мы тут с либеральной революцией колупались…
– Юрий Иванович, вы бы тоже поберегли себя для процветания нашей фирмы, – засмеялась Лиля, слегка раздувая тонкие ноздри и многозначительно косясь на своего шефа, а заодно и на Морхинина.
Он внезапно почувствовал, что эта интересная особа, такая окультуренно-сдержанная в общении, на самом деле развратная и опытная, изощренная в глубоких ротациях этого бесстыдного мира.
– О, вот вы видите одну из самых известных див нашего телевидения! – провозгласила Магда Сибор-Клеретская, указывая куда-то. – Посмотрите, с шикарным негром в полосатом костюме, а сама вся в белом, с белокурыми волосами. Какая прелесть, какой вкус!
Молодая женщина, сопровождаемая темнокожим кавалером, приблизилась к тому месту, где обосновалась компания Зименкова. Магда протиснулась к ней в толпе. В эту минуту белокурая телеведущая, беседовавшая со своим спутником, почему-то с ним распрощалась. Магда что-то пылко начала ей объяснять и, взяв под локоть, повела к своим новым знакомым.
– Представляю вам, – слегка приседая, как японская гейша, замурлыкала Сибор-Клеретская, – очаровательную девушку, которую можно не представлять. Вы все прекрасно ее знаете: Оксана Клибернова. Прошу ее присоединиться к моим друзьям.
Зименков уже подавал Оксане пенящийся бокал сухого брюта и шептал на ухо комплименты. Секретарша Лиля и шляхтянка восхищенно стрекотали что-то по поводу ее элегантности и платья в духе осовремененного XVIII века.
Морхинин внимательно разглядывал блондинку, разрекламированную как образец светской красавицы. Но красавицей она не была ни при каких натяжках. Распущенные волосы с вытравленным естественным цветом висели как мочало. Далеко не идеальный нос и холодные серо-голубые глаза, лицо с тяжелым подбородком. Когда крупный рот с толстой нижней губой изображал улыбку, выбеленные зубы придавали ей выражение грызуна. Худощавая Оксана Клибернова не очаровывала мужчин ни бюстом, ни ногами и была чуть сутула. Словом, это холеное, экстравагантно одетое существо объявлять роковой дивой современности могла только не признающая никакой объективности телевизионная солидарность.
– Что же вы, Оксаночка, отшили такого привлекательного темнокожего бойфренда? – кокетливо спросила Магда, облизываясь с неким неприличным намеком.
– Это просто один из участников моей передачи для сексуально озабоченной молодежи, – спокойно ответила Клибернова не без высокомерия значительного лица российского телеэкрана. – А по поводу бойфрендов, якобы бесконечных в моей жизни, то все это жизнерадостный блеф наших рекламистов. По правде, добиться от меня половых восторгов, кажется, редко кому удавалось. – Заявление Оксаны, помимо всего прочего, показывало, что спиртоносные напитки уже достаточно отуманили ее прославленную, но не слишком мудрую голову.
– Я понял наконец, что представляет собой сущность известной всей стране Оксаны Клиберновой, – сказал пьяный Морхинин. – И я готов произнести в ее честь только что сочиненные мной стихи.
– Да? – удивилась Оксана. – Это круто.
– Давай, Валерьян, шарахни, – поддержал его Лямченко.
– Но может быть, позовем прессу? Телекорреспондентов? Зовите всех кого можно! – Клеретская замахала руками, призывая кого-то.
Возникли взлохмаченные парни с телекамерами, какие-то девицы в джинсах или шортах. Что-то сверкало мимолетными вспышками, что-то жужжало в руках репортеров. Кто-то выяснял повод внезапной толкучки. Кругом хихикали и лупили глаза молодые люди: «Что, что? Очередной скандал Оксаны?»
Наконец все заняли места по окружности, наплевав на корифея у рояля.
– Ща будет небольшой литературный скандальчик, – заявил, потирая ладони, Лямченко. – Валерьян, врубай.
Поставленным баритонально-басистым голосом обаятельный Морхинин прочитал, стоя напротив белой Оксаны:
- Вы абсолютно неприступны
- Для провоцирующих спазм…
- Но если кто-нибудь взбодрится,
- Упрется, взбесится, внедрится,
- То в результате состоится
- Ваш снисходительный оргазм.
– Браво! – восторгаясь, завопил бывший друг Зименков.
Близстоящие зааплодировали, загалдели. До Оксаны Клиберновой что-то дошло. Она пристально посмотрела на Валерьяна.
– Вы достойны пощечины за эту наглость, – сказала она.
– Ну, детка, ты по телику отпускала такое, – вмешался Лямченко, – шо только шо читанное – просто сопли и детский сад.
– Я считаю, красивые, профессиональные стихи, – заявила секретарша Зименкова Лиля.
Американец внезапно прервал выступление и стал спускаться с эстрады. За ним кинулась гурьбой часть зрителей, требуя автографов. Но большинство участников элитарного концерта осталось. Некоторые перебрались по лесенкам-переходам в нижний вестибюль, где грянул оркестр с рокотом барабанов и завыванием труб, а девицы в юбочке на одной бретельке закрутились, чтобы достоверно показать свои телесные ценности.
Вблизи эстрады, на верхнем этаже, стало свободнее. Однако группы мужчин и дам еще сидели за столиками.
У рояля появился какой-то высокий старик, имевший задорный и нахрапистый вид. Кто-то из телевизионщиков назвал его фамилию, которую Морхинин не расслышал. Время от времени отбрасывая со лба сивую прядь, неожиданный обличитель напористо и смело начал спич, по-видимому, политический, укоряющий буржуа, бросающих охапками доллары ради представителя западного музыкального драйва, тогда как сотни тысяч соотечественников не имеют самого необходимого.
Раздались поощрительные хлопки, смешанные с раздраженным ропотом. Кто-то направился к высокому старику с явно агрессивным намерением. Но он, нисколько не испугавшись, насмешливо показал приблизившимся фигу. Морхинину показалось, что в употребление был запущен мат. Около высокого старика появилось трое молодцов, своим видом давших понять недовольным, что они не остановятся перед мордобоем. Старик, эффектно откинув прядь, захохотал. Видимо, довольный своим выступлением, он покинул эстраду.
Телевизионщики и фоторепортеры постепенно подтягивались к роялю. Антракт мог скоро закончиться.
И тут пьяный Морхинин заметил неподалеку другого старика, тощего, со щуплой бородкой и фальшиво-интеллигентскими очками, если таким образом можно оформить эту деталь его облика. Он кривился, рядом кривилось еще несколько мужчин и женщин, сопровождавших этого известного старика, некогда сидевшего, но не по политическим мотивам, а уличенного в педофилии.
Морхинин неожиданно оттолкнул Зименкова, пытавшегося его обнимать. Подмигнул насторожившемуся Лямченко и, не обращая внимания ни на Клибернову, ни на остальных дам, почти побежал на эстраду. Там Валерьян оперся спиной о рояль и повернулся к публике. Кто-то зааплодировал, решив, что он вышел петь. Однако, повернувшись в сторону фальшиво-интеллигентских очков, бывший оперный хорист начал громко и отчетливо декламировать:
- Воплощенье наших зол
- Этот блеющий козел —
- Прав защитник благонравный,
- Негодяй, немногим равный…
Микрофон работал на оба этажа. Публика торопилась к увеселению.
И тут Морхинин заметил еще одного человека, которого ему совсем не следовало замечать. Роковое удовольствие проявить прилюдно плод своего сатирического таланта обуяло Морхинина. Повернувшись куда-то (как оказалось, почти в правильном направлении), Валерьян громогласно высказал то, что записал некогда в своей тетради и в общем-то никому не собирался показывать… Однако в самую последнюю секунду у него хватило ума или, наоборот, не хватило: он забыл фамилию, он помнил только имя…
- Ванька, встань-ка! Ты кунак
- Ваххабитов на Кавказе,
- Друг хапуг и всякой мрази —
- Не русак ты, вурдулак!
- В гроб твой смрадный, нафталиновый
- Заколотят кол осиновый.
Публика прибывала, ожидая продолжения вечера сатиры и юмора. Но Морхинин уже двинулся с эстрады в странном состоянии вдохновения и страха. Он шарахнулся, как ему показалось, к выходу, цепляясь ногами за стулья, едва удерживаясь на лесенках-переходах. Кто-то толкнул его, он качнулся и пошел в другую сторону.
А за одним из уставленных коньячными бутылками столиков красивый, с каштановой шевелюрой, одетый в золотисто-бархатный костюм мужчина лет около сорока убеждал в чем-то своего соседа. Тот был некрупный, круглолицый, круглоголовый, с гладко зачесанными назад черными волосами; одет ординарно, аккуратно, как высокопоставленный чиновник.
– Да брось, Иван… Наплюй ты на этого надравшегося дурня… Ну, пролепетал там что-то полупонятное… Не вяжись… – говорил красивый в бархатном костюме. – Тем более, он же не указал твоей фамилии…
– Вот поэтому я делаю ему подарок, – злобно прошелестел сухими губами круглоголовый, – оставляю жизнь…
Он позвал согнутым указательным пальцем. Тут же склонилось громилище со складкой на бычьей выбритой шее, в черном костюме, набитом мускулами.
– Да не надо, плюнь… – продолжал смеяться красивый.
– Значит, так, – отчетливо проговорил круглоголовый бычьей шее, – ты его не спутаешь?
– Ну, что вы, Иван Петрович! – пробасило громилище. – Я его держу в поле зрения.
– Возьми еще Толика. Наказать как следует.
– Совсем?
– Нет, совсем не надо. Но как следует, чтобы было неповадно. Где-нибудь в сторонке. Без ажиотажа.
– Будет сделано, Иван Петрович.
XIII
Когда Морхинин разлепил веки, его первым восприятием была чистая, почти ослепительная белизна. Показалось, что он находится где-то в заснеженном поле.
Потом Морхинин начал понимать, что все это бинты, окутывающие его голову и часть лица. Реальность жизни стала представать в нестройных воспоминаниях. Он отыскивал ее в своем затуманенном сознании. Боли сначала не чувствовал, впечатления наплывали только зрительные.
Итак, концерт в переполненном зале. Он помнит свист и выкрики на английском… Морхинин двинул рукой и первый раз ощутил боль – не резкую, но понемногу возникающую в голове… Играл на рояле и гудел в микрофон американский знаменитый рэп-композитор и исполнитель, а Валерьян с Лямченко слушали его концерт – совершенно невозможная ерунда. С какой стати они там оказались? А… вспомнил! После американца Морхинин читал свои стихи… Зачем? Кто его просил? Какая-то странная бессмыслица.
Если голова и рука болели не очень сильно (во всяком случае, терпимо), то, попробовав повернуться, он застонал от резкой боли в боку. Боль заставила его думать организованнее.
Теперь он вспомнил, как его привез на концерт, где одновременно был шикарный банкет, школьный товарищ Юрка Зименков. С ними находились Лямченко и приятная дама, секретарь Зименкова. Морхинин с ней любезничал и пил на брудершафт шампанское. Вообще все они – и Лямченко, и Зименков, и Морхинин, и дама – много пили вперемежку виски, шампанское, мартини и водку. Приходили мужчины и женщины с телевидения; молодая телеведущая Оксана, для которой Морхинин тоже читал свои стихи, а Лямченко с ней почему-то ссорился.
Морхинин опять застонал от боли в боку, боль была невыносима. Над ним наклонилась женщина в белом халате и белой шапочке. Она смотрела на него с сожалением. Потом, откинув осторожно простыню, что-то ловко и быстро сделала. Боль стала затихать. Валерьян сообразил: медсестра вколола ему болеутоляющее.
– Что у меня? – сипло спросил Морхинин.
– Не надо разговаривать, у вас сотрясение мозга.
– А бок?
– Сильная травма. Ничего, пройдет. Лежите спокойно.
Хороший совет лежать спокойно, если ты искалечен и вообще не понимаешь, что с тобой произошло.
– Я здесь… когда?
– Вас привезли вечером. Все будет хорошо.
На другой день пришла Тася, бледная, в мятом белом халатике поверх платья. Заплакала.
– Доигрался, – сказала Тася. – Тебе обязательно нужно было напиваться и читать издевательские стихи?
– За это меня избили? – стараясь улыбаться заплаканной Тасе, уточнил Морхинин.
– Слава богу, что не убили. Но почему застрелили твою бывшую редакторшу? Ужас, ужас!
– Какую редакторшу? – оторопело зашлепал губами Морхинин. – Причем я ведь… читал что-то… Застрелили?
– Ты оскорблял в стихах Адама Сергеевича… Мне сказал по телефону Лямченко. И там был кто-то еще покруче. Они приказали бить тебя на улице, около клуба. А она…
– Редакторша? Которая с Зименковым?
– Ничего не знаю про Лилю. А Зименкова вызвали к следователю. И Лямченко тоже. Вернее, им устроили предварительное дознание. Они видели, кажется, кто стрелял.
У Морхинина появилось ощущение, что ему еще раз нанесли сильный удар по голове. Его слегка затошнило.
– Дай воды, Тасенька, – жалобно попросил он. – Что-то мне плохо.
– Ирод ты, Валька, – снова заплакала Тася, наливая в стакан боржоми. – Что ты устроил спьяну? Из-за тебя человека убили. Бедная женщина… Помнишь редакторшу, которая работала в издательстве, где вышел «Плано Карпини»?
– Алла Константиновна! Ее? Но почему? Я ее даже не видел на том концерте. За что?…Позвони Лямченко, пусть придет.
Лямченко к нему не пришел. Зато через три дня осторожно заглянул в палату следователь. Кстати, больничная палата почему-то предоставлялась одному Морхинину. Следователь сел на стул у постели:
– Майор Серебряков, уголовный розыск. Главное управление министерства внутренних дел. Вы в состоянии отвечать на мои вопросы?
– В состоянии, – хмуро ответил Морхинин.
Он напряженно старался разгадать, какое отношение имеет убийство Аллы Константиновны Угловой к чтению им с эстрады vip-клуба эпиграмм на известного правозащитника и госслужащего высокого ранга.
– Начнем, – произнес следователь, доставая из внутреннего кармана объемистый блокнот в твердой обложке.
Это был худощавый брюнет в поношенном сером костюме и бежевой водолазке. Волосы без блеска, давно немытые. На щеках вертикальные морщины и заметная небритость. Ухмылка неприятная, тон разговора профессионально деловой. А вообще заметно: человек недобрый, придирчивый, нервный. Собственно, с чего бы ему быть добродушным и уравновешенным? Лишь бы не был откровенной сволочью, и то хорошо.
Вначале началось формальное, с краткой фиксацией в блокноте, предварительное дознание.
– Вы давно состоите в знакомстве с Зименковым Юрием Ивановичем?
– Десять лет учились в школе, в одном классе.
– А с Лямченко Николаем Ивановичем?
– Лямченко – главный редактор газеты «Московская литература». Знакомы на почве писательства.
– Каким образом оказались на концерте и презентации в N… поселке?
– Пригласил Зименков.
– Приглашение состоялось по его инициативе? Или это вы настояли на своем присутствии?
– Мы встретились совершенно случайно. Зименков сразу пригласил меня, а я – Лямченко. С разрешения Зименкова, конечно.
– Вы заранее готовились к чтению стихов, порочащих честь и достоинство известного общественного деятеля и высокопоставленного государственного служащего?
– Ничего подобного. Я же сказал: случайно встретил Зименкова. У меня и в мыслях не было оказаться в таком месте. Для меня это недоступное общество.
– Почему же вы позволили себе читать с эстрады стихи унизительного содержания?
– Честно говоря, я находился в состоянии сильного опьянения.
– Зачем вам надо было столько пить?
– Да как удержишься, когда официанты все подносят и подносят. И так весь вечер.
На худощавом лице следователя Серебрякова мелькнуло выражение раздражения и зависти. Он кашлянул, неприятно усмехнулся и что-то записал у себя в блокноте.
– Как давно знаете Сошнякова Игоря Сергеевича и Гагаева Анатолия Гурамовича?
– Я не понимаю, о ком идет речь.
– Почему же вы дрались с ними в парке, рядом с концертным залом N… поселка в восемь часов вечера, где были взяты прибывшим нарядом милиции?
– Я дрался? Я вообще был в таком состоянии, что не соображал, где нахожусь и что происходит. Не я дрался, а, по-видимому, эти указанные вами люди, избивали меня по чьему-то приказу.
– Может быть, вы просто не рассчитали свои силы, когда начали драку? – осведомился с издевательским сочувствием майор.
– Хватит, – начиная терять терпение, сказал избитый Морхинин. – Вам дали задание надо мной поглумиться? Может быть, вы получите за это премию?
– Отвечайте на поставленные вопросы, господин Морхинин, а не устраивайте полемику с представителем правоохранительных органов, – злобно ощерился следователь.
– Я отвечаю, – неожиданно успокоившись и понимая, что все действия следователя заранее продуманны, сказал Морхинин. – И я был взят не нарядом милиции, а машиной «скорой помощи». Мне об этом сказали здесь, в больнице. Так что не надо по отношению ко мне создавать уголовные обстоятельства, товарищ… так сказать… майор.
Наступило молчание. Серебряков, играя желваками на землистой физиономии, записывал что-то в блокноте.
– Вы знали Аллу Константиновну Углову? – вдруг бросил Морхинину майор.
– Да. Это главный редактор издательства «Крок-пресс», где издан мой роман «Плано Карпини».
– Это было давно?
– Пять… нет, шесть лет тому назад.
– Вы знаете, что она была убита в том же месте, где происходила драка?
– Это ужасно! Алла Константиновна много для меня сделала как редактор при издании моей книги. Я очень огорчен.
– Вы знаете, что рядом с ней убит Гагаев?
– Нет, не имел представления. И не знаю, кто этот Гагаев. Я вам уже об этом сказал.
– Вы случайно не встречали Ирину Михайловну Крицкую?
– Крицкую? Ирину Михайловну? – недоуменно пробормотал Морхинин.
– Да, Ирина Крицкая. Это она находилась рядом с вами, когда вы валялись в кустах. Она сначала застрелила Углову и тут же Гагаева.
– Ирина… – повторил Морхинин, – я видел одну Ирину рядом с Аллой Константиновной. Небольшого роста, брюнетка, истеричные манеры. – Морхинин вспомнил весь эпизод своего любовного свидания с Аллой, прерванного Ириной с пистолетом в руке, и рассказал обо всем следователю.
– Чем же это закончилось?
– Тем, что я остался жив, как видите. И убрался подобру-поздорову.
– С тех пор вы виделись с кем-нибудь из этих женщин?
– Нет, никогда.
– Ни разу?
– Ни одного раза. Четко. Железно, – отрывисто отвечал Морхинин, чем почему-то рассмешил майора Серебрякова.
– Итак, складывается мотивация убийства, – сказал майор. – Вы, как писатель, могли бы составить версию?
– Легко, – ответил Валерьян Александрович, чувствуя огорчение по поводу смерти Аллы и одновременно авторский кураж. – Я, в дым пьяный, выбираюсь из концертного зала и наугад иду куда-то в парк. Меня видит Алла Углова, оказавшаяся тоже здесь со своей подругой Ириной…
– Крицкой, – подсказал, остро сверкнув глазами, Серебряков. – И дальше…
– Алла видит меня и направляется за мной… не знаю зачем… Ну… может быть, чтобы возобновить знакомство, мало ли… В это время два натравленных костолома догоняют меня и где-то в кустах начинают избивать…
– Это вы играете на себя, Морхинин.
– Ни в коем случае. Так и было, хотя я не помню, а только представляю эти события. Итак, меня начинают бить, я еле на ногах, пытаюсь сопротивляться. Алла видит это и бросается мне на помощь. Алла Константиновна Углова женщина крупная, налитая, сильная, тело, как у метательницы диска. Это я могу вам констатировать. И пока один валяет меня, другой оттаскивает могучую Аллу. Они борются. Издалека полное впечатление пылких объятий красавицы Угловой с этим нацменом. Появляется Ирина Крицкая, видит измену возлюбленной. А поскольку все в той или другой степени пьяны, то нервы ревнивой Ирины не выдерживают. В ярости она вынимает пистолет и стреляет. Может быть такой вариант: стреляет в этого… как там его…
– В Гагаева, – почти восторженно подсказывает майор, – но…
– Ну да. Она случайно попадает в свою любовницу. Алла падает. Ирина бросается к Гагаеву и с близкого расстояния кончает с ним. Сбегается охрана, появляются посторонние люди. Избивший меня мордоворот делает ноги, чтобы доложить своему хозяину. А Ирина… она не покончила с собой?
– Нет, ее схватили, – возразил майор. – Вызвали милицию, «скорую»… Н-да…
– Эх, жаль! – забывшись, воскликнул перевязанный бинтами Морхинин. – Вот был бы сюжет! Ну, значит, все. Приезжает «скорая», отвозят меня сюда. Ирину будут судить. Вообще материал для детективного сериала.
– Будет вам сериал, – злорадно сказал Серебряков. – А версию мотивации убийства Угловой и Гагаева я у вас забираю. Надеюсь, не возражаете, – добавил майор с сарказмом.
– Пожалуйста, – великодушно согласился Морхинин. – Куда вам самим-то распутать по горячим следам…
– Вы нахал, господин Морхинин.
– Я не нахал! Я писатель, уважаемый товарищ следователь.
– И поэт, – подхватил следователь не без юмора, – за что и получили телесные повреждения.
– Вы должны найти и наказать инициатора и исполнителя моего избиения.
– Сидите уж и помалкивайте. Это я вам советую из лучших побуждений. Знаете пьесу «Волки и овцы»?
– Допустим, – сказал Морхинин со снисхождением литератора к случайному лицу.
– Вы овца, а они волки. Вы напились и полезли бодаться. В следующий раз вам перегрызут горло.
«Да, перегрызут, – подумал Морхинин. – В следующий раз… Неизвестно, что вообще еще будет».
А обстоятельства складывались следующим образом. Морхинин еще неделю находился в больнице, в гипсе – поскольку у него было сломано два ребра и зафиксирован перелом правого плеча. Затем он около месяца лежал дома. За ним ухаживала верная Тася, находя время для регентской работы в церкви.
Пришло письмо из Италии. Синьор Владимиро Бертаджини, не зная о злоключениях своего заочного друга, сообщил приятные вести. Перевод «Проперция» успешно движется к завершению. Организовалась группа спонсоров, готовых оплатить издание романа русского автора небольшим тиражом. Старый латинист, друг синьора Бертаджини, дает свой вариант стихов Проперция, что приносит ему большое творческое удовлетворение. Молодой мантуанский художник Лино Моденезе выразил желание совершенно бесплатно оформить книгу господина Морхинина как дружественный жест навстречу русской культуре, которая отражает в произведениях своих авторов культуру Италии…
Кроме того, синьор Владимиро в своем послании хвалил стихи Морхинина за их стройность и разнообразие тем (Валерьян иногда посылал итальянцу распечатки своих стихов). Бертаджини выбрал одно, особенно ему приглянувшееся, сам перевел его и опубликовал среди стихов местных поэтов. А приглянулся ему «Морозный день» (Una giornata fredissima). Разглядывая страницу из итальянской газеты, присланную в письме Бертаджини, Морхинин думал: «Ну, вот перевели мой стишок; свершится чудо, если переведут и напечатают «Проперция»…
И Зименкова, и Лямченко дважды вызывали к следователям, потом отстали. Как заводная кукла, пять раз повторял Морхинин одну и ту же версию убийства Аллы Угловой и вообще то немногое, что он помнил при чтении дерзких своих стихов. Ему грозили условным сроком на полгода, а он разводил руками и сетовал: его, мол, обманули бессовестно, убедили, что он живет в демократической стране, где за стихи, пусть «хулиганские», сажать не имеют права. Прокурору, мужчине с виду грозному, Валерьян доложил свое мнение: при Союзе было ясно, чего допускается, чего не допускается. А сейчас ничего не понять, да еще в пьяном виде. Прокурор сначала злился, потом ржал и удивлялся, откуда такие дураки на свете берутся.
Наконец следователь осторожно выпытывал: кого он считает заказчиком и исполнителем своего избиения? Валерьян Александрович прижимал руку к сердцу и клялся, что бывал иногда пьян в течение своей многогрешной жизни, но такой степени свинства, которой он достиг, напившись на знаменитом vip-концерте, еще не было. Поэтому даже отвлеченно рассуждать, кто послал костоломов, он не может.
Ну, делали вид, что сердятся. Головой качали: романы, мол, пишите, стихи сочиняете – как не стыдно! Ох уж эти писатели! Смеяться-то смеялись, однако отстали с большим трудом. Все закидывали: не пойдет ли он куда жаловаться? Морхинин не пошел.
Он разыскал по справочнику номер телефона и позвонил в издательство, где издавали альбомы с репродукциями картин и скульптур минувших и современных гениев. Спросил, работает ли директором издательства господин Углов. Избалованный женский голосок сообщил, что хотя директор был долгое время отвлечен серьезными проблемами, но сейчас у себя в кабинете. Проводит совещание. Морхинин самым бархатистым тембром своего баритонального баса умолил секретаршу соединить его с директором, когда это станет осуществимо.
Спустя час раздался мрачновато-мужественный директорский зык: кто звонит и по какой надобности? Морхинин сообщил о своем былом сотрудничестве с трагически погибшей Аллой Константиновной и просил сообщить о месте захоронения.
– Навестить могилу хотите, цветочки положить? – почему-то насмешливо спросил директор. – Вы кто – писатель, художник? Или близкий знакомый?
– Вообще-то я поэт, – неожиданно для себя сообщил Морхинин.
– Вот и говорят: на том бардаке все безобразие началось с какого-то чокнутого поэта. Ирка Крицкая стреляла в того, кто поэта дубасил, а попала в Аллу. Вы не тот ли поэт?
– Нет… Просто Алла Константиновна когда-то издавала мою книгу. Когда я узнал, то счел своим долгом…
– Ладно, черт с ним со всем, – прервал Морхинина директорский зык.
Было сказано, где похоронена Алла Константиновна. Оказалось, на Ваганьковском кладбище, недалеко от церкви, рядом со своими дедушками и бабушками. Алла происходила из знатной семьи.
Морхинин поблагодарил и принес самые искренние соболезнования. Там швырнули трубку.
– Эх, – сказал вслух Морхинин, – бедная кустодиевская Венера… Что за распроклятая у меня судьба!
Он вспомнил, как Алла Константиновна, выйдя из ванной комнаты в одной накинутой простыне, повернулась к нему уже без нее… Вспомнил страстно и ярко… Морхинин был все-таки человек своеобразный. На кладбище он не поехал, но трагикомическое свидание долго лелеял в воображении.
XIV
Работа над новым романом была совсем другой, нежели над древностями «Проперция» или экзотическими приключениями «Плано Карпини».
Фабула его была приближена к собственной судьбе автора. Морхинин использовал в некоторых случаях картины из своей утомительной жизни оперного хориста, а также общую обстановку того, уже отдаленного, времени. Он показал мир пошлый и трагический, иногда наполненный счастливейшими переживаниями, иногда безутешными слезами одиночества и отчаяния. И горечь, разъедающая душу, и грубое давление «сильных мира сего», и угасание надежд молодости. Несмотря на не вполне объяснимую или банально нелепую смерть основных героев, на страницах романа нашли место и сатирические, и просто смешные, сохраненные памятью зарисовки.
Об успехе и, что вероятнее, безуспешности этой своей работы Морхинин старался не задумываться. Первые два его романа все-таки давали надежду в отношении будущего внимания издателей. А вот арии, хоры и вокальные проблемы могли вызвать сомнение маркетологов. Но пока он писал, зная, как трудно будут воспринимать его «Шестую кулису».
Тем временем Тася узнавала у знакомых, нельзя ли недорого, а может быть, и бесплатно приобрести подержанный электронный агрегат, без участия которого продолжать работу писатель уже не мог. Наступал XXI век. Он требовал не только литературного дарования, усидчивости, воловьего терпения, он требовал приспособления к компьютерной технике. Тася знала: в этом отношении Морхинин человек ущербный. Пока это была ее задача.