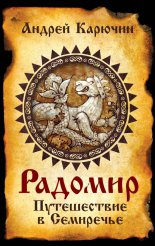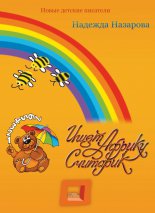Твардовский без глянца Фокин Павел

Уже пять дней, как нет Саши. Когда с людьми – уже болтаю о делах и т. п. А чуть останусь один – думаю только о нем. Сегодня вдруг вспомнил песенку, которую мы сложили с Валей, забавляя Сашеньку в зимние вечера в нашей конуре:
- Раненько-раненько
- Встанет наш Санинька
- И побежит за водой…
И не помню, как-то:
- Санинька, родненький,
- Дай нам холодненькой,
- Дай нам воды ключевой.
С самого начала хотел записать все, как пришла одна и другая телеграмма, как ездили хоронить, все. Но по приезде сразу ничего не получалось. Вырвал начатые листы. Теперь легче и еще грустнее оттого, что уже легче, что все пройдет и останется житейское воспоминание: умер ребенок. И я этого не хочу. Это был не ребенок, а Сашенька, мой сынок, мой друг, моя радость. Вспоминаю: я сознавал, я чувствовал, как много он помогает мне в жизни, как много я черпал от его милой, незабываемой доброты и ласковой веселости. И легче переносил свою обидную бесприютность, неудачи, тягости. Это был чудесный маленький человечек, с большой серьезной головкой, синими-синими глазами и веселыми розовыми полными щечками. А ручки и ножки были крупные, отцовские.
В последний раз видел я его в июле, когда ездил на дачу к своим, – он меня не скоро признал, но потом признал и стал ласкать меня, баловаться; я ложился на полу в избе, а он с разбегу наваливался на меня своим смешным большим животиком, вползал на грудь, шутливо кусался, измазывал всего слюнями, непрестанно повторяя: па-па, паппа, паппа…
Но мы скоро уехали – и прощанье мне запомнилось смутно. Выходит, попрощался я с ним еще весной, когда отправил всех на дачу, чтоб засесть самому за зачеты. Уезжали часов в 11 вечера, посадил я их в купе (а он не спал все время, когда я с ним ходил под окнами по тротуару, ожидая такси, – он мурлыкал), и бедная моя Маня, оставшись одна со своими птенцами, поставила Сашеньку на столик у окна, а я уже вышел и стоял на платформе. Он прощался, улыбался, сплющивал о стекло свой носик-пуговку, водил лапками по стеклу. Не помню: дождался ли я, чтоб тронулся поезд? Не может быть, чтоб не дождался. Все, кто проходил, любовались на Сашеньку, какие-то женщины долго стояли, любуясь. Осин как раз подошел, тоже хвалил. А у Мани лицо было грустное. Она не хотела уезжать, знала, что иначе нельзя – я не сдам зачетов, – но не хотела. Кроме того, она очень устала, все последние дни прошли в сборах. Она стирала, гладила. А я ходил с Сашенькой по городу, заходил иногда очень далеко, сидели в скверике напротив большого белого здания с двумя мемориальными досками (историку Соловьеву и И. А. Гончарову).
Когда приехали с юга, еще были надежды на квартиру, что вот-вот что-то получится. А я погрузился в переводы Шевченко. Маня уехала одна в Смоленск, дожила с детьми на даче последний месяц, переехала в Смоленск, и тут мы решили, скрывая от самих себя по возможности боль такого решения, что Саша покамест (мучительно неопределенное покамест) останется у бабушки, а Вале пора в детский сад – Валя с Маней приедут ко мне.
Когда они приехали, зашла свояченица Лена и стала просить Валю в гости на дачу, где они доживали с мужем последние дни. Мы отпустили Валю, остались одни. Маня вдруг расстроилась и расплакалась о Сашеньке.
– Оставили мальчика одного…
А я стал ее успокаивать, утешать, хотя никаких добрых вестей о квартире у меня не было…
…Прошло десять дней, было, кажется, одно письмо, что Сашенька здоров. Я переводил по 100–150 строк в день. Закончил вчерне „Гайдамаков“.
9-го утром в форточку подали молнию: Саша болен дифтеритом, лежит в больнице, выезжай. Нас ужаснуло, что он в больнице один, маленький, но мы и представить себе не могли, как еще это обернется.
Маня с Валей стали собираться в дорогу, я хотел оставить девочку, но с детсадом еще было неизвестно, – решили, что она поедет.
Маня пошла искать винограду для Сашеньки, а я сел за газеты, стал читать материалы о летчицах – были с вечера заказаны стихи для „Правды“.
Часу в двенадцатом подали вторую молнию: Саша умер, выезжай немедленно.
Я был один в комнате, Валя играла на улице, Маня еще не возвращалась. И хотя чуть не закричал, завыл как-то над телеграммой – горе еще не придавило меня так, как потом. Побежал искать Маню. Сбегал в один магазин – нет, вернулся, – ее нет, побежал в другой – нет, очередь за яблоками – не протолкнуться. Побежал домой, Маня открыла, –
– Машенька, – сказал я, протягивая ей руки.
И она сразу опустилась, присела как-то, лицо исказилось от страха, и голос стал слабый, жалостный, молящий:
– Что? Что? Что?..
Она уже поняла и только просила, умоляла, теряя силы, чтоб я сказал ей другое. ‹…›
Я сперва старался утешать Маню, уговорить, обласкать, но потом сам зарыдал, – и все это, что я пишу, уже только строчки, бледные и ничтожные, и передать они ничего не могут. Но я должен записать все, как могу, как выходит. Буду записывать все по порядку.
Плакать нам долго было нельзя, поезд отходил через три четверти часа, мы кинулись собираться. Удалось вызвать такси, и мы уехали. ‹…›
Поезд шел долго, почти со всеми остановками, и потом я никогда днем по этой дороге не ездил, а за ночь она проходила очень быстро. Мане кой-как я достал постель, она легла, плакала и засыпала от слабости, а я курил в тамбуре (вагон детский, хотя грязный и бесплацкартный), стоял у окна, сидел на откидном стульчике в коридоре вагона, а больше все стоял да ходил. Так и прошло 10–11 часов пути. Валя сперва смотрела в окно, потом играла в детском отделении, потом уложили ее с мамой на полку.
В Вязьме успел послать телеграмму, что приедем сегодня в 12. Я знал, что старуха убивается и что к горю у ней еще сознание вины, ответственности за это горе. ‹…› Пришли на квартиру, больная, охрипшая, поднялась с дивана Ирина Евдокимовна, стала просить прощения, обвинять себя. Схватила мою руку, прижала к своей груди.
– Александр Трифонович, поверьте… Батюшка…
Кое-как успокоились, улеглись. Еще по дороге узнали от Веры, что Сашенька еще в больнице, – я все с ужасом представлял его себе в комнате, в гробике. Решили совсем не привозить его домой. Часов в 6 утра пришла моя мама, поплакала и ушла. Я с ней почти не говорил.
Предстоял день тягостных и мучительных хлопот по похоронам и т. п. Меня почему-то издавна пугало это. Я никогда никого не хоронил и словно боялся, глупый, что не сумею, – не знаю, с чего начать и т. д.
Маня не хотела остаться дома, пошла со мной заказывать гробик. Шли через весь город на какую-то Козинку, возле костела, где мастерская гробов. Утро было осеннее, мозглое, город грязный, неприютный и чужой. Только в одном месте шли вдоль забора, к костелу, под забором валялись мокрые желтые листья – кленовые и ясеневые – городские листья, – вспоминалось что-то далекое-далекое. Там где-то поблизости был дом, где я жил около года маленьким – лет 4–5, а напротив был забор вроде этого и за ним большие городские деревья, сад. Тогда или позже я подумал, почувствовал, что вот полжизни прошло. Был я маленький, а вот уже дети у меня были и хороню уже одного. И последние юношеские глупости покинули голову. Нет им больше места. ‹…›
Гробик нашелся готовый, только мы попросили его оклеить белым. Женщины, вязавшие венки на полу в большой комнате, уставленной гробами, стали расхваливать гробик и уверять, что наш мальчик в нем поместится: вот так будет головка, вот досюда ножки. Маня плакала. Она весь день то держалась как будто, то вдруг при каком-нибудь напоминании ее точно душило, и она все более слабела и старела лицом. Бедненькая, как ей было тяжело, как обидно и горько на жизнь! ‹…› Потом зашли в цветочный магазин, взяли букет. Там было противно: какой-то полуурод, полуидиот с дырявой щекой что-то бурчал, бормотал, отбирая цветы.
Потом мерзли на вокзале в ожидании такси, а их во всем городе 3–5. Когда уже совсем разуверились дождаться – подошла машина, и мы ее уже не отпускали до конца, наездили 18 километров.
Поехали за гробиком, остановились у фотографии (фотограф был раньше предупрежден, но теперь стал закусывать и мы его ожидали), захватили по дороге Веру и отправились на Покровку, в больницу. Но прежде всего мы съездили на Тихвинское кладбище, где, всячески ублажая сторожа, заставили его вырыть могилку, выбрали местечко под кустиком сирени, напротив – памятник: Татьяна Федорова. Самое трудное и мучительное было у мертвецкой, когда женщина, обряжавшая Сашеньку („У меня свои дети“), вынесла его в гробике, в синенькой рубашечке, бледненького и серьезного, со сложенными на груди ручонками. Губки запеклись и потрескались, ноготки на ручонках посинели… А Вера и Маня, еле держась на ногах от слез, стали его убирать цветочками.
Тут прибежала и заголосила Ирина Евдокимовна, которую нарочно мы не взяли с собой, – она бегом на гору прибежала. Отвели ее, но она так просила допустить ее к гробику, так покорно и жалостливо обещала не плакать, что я ее оставил. Фотографу дал 30 руб. (он оказался хам: узнал, что мы уехали, и волынит с фото), извинился перед ним, что не могу его отвезти обратно, и мы поехали на кладбище: я с шофером, а женщины с гробиком на коленях – позади, на сиденье.
Сторож кончал могилу. Мы открыли гробик, чтоб поправить Сашеньку, – он сбился на бочок, пока несли. Изо рта показалась струйка крови, – Вера утерла марлей. Взглянули еще раз на него, как он лежит, бедный, обиженный, покинутый мальчик с цветком в ручках (он очень любил цветочки – особенно любил обдувать одуванчики), и закрыли. Сторож, не вылезая из ямы, принял гробик, уложил его и, наступив на него, вылез. Мы кинули горстки земельки, цветы, а сторож быстро засыпал его сухой, рушеной землей с обломками чужих гробов, со свежей желтой листвой. Из-под осыпающейся земли несколько минут показывалась, белела головная часть гробика. Могилка вышла очень похожей на детский глиняный пирожок. Маня и Вера убрали ее оставшимися цветочками, аккуратно уложив их.
– Все, сынок… – сказал я, и мы поспешили к машине, а мальчик наш остался один». [2; 99–102]
В далях великой войны
Александр Трифонович Твардовский. Из очерка «Память первого дня»:
«Война в том периоде, когда уже столько раз каждым вспомянут и при случае рассказан до подробностей ее первый день – как и где он застал каждого. Он – как заглавие всему тому, что началось с него. ‹…›
На даче у нас не было радио, и дом, занятый нами, стоял на отлете от усадьбы колхоза. „Новость“ принесла с улицы наша девочка, игравшая там с детьми. Было что-то тревожное и несуразное в ее по-детски сбивчивом изложении, и я строго прервал ее, как бы вынуждая ребенка отказаться от тех слов, что уже были так или иначе сказаны: „Было по радио… звонили из сельсовета…“ Но дочка с раздражением, обидой и уже близкими слезами в голосе упрямо повторяла:
– Не болтаю! Я сама слышала, все говорили.
Я выбежал на улицу и направился к колхозному скотному двору, где накапывали навоз. Я, помню, пошел по улице нарочно тихо, как бы прогуливаясь, хотя это было трудно. Возле скотника стояло несколько пустых навозных телег, а мужики и женщины сидели на груде прошлогодней соломы и молчали. И когда я увидел, как они сидели и молчали, я уже мог ни о чем их не спрашивать. Они сидели и молчали и ответили на мое приветствие так тихо, скупо и строго, как будто тут был покойник». [8, III; 155–156]
Евгений Аронович Долматовский:
«Двадцать третьего июня мы встретились в Главном Политуправлении Красной Армии, где с 1939-го числились прикомандированными для выполнения специальных заданий. Туда явились Константин Симонов, Алексей Сурков, Борис Горбатов, Евгений Петров, Михаил Светлов, Василий Лебедев-Кумач, Сергей Михалков, не помню, кто еще.
Мы были возбуждены, растревожены, каждый ожидал „командированного предписания“ ‹…›. Предписание это, впрочем, ничего не объясняло – указывался лишь город, куда надлежало прибыть и к какому начальнику там обратиться.
Александр Твардовский был словно отключен от высокого напряжения, будоражившего нас. Он сидел у окна, печальный и сосредоточенный. В трудные моменты он всегда вот так замыкался, и я уже знал эту черту его непростого характера. Лучше было его не трогать, не заговаривать с ним.
Мы получили предписания одновременно и показали их друг другу. Нам надлежало отбыть в одном направлении и поступить в распоряжение одного бригадного комиссара. Условились ехать вместе, первым же поездом. К нам присоединился еще Джек Алтаузен. ‹…›
Итак, мы едем вместе. У нас с Алтаузеном было по одной „шпале“ на петлицах, а у Твардовского – две. Он становился старшиной нашей маленькой литературной команды и принял новую обязанность с иронической улыбкой:
– Требую беспрекословного подчинения, и помните, что вы – низшие чины. Один – за водкой, другой – за селедкой – ать-два… И ограничимся этой рифмой! ‹…›
Первый вечер в дороге мы провели весело, без обид подтрунивали друг над другом, даже пели – нестройно и умиленно: „Тучи над городом встали, в воздухе пахнет грозой…“ Этой несколько накрученной возбужденностью старались ограничить остроту момента. Рано легли спать и рано проснулись». [2; 140–142]
Александр Трифонович Твардовский. Из дневника:
«…Поезд Москва – Киев остановился на станции, кажется, Хутор Михайловский. Выглянув в окно, я увидел нечто до того странное и ужасающее, что до сих пор не могу отстранить это впечатление. Я увидел поле, огромное поле, но был ли это луг, пар, озимый или яровой клин – понять было невозможно: поле все было покрыто лежавшими, сидевшими, копошившимися на нем людьми с узелками, котомками, чемоданами, детишками, тележками. Я никогда не видел такого количества чемоданов, узлов, всевозможного городского домашнего скарба, наспех прихваченного людьми в дорогу. На этом поле располагалось, может быть, десять тысяч людей. Здесь же был уже лагерь, вокзал, базар, привал, цыганская пестрота беженского бедствия. Поле гудело. И в этом гудении слышалась еще возбужденность, горячность недавнего потрясения и уже глубокая, тоскливая усталость, онемение, полусон, как раз как в зале забитого до отказа вокзала ночью на большой узловой. Поле поднялось, зашевелилось, тронулось к полотну дороги, к поезду, застучало в стены и окна вагонов, и казалось – оно в силах свалить состав с рельсов. Поезд тронулся…» [10; 32–33]
Евгений Аронович Долматовский:
«Только первый вечер был у нас такой беспечный. Впрочем, уменье добродушно подтрунивать над товарищами Твардовский сохранил и в самые сложные дни.
Приехав наконец в Киев, мы отправились пешком в штаб Киевского Особого военного округа, ставшего уже тыловой базой Юго-Западного направления. Город был в полном расцвете щедрого лета. На душных улицах почти не встречалось взрослых, но мы видели очень много пионеров, не успевших выехать в лагеря или успевших вернуться.
Мальчишки патрулировали небольшими группами – не знаю уж, по чьей инициативе. Они с подобострастием заглядывались на высокого синеглазого военного в новеньких ремнях, с орденами Ленина и Красной Звезды на гимнастерке. Тогда мало было орденоносцев. ‹…›
Мы поинтересовались, что за патрули на углах и перекрестках. Узнали: ловят шпиона. Его видели на вокзале в каком-то странном сером полувоенном френче и с пишущей машинкой в руках. Он выдавал себя за писателя. На вокзале никто не проявил бдительности, шпион скрылся. Теперь спохватились, ищут…
Мы дошагали до штаба. В политуправлении оставался на хозяйстве один батальонный комиссар. Он был болен и лежал на диване, у телефона. Как раз, когда мы, спросив разрешения по всей положенной форме, вошли в кабинет, телефон зазвонил. Сообщали о поимке шпиона. Шпион твердит, что он писатель. Дети, задержавшие его, порядком помяли бедняге бока… Поняв из реплик, о чем речь, Твардовский приложил сомкнутые пальцы к фуражке и лихо отчеканил:
– Писатель прибыл в ваше распоряжение.
Батальонный комиссар оторопел. Мы с Джеком приняли условия опасной игры и последовали примеру своего старшины:
– Писатель явился…
– Писатель докладывает…
Батальонный комиссар оказался человеком веселым. Он приподнялся на локте и с очень серьезным видом буркнул:
– Сейчас призову на помощь пионеров, тогда узнаете, как у нас в Киеве детишки поступают с теми, кто выдает себя за писателей. Особенно за Твардовского!
Мы были разоблачены.
Нам оставалось попросить батальонного комиссара познакомить нас со шпионом. Все-таки он выдает себя за нашего коллегу. Шпион с портативной пишущей машинкой? Странный детектив!
Пришли дополнительные сведения. Шпион назвал себя не одной, а сразу двумя фамилиями – Мальцевым и Ровинским. Он приехал из Львова, его зовут Орестом.
А ведь на Западной Украине действительно жил писатель Орест Мальцев, подписывавшийся псевдонимом Ровинский. В 1939 году он женился на польской красавице и остался жить во Львове. Все это мы рассказали батальонному комиссару. Зловещий клубок начал разматываться.
Нам предъявили задержанного. Вид у него был жалкий.
– Саша, Женя, Джек, выручайте! – испугав своих конвоиров, закричал Орест. Как пишут в роскошных романах, это был он.
Он выскочил из пылающего Львова, захватив лишь пишущую машинку, в мундире родственника своей жены, бывшего легионера.
Твардовский предложил составить документ, подтверждающий, что задержанный действительно писатель, наш старый знакомый, что у него есть и фамилия, и псевдоним, что он едет в Москву, в Главпур, за назначением.
Наше пребывание в Киеве в тот день было почти целиком занято спасением Ореста. К вечеру его освободили из-под стражи, и он отбыл в Москву. До вокзала мы его проводили, чтобы не повторилось утреннее происшествие.
Ночью мы выехали на командный пункт фронта, в Тарнополь (Тернополем город стал зваться позже).
Нас подключили к команде мобилизованных, направлявшихся в распоряжение штаба. Это были партийные работники в новеньких, топорщащихся гимнастерках. Грузовик с несколькими рядами досок-сидений, от борта до борта. Все мы с винтовками, полученными в штабе бывшего округа…
Твардовский сказал: „Здесь и так много начальников, я слагаю с себя обязанности старшины“. Не успели киевские начальники рассесться на досках, и уже командование взял на себя, конечно, „безусый энтузиаст“ – Джек Алтаузен. Властвование доставляло ему, очевидно, удовольствие. Он вовремя подавал команду: „Воздух!“ – мы выпрыгивали в кюветы, палили из винтовок в небо, а после отбоя вновь забирались в кузов, ехали дальше, тесно прижавшись друг к другу плечами.
Очень короткая ночь с бомбежками казалась длинной-предлинной. Пулеметным обстрелом с воздуха, смутными вестями и слухами о сброшенных противником десантах была она наполнена до отказа.
Утром мы подъезжали к старой границе (1939 года). Прекрасные нивы, ставшие уже здесь золотыми, свежие, в росе, васильки и маки на обочинах дорог. ‹…›
Штаб Юго-Западного направления размещался в не очень старинном, но возведенном по всем правилам замке на окраине города.
Прежде чем идти представляться к начальству, совершенно необходимо было помыться.
Твардовский сказал, что баня – это уже его дело. Он отправился в разведку, облазил какие-то башни и коридоры и радостно известил нас, что нашел ванную комнату, но на дверях почему-то здоровенный амбарный замок.
Мы отправились туда втроем и при помощи найденной во дворе железяки замок аккуратно сорвали. В большой белой фарфоровой ванне лежал мертвый командир в окровавленной гимнастерке.
– Свят-свят-свят… – сказал Твардовский, и мы стали торопливо прилаживать замок на место.
В те дни уже ничему не удивлялись. На другом этаже нашлась все-таки незапертая ванная, и мы помылись холодной водой, потерли друг другу спины. Твардовский крякал, ахал, безжалостно поливал наши хлипкие тела. Сам он был красиво сложен, плечист и говорил, что о человеке можно судить по глазам и по коже. Есть люди с такой кожей, что лучше бы им родиться курами без перьев!
Чистенькие предстали мы перед очами начальства. Решилась наша судьба. Твардовский остался в редакции фронтовой газеты „Красная Армия“, а мы с Джеком направлялись в армейские газеты 6-й и 12-й армий и обязаны были ночью выехать и искать свои редакции на дорогах отступления.
Твардовский очень ласково и грустно попрощался с нами». [2; 141–144]
Александр Трифонович Твардовский. Из письма М. И. Твардовской. 25 августа 1941 года:
«На первых порах у меня (не только у меня, но главным образом у меня) были тяжелые отношения с начальством. Редактор сильно хамил, а мне не повезло. В первой поездке я с непривычки (потому что ничего подобного не видел в Финляндии) немного опешил и вернулся без единой строчки материала. Ты, конечно, понимаешь, что раз я не нашел материала, значит, его действительно нельзя было собрать, но на языке военного это было невыполнение боевого задания. Сразу же я поехал в новую поездку и возвратился с богатым материалом. С тех пор езжу и пишу благополучно. А редактор, сильно нахамив, вдруг осекся и ведет себя по отношению ко мне излишне хорошо. Доходит до того, что я должен сам добиваться поездки на фронт. Кстати сказать, мы говорим „на фронт“, хотя сами находимся на самом настоящем фронте. Под Киевом бои…
Теперь о работе. Я пишу довольно много. Стихи, очерки, юмор, лозунги и т. п. Работа, говорят, хороша. Попросту сказать, на редакционных совещаниях она неизменно получает лучшую оценку. Сам же скажу, что все это, конечно, газетное, иного и требовать сейчас от себя не приходится. В центральную печать редко передать удается что-нибудь… Я об этом не тосковал бы, но мне хотелось бы, чтоб ты хоть изредка могла видеть мое имя в печати, а значит, и знать обо мне, что я, как говорится, жив-здоров…
Ты, наверно, знаешь, что премию я отдал в фонд обороны. Я не мог с тобой переговорить предварительно, но я был абсолютно уверен, что ты это одобришь, и так как эти наши с тобой деньги, то вместе со мной и ты внесешь свою половинку. Дорогая, это – боевой самолет, а как они здесь нужны, я имел возможность убедиться…» [10; 38–39]
Мария Илларионовна Твардовская:
«…Государственная премия, присужденная за поэму „Страна Муравия“, неприкосновенным капиталом хранилась в сберкассе. С нею связывались планы улучшения жилья: покупки где-то под Москвой избы или иного недорогого строения. Сообщение в газете было первой вестью о Твардовском, полученной в Чистополе. Весть эту принес кто-то из знакомых. До этого был большой перерыв в переписке, то есть после выезда из Москвы я не имела от А. Т. никаких известий. Вокруг же было столько неизвестности, исчезновений и слухов, слухов. ‹…›
И теперь, по прошествии уже стольких лет, вспоминается испытанное тогда чувство облегчения и радости: значит, жив! Значит, цел!.. Значит, слухи о плене, о гибели – вздор!
А потом надолго пришли раздумья: что же пришлось ему пережить, что испытать, увидеть такое страшное, что решил он взять эти деньги у собственных детей?» [10; 39–40]
Александр Трифонович Твардовский. Из письма М. И. Твардовской. 6 сентября 1941 года:
«…Если ты посмотришь на карту тех мест, где я нахожусь, то поймешь, что у Киева положение серьезное. Об этом, наверно, уже и в газетах пишут. Короче, на фронт нам скоро некуда будет ездить – можно пешком ходить. ‹…›
…Работаю я по-прежнему неплохо, много у меня берет сил „Иван Гвоздев“ – это Тёркин на новом этапе. Гвоздева этого начали без меня (молодой поэт Палийчук), но мне пришлось им заняться и не могу бросить: во-первых – не велят, а во-вторых, без меня его страшно снизят. Соавтор мой славный парень, но слабоват. Первая серия „Гвоздева“ сегодня-завтра выходит брошюрой. М. б., о ней что-нибудь напишут где-нибудь. Но не в этом суть. У него дикая популярность в частях. Все – от бойца до генерала – чтение газеты начинают с „прямой наводки“». [10; 42]
Владимир Яковлевич Лакшин:
«В 1941 году под Киевом он едва вышел из окружения. Редакция газеты Юго-Западного фронта, в которой он работал, размещалась в Киеве. Приказано было не покидать город до последнего часа: говорили, что остался большой запас типографской бумаги. Армейские части уже отходили за Днепр, а редакция все еще работала. Оттого-то во время отступления две трети сотрудников газеты погибли или были захвачены в плен. Твардовский спасся чудом: его взял к себе в машину полковой комиссар, и они едва проскочили из смыкавшегося кольца немецкого окружения». [4; 130]
Евгений Аронович Долматовский:
«Я вернулся в начале декабря и поселился в редакции „Красная Армия“, передислоцировавшейся из поезда на главную улицу Воронежа, в здание музыкального училища.
Мы оказались с Твардовским в одном музыкальном классе. Не стол, а рояль был там, Твардовский называл его письменным роялем.
Твардовский, старший по званию, был и здесь старшиной, неукоснительно требовал образцовой заправки коек и вообще порядка. Правда, все мы нещадно дымили – кто из трубки, кто из козьей ножки. Табак был ужасный и назывался „Филичевым“.
Твардовский делал в редакции все, что положено рядовому журналисту, – правил заметки, дежурил по номеру, был на рассвете „свежей головой“ (так назывался выспавшийся работник, читающий первый пробный экземпляр номера газеты). Потом писал он то, что было сегодня нужно, – передовую так передовую, очерк так очерк, стихи так стихи. ‹…›
Боевая позиция поэта была в редакции фронтовой газеты, по врагу огонь он вел с ее страниц.
Когда же ему удавалось все же выезжать в командировки, он спокойно и с достоинством выходил под огонь, когда этого требовали обстоятельства. В окопах и на дорогах Твардовский всегда выбирал стрелков определенного характера, подолгу беседовал с ними. Лишь позже, когда сложился образ Василия Тёркина, товарищи, ездившие с поэтом в части, узнавали черты знакомцев Твардовского. Психологию солдата он знал блестяще, достоверность созданного им образа неповторима». [2; 145–146]
Александр Трифонович Твардовский. Из письма М. И. Твардовской. 16 марта 1942 года:
«…Нахожусь с 25 февраля в командировке. Сейчас пять дней уже, как приехал с передовых, но не домой, а в штаб соединения. Здесь писал и передавал телеграфом материал в редакцию. Материал хороший, но обработать как следует почти нет возможности. ‹…› Трудность еще та, что писать надо набело сразу (где уж от руки переписывать все!) и так, чтоб телеграфистка свободно читала. Поэтому пишешь не своим каким-то почерком. Но в редакцию меня не тянет – тяжело мне там. А здесь всюду хорошо встречают, есть замечательно интересные люди. А места эти – бунинские, тургеневские. Я даже некоторые названия населенных пунктов узнаю, как будто я здесь бывал. Но места не очень хороши – лесов нет, степи. Сегодня только прекратился буран, какие мы с тобой знаем только по описаниям… Завтра полечу к танкистам… Побывал, полазал кое-где, видел „фрицев“ на их позициях простым глазом». [10; 78]
Евгений Аронович Долматовский:
«Работал в Политуправлении фронта бесстрашный бригадный комиссар Иван Гришаев. Однажды он запретил Твардовскому ехать в опасное место. Александр пошел к бригадному объясняться. Гришаев сказал ему:
– Третьяковскую галерею эвакуировали в Сибирь. Могу же я проявить осторожность, когда речь идет о литературных ценностях. Не своевольничайте, Саша, вы себе не принадлежите». [2; 146]
Александр Трифонович Твардовский. Из письма М. И. Твардовской. 8–15 августа 1942 года:
«Стал писать нечто лирическое о войне. Не знаю, что получится, но пишется в полную охоту. Не думаю, куда это и для чего, не связываю ни с какими намерениями и надеждами. Пишу потому, что пишется, потому, что ненавижу всеми силами души фальшь и мерзость газетного сегодняшнего стихотворения, и чувствую, что если до войны я еще был способен что-то подобное фальшивое петь, то сейчас – нет. Не могу, не хочу, не буду. Не верю, что это нужно и полезно». [10; 116]
Александр Трифонович Твардовский. Из письма М. И. Твардовской. 7 сентября 1942 года:
«…Малейшие оттенки сводки Информбюро оказывают на меня самое прямое влияние. Чуть как будто лучше – и пишется лучше, и думается лучше, и на сердце веселей. Чуть хуже – все хуже. Тут же и устные рассказы товарищей, приезжающих с фронтов, тут же и просто – свои размышления, догадки. Писать сейчас, т. е. сочинять, страшно трудно. Трудно отвлечься от реальной гигантской картины войны, несущей нам покамест очень мало веселого, отвлечься и вызвать свой особый мир, в котором все это так или иначе должно быть облегчено, вернее облагорожено. Но только когда пишешь, тогда лишь сознаешь себя в наше время что-то делающим. Как ни писать, что ни делать – делать нужно». [10; 126]
Евгений Захарович Воробьев:
«Первые главы поэмы появились в „Красноармейской правде“ в дни, когда фашисты вышли к Сталинграду. Твардовский ходил мрачный. Мы редко видели его улыбающимся, а тем более смеющимся. ‹…›
Обычно он уходил в ближний лесок, усаживался на пень или поваленное дерево, клал на колени планшет и сосредоточенно работал. Позже я видел его гуляющим всегда в одиночестве или сидящим в зеленом закутке на опушке леса, будь то на Смоленщине, в Белоруссии или Литве». [2; 153, 154]
Орест Георгиевич Верейский:
«Когда я стараюсь представить себе Твардовского тех военных лет, он почему-то видится мне в лесу, среди березовых стволов или еловых зарослей. Хотя стояли мы в те годы не только в лесу, а жили и в бункерах, на вершине Вороньей горы у въезда в Смоленск, и в бараках на краю поля, и в прибалтийских городках, и в совсем лишенных леса немецких хуторах.
Может быть, это представление возникает оттого, что я впервые увидел его в лесу, или оттого, что он всегда с такой нежностью относился к живой природе, так знал и любил лес, столько прекрасных слов сказал о нем в своих стихах». [2; 184]
Александр Трифонович Твардовский. Из рабочих тетрадей 1942 года:
«Сколько попорчено земли и леса – бомбами, окопами, блиндажами – тяжкими, рытыми следами войны. Никогда не зарыть всех этих ям с заплесневелыми кругляшами накатов и черной водой по самые края, всех этих противотанковых рвов, которые так и кажется, что тянутся они с севера на восток рядами поперек всей страны – теперь уже до Волги». [10; 122]
Евгений Захарович Воробьев:
«13 марта 1943 года, в день освобождения Вязьмы, мы долго колесили по городу. В первые часы Вязьма была безлюдна, мертва. Бродили саперы с миноискателями. В центре города мы увидели немецкое кладбище. Мертвецы там лежали по тридцать два в ряд, аккуратными шеренгами, будто кто-то муштровал их и после смерти. Немецкое кладбище – единственное место в городе, где можно было разгуливать, не опасаясь мин. Вот почему бойцы 222-й дивизии расположились здесь на привал, грелись, сушили сапоги, валенки, портянки.
Твардовский долго, сосредоточенно смотрел, как, потрескивая, горят в солдатском костре березовые колья, жерди, дощечки. Потом он всю дорогу ехал молча». [2; 155]
Александр Трифонович Твардовский. Из рабочих тетрадей 1943 года:
«Наступление. Вязьма – отвратительно разрушенный город. За Вязьмой – подорванные мосты. Глыбы мерзлой земли, напоминающие камни на крымском побережье.
По сторонам дороги, ведущей к фронту, обтаявшие, отчетливо черные или цветные машины, остовы, части машин. Они далеко разбросались по полям, торчат у кустов, в мелких смоленских болотцах. Иная в таком месте, что не придумаешь, как ее туда занесло, – в каком-нибудь овражке, в лозняке у речки или засела в речке, мелкой, но топкой, и весенняя вода перекатывается через кожух мотора.
Это – наши, русские машины, брошенные здесь осенью 1941 г. Они провели здесь уже две зимы и проводят вторую весну. Задуматься только: где он, водитель вот этого ЗИСа, безнадежно махнувший рукой, увязнув с ним на расквашенном объезде? В плену? Убит? Затерялся в немецких тылах „зятем“. Гдe командиры, сидевшие в этих машинах. Иной давно вышел из окружения, поднялся в чинах и должностях, а машина его, брошенная им в страшный, на всю жизнь незабываемый час здесь, под Вязьмой, так и стоит на открытом склоне поля.
У немцев руки не доходили утилизировать весь этот „парк“. Объезды, попытки пробиться открытым полем, рассредоточение от бомбежки – все это раскидало машины в том жутком и причудливом беспорядке, в каком мы их видим сегодня. Говорят, из них многие пригодны. ‹…›
Часто вспоминается и много думается о мальчике трех лет, которому кто-то из наших дал кусочек хлеба или еще что, и он ответил:
– Danke schn.
Научили!» [10; 174–175]
Евгений Захарович Воробьев:
«Путь Александра Трифоновича к Смоленску прошел через его родное Загорье. Он заехал туда после встречи с летчиками на аэродроме в Починке, после того, как оказался в двенадцати – пятнадцати километрах от отчего дома. В очерке „По пути к Смоленску“ („Красноармейская правда“, 28 сентября 1943 года) он писал: „В Загорье я не застал в живых никого. Кто уцелел – подался в леса, скрывается у дальней родни, знакомых. Остальные – на каторге у немцев или в больших общих могилах, которые были мне указаны жителями других деревень. Из прежних соседей моей семьи я нашел только Кузьму Ивановича Иванова, который последние годы жил в Смоленске, и только нашествие немцев вновь заставило его искать прибежище в родных деревенских местах. Грамотный, памятливый и толковый человек, он рассказал мне при нашей короткой встрече все, что знал о наших общих знакомых, родных, близких, о горькой и ужасной судьбе многих из них“.
Автор не включил этот отрывок в свою фронтовую прозу, – видимо, посчитал чересчур личным». [2; 157–158]
Александр Трифонович Твардовский. Из письма М. И. Твардовской. 30 октября 1943 года:
«Мысли – все о войне, о ее первом и последующих годах, о „полосах“ ее. Вспоминаю, как не мог ничего читать в первый год войны, все казалось сметенным ею. А теперь едва ли не самая большая радость – почитать добрую книгу, ожить душевно и умственно, ощутить прочность того, что создано не на шутку.
Основное ощущение войны, что она уже стала нормальностью для людей, что необыкновенным, труднопредставляемым является не она, а наоборот. И еще то, что она утратила всякую романтику. Все, все, все уже впору. И люди – я говорю о тех, которые давно на войне и более или менее сохранны физически, – живут, как будто так и надо, устраиваются получше, не мельтешат уже, не позируют, не увлекаются, а делают, тянут…» [10; 202]
Евгений Захарович Воробьев:
«В дни освобождения Белоруссии фронтовые пути и перепутья разлучили меня с Твардовским. Ему можно было только позавидовать – он все время находился на направлении главных ударов. Днем 26 июня он вошел в дымящийся Витебск, а ранним утром 3 июля был с передовыми танковыми частями в Минске». [2; 164]
Александр Трифонович Твардовский. Из рабочих тетрадей 1944 года:
«Поездка за Витебск. Новизна: вступление в город одним из первых. Отчетливое „ура“, бомбежка нашими самолетами окраины города, пулеметные очереди. ‹…›
Как три года назад – пыль дорог, грохот с неба и с земли, запах вянущей маскировки с запахом бензина, тревожное и тоскливое гудение моторов у переправ – и праздные луга и поля – все как три года назад. И только – мы идем на запад и занимаем города. И мы долбим противника с неба и с земли, и окружаем, и пленим, и обгоняем – бьем – мы. Но топчем землю мы родную, и мы жестоки. А земля – она как будто постарела, как мать стареет вдруг от беды. Как мать от горя и беды. Ее цветенье – повторенье как будто мягче и смиренней. И все на свете ждет конца». [10; 258–259]
Александр Трифонович Твардовский. Из письма М. И. Твардовской. 4 или 5 июля 1944 года:
«…Опять записка, а не письмо. Живу – 500–600 километров в сутки туда-обратно, пишу в таких условиях, что трудно требовать чего-либо доброго, но настроение хорошее, мне довелось видеть то, о чем можно было только мечтать: успех такой, что он на лице каждого солдата, стремительность, необычность и фольклор, как в то лето, только по-иному.
Обнимаю тебя, дорогая, сажусь в машину, еду в Вильно, которого еще нет, понятно. Как писать тебе, если то, что у меня сегодня сверхновость, для тебя при получении письма будет чем-то давним и неинтересным». [10; 265]
Александр Трифонович Твардовский. Из письма М. И. Твардовской. 11 июля 1944 года:
«…Я все время на колесах с малыми остановками в пути. Мы так растянулись, и так много нового в нашей жизни. Это напоминает мне 1941 г., только все наоборот. Мы с ходу врываемся в города, мы вклиниваемся, окружаем и т. п., они бегут, задерживаясь на иных рубежах и зло огрызаясь, они бродят по лесам („немцы-окруженцы“), в общем, об этом писать в письме нет возможности. Я в бездне новых ощущений, мне бы олько время и место, только бы приземлиться, я бы мог писать все – и „Тёркина“ (заключительные главы), и „Дом у дороги“, ему вдруг нашлось развитие и сюжет – простой и сильный, и стихи разные, и очерки, и даже рассказы. Но этого-то и нет у меня покамест, надеюсь, что будет. Сегодня опять едем (все) вперед». [10; 266]
Александр Трифонович Твардовский. Из рабочих тетрадей 1944 года:
«Почему так устала душа ото всего и не хочется писать, надоела война? По той же, кажется, причине, по которой мужик, помогавший другому мужику колоть дрова тем, что хекал за каждым ударом, первым устал, говорят, и отказался от работы, не то попросил уж лучше топор. Мы хекаем, а люди рубят. Мы взяли на себя функцию, неотрывную от самого процесса делания войны, издавать те возгласы, охи, ахи и т. п., которые являются при том, когда человек воюет. Для него каждый новый этап, каждый данный рубеж либо пункт, за который ‹…› он должен практически драться, нов и не может не занимать его сил с остротой первоначальной свежести, а для нас, хекающих, это все уже похоже, похоже, мы уже по тысячам таких поводов хекали. Это все неправильно, но довольно подходит к настроению, которое, несмотря на оглушительные успехи наступления (вчера было пять салютов!), дает себя знать, чуть ты огорчишься чем-нибудь внешним, чуть выйдешь из состояния приподнятости душевной, при которой только и можно что-либо делать». [10; 277]
Аркадий Михайлович Разгон:
«Вскоре после нового, 1945 года Политуправление Третьего Белорусского фронта созвало совещание писателей-фронтовиков. Это было время непродолжительной зимней передышки. На совещание, проходившее в Каунасе, съехались сотрудники дивизионных и армейских газет, работники фронтовой газеты „Красноармейская правда“. ‹…›
Выступление Твардовского для многих из нас было откровением. Особенно для тех, кто писал стихи. А кто их не писал в ту пору! Твардовский говорил о великой ответственности поэта перед лицом событий, перед народом. Он говорил, что надо писать так, чтобы „отзыв мыслей благородных звучал, как колокол на башне вечевой во дни торжеств и бед народных“. Большую часть своего выступления Твардовский посвятил литературе, рожденной Великой Отечественной войной, стихам поэтов нашего фронта. И здесь Твардовский был прямолинеен в своих суждениях. Он не прощал графоманства, приспособленчества, языковых огрехов. Было сказано: „Мы с вами живем в трудное, но великое время. И нельзя сейчас делать литературу «с колес». И по тому, что и как мы скажем, будут судить не столько о нас, сколько о времени, в котором мы с вами живем“». Эти слова Твардовского я тогда записал». [2; 214]
Александр Трифонович Твардовский. Из рабочих тетрадей 1944 года:
«Если б не знать, что от бомбежки ежедневно погибает много людей, можно было бы увериться, что бомбят всегда не там, где ты стоишь, а всегда где-то чуть в сторонке. Так неизменно бережет бог. Почти каждый день в пути или на месте видишь и слышишь, опасаешься и дрожишь. Немец последовательно бомбит города и железнодорожные узлы, которые теряет. Привыкнуть, убеждаюсь, нельзя». [10; 279]
Евгений Захарович Воробьев:
«Мне довелось вместе с ним в первые часы пересечь границу Восточной Пруссии перед городом Ширвиндтом. Речка Шешупа с неподвижной пепельной водой. В низком, задымленном небе над Ширвиндтом смутно виднелся далекий шпиль – то ли кирха, то ли городская ратуша. Свежеотесанный черно-белый столб с надписью „Германия“ в первые же часы был испещрен автографами. В дело пошли и уголек, и кинжал, и штык, и чернильный карандаш. Все торопились проехать через границу, воочию увидеть фашистское логово. А Твардовскому хотелось подольше постоять у пограничного столба, поглядеть, как бойцы переходят, переезжают через границу. Настороженно вглядывались вперед: какая она из себя, эта Германия? Долго смотрели на восток – доведется ли вернуться на родину?» [2; 167]
Александр Трифонович Твардовский. Из рабочих тетрадей 1945 года:
«Поездка в Инстербург. Глубокая Германия, а снежные поля, вешки у дорог, работа на стройке мостов, колонны, обозы, солдаты, все, как везде, как в Воронежской степи, как под Москвой, как в Финляндии.
Пожары, безмолвие. То, что могло лишь присниться где-нибудь у Погорелого Городища, как сладкий сон о возмездии. „Россия, Россия…“ (Отъезжал на попутке от фронта с покойным Гроховским; горизонт в заревах, грохот канонады, сжалось сердце: Россия, что с тобой делают.)
Пьяный боец в пустом ресторане при трех зажженных им свечах. „Три года воевал, четыре года буду сидеть в „дристоране“ (не русский).
Чувство страха и радости: так много можно увидеть, понять, если дать себе не думать о страхе, так это дорого, что и пострадать не жаль.
Немка – первая немка-жительница, не то больная, не то обезумевшая, в обтянувшейся трикотажной юбке, деревянных башмаках и какой-то зеленой с бантиком шляпке. „Хлеба ей дали“ (бойцы между собой)». [10; 326]
Орест Георгиевич Верейский:
«Можно ли было упрекнуть его в пацифизме, во всепрощении? Все его творчество военных лет красноречивей всяких слов говорит о его ненависти к фашизму. Но вот он рассматривал как-то фотографию, изображавшую группу немецких солдат, и говорил, что вот для нас все эти лица объединены одним понятием „противник“. А сколько за этим словом разных людей, характеров, судеб. А за каждым из них – семья, ожидающие, страдающие люди. В ту пору никому из нас не приходила в голову такая мысль, а приди она, мы не решились бы высказать ее вслух. А он мог. Кажется, не было таких обстоятельств, такой обстановки, когда бы Твардовский не говорил то, что он думает». [2; 185]
Александр Трифонович Твардовский. Из письма М. И. Твардовской. 12 марта 1945 года:
«Странно и стыдно видеть наших культур-трегеров, собирающих, „организующих“ белье, тряпки, ношеную обувь и пр. и посылающих посылки. Не знаю, как бы ты взглянула при всей своей практичности на то, что я прислал бы тебе детские пальтишки (чуть поношенные!) или женские платья и пр., но, полагаю, что тебе стало бы стыдно за меня. Четыре года гореть такой душевной мукой, таким презрением к противнику, столько передумать до какого-то просветления, так устать сердцем – и увенчать этот путь организацией посылок по немецким квартирам, населенным и ненаселенным. Вообще знаешь, что трудно сейчас. То, что вид страданий гражданского населения (какое бы оно ни было, но это дети, старость, санки, ручные тележки и т. п.), как и вид разрушений и прочего, не только не целит ран души, но скорее бередит их. Немцев-буржуа мы не видим, они смогли вовремя эвакуироваться, так ли сяк – здесь их нет. А остальное – люд всяческий. Нет сомнения, что они нас не любят и желают нам погибели, но было бы даже странно, если бы они думали по-другому». [10; 344]
Орест Георгиевич Верейский:
«Весна 1945 года застала нас в небольшом городке неподалеку от Кенигсберга. Наш Третий Белорусский фронт, выйдя к Балтийскому морю, закончил военные действия раньше других, воевавших тогда в сердце Европы. По дорогам Восточной Пруссии потекли людские толпы. Навстречу войскам шли, ехали на чем придется, с трудом передвигались люди, освобожденные из плена, неволи передовыми частями нашей армии. ‹…›
Александр Трифонович пристально наблюдал за этим живым потоком. Он рад был случаю угостить сигаретой, завязать разговор, обменяться шуткой. Люди были так возбуждены свободой, весной, возможностью общения, им хотелось говорить с кем угодно – слишком долго они молчали». [2; 186]
Аркадий Михайлович Разгон:
«…Март 1945 года, Восточная Пруссия. Город Хайлигенбайль. Балтика. Залив Фриш-Гаф. Страшные по своему ожесточению бои. Уже под вечер мы вышли к берегу залива. Там было много наших солдат. Свинцовые волны гнали на берег какие-то обломки, ящики, остатки разбитых судов.
Мы собирались в обратный путь, когда около одной из машин я увидел Твардовского. Он стоял на взгорке, у дерева, разбитого прямым попаданием снаряда. Сняв фуражку, Александр Трифонович задумчиво смотрел в сторону моря. Он обрадовался мне, как будто давно не видел знакомого человека, с кем можно было бы поговорить.
– Ну, все, – сказал Твардовский, держа меня за руку. – Дальше ему некуда. Вот прихлопнем его в Кенигсберге, и в Восточной Пруссии нам больше делать нечего.
Твардовский, как все фронтовики, не говорил „немец“, „фашист“, „гитлеровец“, заменяя все это местоимениями – „он“, „его“, „ему“». [2; 216]
Александр Трифонович Твардовский. Из рабочих тетрадей 1945 года:
«Можно, конечно, страдать от того, что происходит множество безобразий, ненужной и даже вредной жестокости (теперь только вполне понятно, как вели себя немцы у нас, когда мы видим, как мы себя ведем, хотя мы не немцы). Можно быть справедливо возмущенным тем, например, что на днях здесь отселяли несколько семей от железной дороги, дав им на это три часа сроку и разрешив „завтра“ приехать с саночками за вещами, а в течение ночи разграбили, загадили, перевернули вверх дном все, и, когда ревущие немки кое-что уложили на саночки, – у них таскали еще, что понравится, прямо из-под рук. Можно. Даже нельзя не возмущаться и не страдать от того, например, что в 500 метрах отсюда на хуторе лежит брошенный немцами мальчик, раненный, когда проходили бои, в ногу (раздроблена кость) и гниющий без всякой медицинской помощи и присмотра. И тем, что шофер мимоездом говорит тебе: вот здесь я вчера задавил немку. Насмерть? – Насмерть! – говорит он таким тоном, как будто ты хотел его оскорбить, предположив, что не насмерть. И еще многим. Но как нельзя на всякого немца и немку возложить ответственность за то, что делали немцы в Польше, России и т. д., и приходится признать, что все, сопутствующее оккупации, почти неизбежно, так же нельзя наивно думать, что наша оккупация, оправданная к тому же тем, что она потом, после, в отмщение, – что она могла бы проходить иначе.
Ничего умнее и справедливее того, что немцев нужно добить, не считаясь ни с чем, не давая никакого послабления, ужас их положения доводя до самых крайних крайностей, – ничего нет. Это меньшее страдание на земле, чем то, которое было и было бы при наличии неразгромленной Германии ‹…›». [10; 347]
Орест Георгиевич Верейский:
«День 9 мая был солнечный и жаркий. Этот день каждый, наверное, запомнил по-своему и навсегда. И вместе с тем волнение, охватившее нас, не давало возможности запомнить все ясно и последовательно. Все события этого необыкновенного дня сливаются в непрерывное ликование.
„Это был тот самый праздник, которого мы столько лет ждали в муках и горе, в безмерно огромном труде“, – писал Твардовский, вспоминая День Победы.
Я помню, как на залитой солнцем улице плакал пожилой солдат, как обнял его Твардовский, пытаясь успокоить. Солдат же бесконечно повторял одно и то же: „Сегодня люди перестали убивать друг друга!“
А вечером гремел салют из всех видов оружия. Стреляли все. Стрелял и Александр Трифонович. Палил из нагана в светлое от разноцветных трасс небо, стоя на крылечке аккуратного прусского домика – последнего нашего военного пристанища. Какой невообразимый, немыслимый, какой веселый шум стоял тогда… „И ни один из этих и множества иных звуков не принадлежал чужой силе…“ – писал Твардовский в том же своем очерке, назвав его „Утро праздника“.
Опустошив барабан, Александр Трифонович ушел к себе и заперся. Как ему писалось в этом неуемном шуме, всплесках хохота, нестройного хорового пения, среди всех этих звуков радости, рвавшейся наружу?» [2; 186–187]
Книга про бойца
Константин Михайлович Симонов:
«Во фронтовой обстановке война нас так ни разу за все четыре года и не свела. И все значение постоянной впряженности Твардовского в войну, от начала и до конца ее, сознавалось не через личные встречи с ним, а через все прибавляющиеся главы его „Василия Тёркина“. И через их прямое, и через их косвенное воздействие. Еще не законченная книга не только становилась на наших глазах частью народного духа. Больше того – через читавших, а порой и знавших ее наизусть, еще продолжавших воевать людей она делалась как бы неотъемлемой частью самой войны». [2; 366]
Александр Трифонович Твардовский. Из «Автобиографии»:
«„Книга про бойца“, каково бы ни было ее собственно литературное значение, в годы войны была для меня истинным счастьем: она дала мне ощущение очевидной полезности моего труда, чувство полной свободы обращения со стихом и словом в естественно сложившейся, непринужденной форме изложения. „Тёркин“ был для меня во взаимоотношениях поэта с его читателем – воюющим советским человеком – моей лирикой, моей публицистикой, песней и поучением, анекдотом и присказкой, разговором по душам и репликой к случаю». [8, I; 16]
Цезарь Самойлович Солодарь (1909–1992), прозаик, драматург, публицист:
«Многолетний поток писем, начавшийся в 1942 году, после появления первых глав „Книги про бойца“, побудил Александра Трифоновича дать в 1951 году „Ответ читателям «Василия Тёркина»“. В „Ответе…“ упоминается и неизменно удачливый, почти сказочный богатырь Вася Тёркин, чьи небывалые подвиги в боях с белофиннами изображались на страницах фронтовой газеты. Это были лубочного типа рисунки с веселыми и непритязательными стихотворными подписями. Поэт достоверно рассказал о некотором, хотя и отдаленном, родстве фельетонного Васи с его Василием Тёркиным – героем Великой Отечественной войны. Это он стал родоначальником династии лубочных героев военной поры – Гриши Танкина, Ивана Гвоздева, Прова Саблина и других неизменных участников четвертой полосы фронтовых газет. Их стоит помянуть добрым словом хотя бы потому, что они помогали на войне бойцам, которые не могли „прожить без прибаутки, шутки самой немудрой“.
Когда на летучке сотрудников газеты „На страже Родины“ в декабре 1939 года решили создать некую серию смешных рисунков о боевых похождениях смекалистого и хитроумного бойца, было высказано немало противоречивых суждений.
Наиболее немногословно высказался Твардовский. Я не решаюсь сейчас воспроизвести дословно высказывания Александра Трифоновича. Но мне, как и еще одному из зачинателей „Васи Тёркина“ – талантливому карикатуристу Василию Ивановичу Фомичеву, запомнилось: поэт говорил, что нужен традиционный русский лубок, пусть подвиги Васи удивят своей несбыточностью, лишь бы не были скучны. Простота, доступность, фельетонность – вот какие слова мы услышали тогда от Александра Трифоновича. Пусть читатель внимательно рассматривает рисунок, считал он, но подпись должна быть прочитана быстро, с ходу. По этому пути и пошли участники коллективной работы над иллюстрированными фельетонами о похождениях Васи. ‹…›
В середине февраля 1940 года было решено издать сборник „Вася Тёркин на фронте“ в виде иллюстрированного выпуска фронтовой библиотечки. Книжка открывалась стихотворением Твардовского, за которым следовали шестнадцать серий рисунков со стихотворными подписями разных авторов, но главным образом Николая Щербакова, который много работал в газете над этой темой. Книжку издали в полном смысле слова „молнией“, ее сдали в набор и подписали к печати в один и тот же день – 19 февраля». [2; 131–133]
Орест Георгиевич Верейский:
«Он прибыл в газету Западного фронта „Красноармейская правда“ уже известным писателем. ‹…›
Мы стояли тогда в густом лесу под Малоярославцем. Наши палатки были раскинуты под прикрытием деревьев, а неподалеку на железнодорожной ветке стоял замаскированный редакционный состав. ‹…›
В ту пору в литературном составе редакции работали писатели Вадим Кожевников, Евгений Воробьев, Морис Слободской, Цезарь Солодарь. Все они, наверное, помнят, как мы собрались однажды в полутемном от маскировки редакционном салон-вагоне и Твардовский стал читать нам первые, еще нигде не публиковавшиеся главы „Василия Тёркина“, которые он привез с собой. Он сидел у стола, и заметно было, как он волнуется. Мы же еще не знали, что нам предстоит услышать. Многие ждали веселых приключений лихого солдата, вроде того „Васи Тёркина“, что писался группой поэтов в уголке юмора газеты „На страже Родины“ во время финской кампании.
Но вот он начал читать:
- На войне, в пыли походной,
- В летний зной и в холода,
- Лучше нет простой, природной –
- Из колодца, из пруда,
- Из трубы водопроводной,
- Из копытного следа,
- Из реки, какой угодно,
- Из ручья, из-подо льда, –
- Лучше нет воды холодной,
- Лишь вода была б – вода.
Сейчас эти строки звучат для нас как вступление к знакомой, любимой поэме. Тогда услышали мы их впервые. И читал их Твардовский. ‹…›
Последняя, заключительная глава „От автора“ была написана или, во всяком случае, начата в памятную ночь с 9 на 10 мая 1945 года». [2; 181–182]