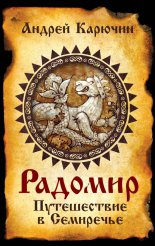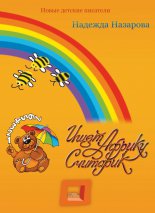Твардовский без глянца Фокин Павел

Подвигалось дело медленно, со страшной тратой сил на то, что потом отпадало решительно, с топтаньем на месте, с удручающей неотвязностью какого-либо словечка или оборота, который, глядишь, вовсе и не обязателен, с уклонениями в сторону, с излишеством детализации, сухостью словаря, надоедностью вводных и т. п.
Для автопародии:
- Будь здоров, как говорится,
- До свиданья, так сказать…
Но продвигаюсь, чувствую, продвигаюсь, откатываясь порой назад в смятенье и безнадежность и все же возвращаясь и направляясь к некоему берегу, как тот буй, что я выловил в море.
Не в первый раз я один на один с неизвестностью, неподсказанностью и незаказанностью темы, но вряд ли когда в такой мере, как сейчас. Один на один с ее неправомочностью в понятиях „кругов“, с ее незабытой компрометацией и с тем, что я могу огорчить даже „благожелателей“ этой темы, которые знают первоначальное ее решение, против которого все может казаться чем-то уже не тем. Однако я бы уже ни за что не напечатал бы не только первый, но и последний машинописный текст». [11, I; 66–68, 82–85, 109]
Владимир Яковлевич Лакшин. Из дневника:
«25.ХII.1962
На квартире у Саца на Арбате Твардовский впервые читал нам обновленного „Тёркина на том свете“. „Еще что-то доделывать буду, но поле обежал“, – сказал Александр Трифонович. ‹…›
Александр Трифонович рассказывал, что родилась поэма из главки прежнего, „военного Тёркина“, где появлялась Смерть. Когда в 54-м году эту поэму осудили, он не бросил работать над ней, занимался до осени 1956 года. Потом Венгрия – и опять отложил. Возвратился к ней в 61-м году. „Чувствую сам, стало гуще в середке“». [5; 95]
Александр Трифонович Твардовский. Из дневника:
«5.ХII.1962. Пицунда
Начал монтировать общий план, смыкая вставки (гл. образом, о двух тех светах). Идет, набегают новые строчки, образуются связки, переходы. Теперь уж, действительно, задача – подвести все под одну крышу, и чтобы середина не провисала. О двух тех светах – это или весьма хорошо, или абсолютно невозможно. Но, как вспомню герценовские слова (откуда?) о том, что если явление, понятие, личность в своем величии не допускает возможности улыбки, шутки по своему поводу, то тут что-то не так. Ничего, нужно только все время на слух выверять – не дешевка ли. Но мне было так приятно все это переписывать, подключая к машинописным страницам, – это надежная примета. ‹…›
13. ХII.1962. Пицунда
Все эти дни, как узнал, что 17.ХII. встреча с Президиумом, гоню, гоню, сшиваю на ходу, вставляю строфы, выбрасываю, только бы „поле оббежать“. Миновал уже самое трудное – „середину“, на которой печать „прежнего“ „Т[еркина] на том свете“ все же остается, хотя многое подтянулось и подстроилось („домино“ и „заседание“) в более энергичный ряд.
Так ли, сяк – на машинку есть что сдавать, а там еще работать и работать, доводить, наращивать, отчищать. Все же это – как будто курицу, уже однажды сваренную, остывшую, вновь и вновь разогревать, варить, приправлять – уже от той птицы ничего почти не осталось. Не дай бог утвердиться в таком сравнении. Нет, в работе есть движение, она далеко позади оставила первые варианты, – все сложнее, глубже, острее (порой до немыслимости опубликования). ‹…›
30. I.1963. Карачарово
Добежал-таки, кажется, до конца, какой он ни есть. И хотя хорошему настроению, которое держится у меня все эти дни, доверять вполне нельзя, все же преодоление того уже почти отвращения к этой моей много раз возобновляемой работе и ‹почти› безнадежности – кое-что». [11, I; 134–140, 165–166]
Владимир Яковлевич Лакшин. Из дневника:
«5.VII.1963
Сегодня Александр Трифонович звонил В. С. Лебедеву, чтобы сговориться с ним и передать Хрущеву рукопись поэмы. Кто-то усомнился, удачен ли момент. „По-моему, не шутя, сейчас для этого самое подходящее время, – отвечал Твардовский. – После Пленума важно показать, что литература жива. Я убежден, что «Тёркина…» напечатают“. ‹…›
8. VII.1963
Александр Трифонович разговаривал с В. С. Лебедевым о „Тёркине на том свете“, рукопись которого прежде передал ему.
Лебедев: Я убежден, что это будет напечатано. Но, конечно, вещь трудная. Все ли правильно поймут?
А. Т.: Я уверен, что народ поймет правильно.
Лебедев: А читать – одно наслаждение. Вы правы, это совсем новая вещь в сравнении с вариантом 1954 года.
Поцелуи, поздравления, пометок на рукописи никаких.
Н. С. Хрущев, вернувшись из Киева, будет, кажется, встречаться с Твардовским среди первых». [5; 137–140]
Александр Трифонович Твардовский. Из дневника: «8.VII.1963
В пятницу передал Вл[адимиру] Сем[енови]чу „Т[еркина] на т[ом] св[ете]“. В субботу он позвонил: „Поздравляю“, „очень сильно“, „читать одно наслаждение“, „в сущности, это новая вещь“ и т. п. Сегодня звоню я и иду выслушивать „отдельные замечания“. – Вряд ли когда стоял так вопрос в смысле всей дальнейшей л[итературной] судьбы. – Стоял! И не один раз: „Муравия“, „Тёркин“, „Дом у дороги“, „Дали“ – всякий раз было так: или – или.
Но в данном случае дело связано с дальнейшим моим пребыванием на посту или уходом с такового ‹…›.
А если – победа? – Вчера весь день и всю ночь был в состоянии не то счастья, не то тревоги, работал на участке – косил, подчищал дубы, выкорчевывал внизу ср[еднего] сада голенастую яблоню и порубил на дрова сучья, а ствол оставил до пилы». [11, I; 182]
Владимир Яковлевич Лакшин. Из дневника:
«12.VII.1963
С утра в редакции Александр Трифонович в моем присутствии говорил с главным редактором Гослитиздата А. И. Пузиковым, просил, молил задержать вторую верстку двухтомника поэм. „У меня есть планы… Я кое-что хочу сделать по составу во втором томе“. Потом положил трубку и подмигнул мне. „Думаю я о некой поэме, да не могу ее Пузикову назвать. Первый том получился толстый, а второй – тощий. Так хорошо было бы туда подбавить одну вещь… Совсем по-другому бы все издание заиграло“.
Ему по-детски хочется видеть „Тёркина на том свете“ напечатанным. И в то же время мучительное самоограничение – сказать-то о поэме нельзя.
„Я теперь, выходит, ничего не могу напечатать, не показав «наверху». Мария Илларионовна говорит: это что же, Саша, вроде «я сам буду твоим цензором»? И, кажется, права“. ‹…›
14. VIII. 1963
Ура! „Тёркин…“ разрешен. Я понял это из утренней газеты, а потом поспешил в редакцию. Но опоздал немного… Трифоныч был с утра и рассказывал, как все совершилось. Предполагается печатать „Тёркина…“ в ближайшем „Новом мире“ и одновременно (даже с неизбежным опережением) в „Известиях“. Это, конечно, подрывает успех поэмы у нас в журнале. Ну да бог с ним, тут расчет малый в сравнении с серьезностью случившегося.
16. VIII.1963
‹…› Поэму сегодня сдали в набор – для журнала и для „Известий“». [5; 141, 152]
Александр Трифонович Твардовский. Из дневника: «18.VIII.1963. Внуково
Сегодня по крайней мере 5 мил[лионов] человек читают мою вещь, известную некоторому кругу читателей с 54-го г. и до последнего дня (вчерашнего) не называвшуюся по ее заглавию, даже после двух строк в сообщении о приеме Н. С. Хрущевым „европейских“ писателей: „С большим интересом участники прослушали новую поэму А. Т. Твардовского, прочитанную автором“.
Появление ее даже подготовленным к этому людям представляется невероятным, исключительным, не укладывающимся ни в какой ряд после совещаний и пленума. – Третьего дня В. Некрасов исключен из партии одним из киевских райкомов. М. б., появись „Тёркин“ днем раньше, этого не случилось бы. Впрочем, у нас все возможно и все необязательно. ‹…›
Все это событие укладывается в несколько решающих часов и похоже на цепь случайностей, счастливых совпадений. – В самолете еще я подбросил мыслишку В[ладимиру] С[еменовичу] (Лебедеву, помощнику Н. С. Хрущева. – Сост.), что читать мог бы и в присутствии коллег – русских писателей, прибывающих с „европейцами“ для встречи. В Адлере мы сели завтракать в Доме творчества Литфонда, а В[ладимир] С[еменович] поехал сразу в Пицунду, чтобы встречать нас там.
Приезд. – Отсутствие „предбанника“, где можно было бы переменить рубашку, как предполагалось. ‹…› Встреча, осмотр „хаты“ (веранда, спортзал, бассейн морской воды, где Н[икита] С[ергеевич], обходя его, нажал некую кнопку, и вслед двинулась из стены дома стеклянная штора, говорят, 80 м в длину – это на случай дурной погоды). Официальная часть встречи в спортзале, где вдруг появился Аджубей в зебровой безрукавке и его бледная Рада. Речь Н[икиты] С[ергеевича] в духе „классовой борьбы“, „идеологического несосуществования“ и т. п. Он представлял себе дело не иначе как так, что перед ним соц[иалистические] писатели и писатели буржуазные, „слуги капитала“. Но все ничего. „Мы с вами пообедаем“, – это раза 3–4. ‹…› Обед в другом помещении в 300 м от дачи Н[икиты] С[ергеевича], по-видимому, cпециального назначения для приемов. – В ходе обеда В[ладимир] С[еменович] (раньше он только сказал, что чтение состоится сегодня, когда проводят иностранных гостей) подошел с новым предложением: не читать ли мне уж и в присутствии гостей (англичане и итальянцы уже простились)? Я, конечно, согласился. Вскоре Н[икита] С[ергеевич] объявил меня: „поэксплуатируем“. – Чтение было хорошее, Н[икита] С[ергеевич] почти все время улыбался, иногда даже смеялся тихо, по-стариковски (этот смех у него я знаю – очень приятный, простодушный и даже чем-то трогательный). В середине чтения примерно я попросил разрешения сделать две затяжки. – „Конечно, конечно“, хотя никто, кажется, кроме Шолохова и меня, сидевшего с ним, (до чтения) на самом конце стола, не курил. Дочитывал в поту от волнения и от взятого темпа, несколько напряженного, – увидел потом, что мятая моя дорожная, накануне еще ношенная весь день рубашка – светло-синяя – на груди потемнела – была мокра. – Кончил, раздались аплодисменты. Н[икита] С[ергеевич] встал, протянул мне руку: „Поздравляю. Спасибо“. Тут пошли было некоторые реплики похвалы, но Сурков быстро сообразил, что „обсуждение“ не должно быть, и предложил тост за необычный факт прослушивания главой великого государства в присутствии литераторов, в том числе иностранных, нового произведения отечественного поэта! Потом я, решительно не принимавший ничего за столом (как и накануне), попросил у Н[икиты] С[ергеевича] разрешения (это было довольно смело) „промочить горло“. Он пододвинул мне коньяк, я налил. „Налейте и мне, – сказал он, – пока врача вблизи нету“. Когда я наливал ему, рука так позорно дрожала, что это многие заметили, но, конечно, это могло быть отнесено только за счет волнения. – И, собственно, дело совершилося, – подошел Аджубей с конкретными предложениями, посулами соблюдения всех необходимых условий и т. п.». [11, I; 183–185]
Владимир Яковлевич Лакшин. Из дневника:
«30.VIII.1963
‹…› Твардовский рассказывает, что этот „загробный Тёркин…“ писался так долго, что кое-что из него сублимировалось в „Далях“ – в главе „Фронт и тыл“, в вагонном разговоре с критиком и т. д. Какие-то образы, строки невольно расходились и по другим вещам, пока поэма лежала. „Я лучше всех знаю недостатки нынешнего «Тёркина…», – говорит Александр Трифонович, – знаю, что тут темновато, усложнено, плохо, но поправлять уже не буду, пусть как на нынешний день сложился, так и живет ‹…›“». [5; 160]
Звездный час редактора
Александр Исаевич Солженицын:
«Сам я в „Новый мир“ не пошёл: просто ноги не тянулись, не предвидя успеха. Мне было 43 года, и достаточно я уже колотился на свете, чтоб идти в редакцию начинающим мальчиком. Мой тюремный друг Лев Копелев взялся передать рукопись. Хотя шесть авторских листов, но это было совсем тонко: ведь с двух сторон, без полей и строка вплотную к строке. ‹…›
Это было начало ноября 1961. ‹…›
Однако 9 декабря от Л. Копелева пришла телеграмма: „Александр Трифонович восхищён статьёй“ („статьёй“ договорились мы зашифровать рассказ, статья могла бы быть и по методике математики). Как птица с лёта ударяется в стекло – так пришла та телеграмма. И кончилась многолетняя неподвижность. Ещё через день (в день моего рожденья как раз) пришла телеграмма и от самого Твардовского – вызов в редакцию. А еще на завтра я ехал в Москву и, пересекая Страстную площадь к „Новому миру“, суеверно задержался около памятника Пушкину – отчасти поддержки просил, отчасти обещал, что путь свой знаю, не ошибусь. Вышло вроде молитвы.
Вместе с Копелевым мы поднялись по широкой барской лестнице „Нового мира“ – в кино эту лестницу снимать для сцены бала. Был полдень, но Твардовский ещё не приезжал, да и редакция только что собралась, так поздно они начинали. Стали знакомиться в отделе прозы. Редактор его Анна Самойловна Берзер сыграла главную роль в вознесении моего рассказа в руки Твардовского. ‹…›
Как Твардовский потом рассказывал, он вечером лёг в кровать и взял рукопись. Однако после двух-трёх страниц решил, что лёжа не почитаешь. Встал, оделся. Домашние его уже спали, а он всю ночь, перемежая с чаем на кухне, читал рассказ – первый раз, потом и второй (ничего моего последующего он второй раз не читал, и вообще, говорят, никаких рукописей второй раз не читает, даже и после авторских уступок). Так прошла ночь, пошли часы по-крестьянскому утренние, но для литераторов ещё ночные, и приходилось ждать ещё. Уже Твардовский и не ложился. Он звонил Кондратовичу и велел узнавать у Берзер: кто же автор и где он. Так получена была цепочка на Копелева, и теперь Твардовский звонил туда. Особенно понравилось ему, что это – не мистификация какого-нибудь известного пера (впрочем, он и уверен был), что автор – и не литератор, и не москвич.
Для Твардовского начались счастливые дни открытия: он бросился с рукописью по своим друзьям и требовал выставлять бутылку на стол в честь появления нового писателя. Надо знать Твардовского: в том он и истый редактор, не как другие, что до дрожи, до страсти золотодобытчика любит открывать новых авторов. ‹…›
Приехал Твардовский, и меня позвали в их большую редакционную комнату (новомирцы тогда располагались тесно, и кабинет Твардовского считался в углу той же комнаты). ‹…›
Вся головка редакции расселась за большим старинным долгоовальным столом, я – против Александра Трифоновича. Он очень старался сдерживаться и вести себя солидно, но это ему мало удавалось: он всё больше сиял. Сейчас был один из самых счастливых его моментов, именинником за столом был не я – он.
Он смотрел на меня с доброжелательством, уже почти переходящим в любовь. Он неторопливо перебирал те разные примеры из рассказа, мелкие и крупные, что приходили ему на ум, – перебирал с удовольствием, гордостью и радостью даже не открывателя, не покровителя, а творца; он с такой ласковостью и умилением цитировал, будто сам это все выстрадал и это даже любимая его вещь. ‹…›
Всего-то замечаний было у Твардовского – обходительных просьб, самым бережным голосом высказанных! – два: что не может Иван Денисович зариться на левую чужую работу – раскраску ковров; и что не может он совсем уж не допускать, что ступит когда-нибудь на волю. Так это, пожалуй, и верно было, это я легко тут же пообещал. А Закс произнёс, что не может Иван Денисович всерьёз верить, что Бог луну на звёзды крошит. А Марьямов указал мне на два-три неверных украинских слова. ‹…›
Предложили мне для весу назвать рассказ повестью – ну, ин пусть будет повесть. Ещё, не допуская возражений, сказал Твардовский, что с названием „Щ-854“ повесть никогда не сможет быть напечатана. Не знал я их страсти к смягчающим, разводняющим переименованиям, и тоже не стал отстаивать. Переброской предположений через стол с участием Копелева сочинили совместно: „Один день Ивана Денисовича“. ‹…›
Расспрашивали о моей жизни, прошлой и настоящей, и все смущённо смолкли, когда я бодро ответил, что зарабатываю преподаванием шестьдесят рублей в месяц, и мне этого хватает. (Я в Рязани и не хотел полной ставки, чтобы время было, а при высокой зарплате жены она сама содержала своих трёх старушек.) Такие цифры для литераторов вообще за чертой понимания, за несколько строк рецензии столько платят. Да и одет я был в уровень со своей зарплатой. Властно и радостно распорядился Твардовский тут же заключить со мной договор по высшей принятой у них ставке (один аванс – моя двухлетняя зарплата). Я сидел как в дурмане, силясь держать внимание на том, чтобы не сказать о себе лишнего.
Упорнее всего Твардовский и редакция добивались: а что у меня есть ещё? ещё – что? ещё? Пробегая мои похороненные от 1948-го года пласты, я выбирал, что ж им назвать. Едучи сюда, я не готовился ничего больше открывать, но что-то надо было, трудно было убедить их, что „Иван Денисович“ написан как первая проба пера. ‹…›
Пообещал я, что покопаюсь к следующему разу, что кажется еще у меня рассказик найдется, да несколько этюдиков, да несколько стихов». [7; 22–29]
Владимир Яковлевич Лакшин. Из дневника:
«23.VII.1962
Пришел в редакцию, открыл дверь в кабинет Александра Трифоновича, а там полно народу за „моим“ длинным столом. На столе чай с бубликами – обсуждают Солженицына. Александр Трифонович поманил меня, представил автору, пригласил принять участие в разговоре.
Солженицына я вижу впервые. Это человек лет сорока, некрасивый, в летнем костюме – холщовых брюках и рубашке с расстегнутым воротом. Внешность простоватая, глаза посажены глубоко. На лбу шрам. Спокоен, сдержан, но не смущен. Говорит хорошо, складно, внятно, с исключительным чувством достоинства. Смеется открыто, показывая два ряда крупных зубов.
Твардовский предложил ему – в максимально деликатной форме, ненавязчиво – подумать о замечаниях Лебедева и Черноуцана (работники ЦК КПСС. – Сост.). Скажем, прибавить праведного возмущения кавторангу (капитан второго ранга, воинское звание в Красной Армии. – Сост.), снять оттенок сочувствия бендеровцам, дать кого-то из лагерного начальства (надзирателя хотя бы) в более примиренных, сдержанных тонах, не все же там были негодяи.
‹…› В ходе разговора Твардовский неосторожно упомянул о красном карандаше, который в последнюю минуту может то либо другое вычеркнуть из повести. Солженицын встревожился и попросил объяснить, что это значит. Может ли редакция или цензура убрать что-то, не показав ему текста? „Мне цельность этой вещи дороже ее напечатания“, – сказал он.
Солженицын тщательно записал все замечания и предложения. Сказал, что делит их на три разряда: те, с которыми он может согласиться, даже считает, что они идут на пользу; те, о которых он будет думать, трудные для него; и наконец, невозможные – те, с которыми он не хочет видеть вещь напечатанной.
Твардовский предлагал свои поправки робко, почти смущенно, а когда Солженицын брал слово, смотрел на него с любовью и тут же соглашался, если возражения автора были основательны.
Когда же заговорил Дементьев, Александр Трифонович весь обеспокоился, напрягся внутренне, и едва тот начал „кумекать“, с легкой усмешкой покачал головой». [5; 65–66]
Александр Трифонович Твардовский. Из дневника: «16.IХ.1962. Москва
Счастье, что эту новую (после черной клеенчатой) тетрадь я начинаю с записи факта, знаменательного не только для моей каждодневной жизни и не только имеющего, как мне кажется, значение в ней поворотного момента, но обещающего серьезные последствия в общем ходе литературных (следовательно, и не только литературных) дел: Солженицын („Один день“) одобрен Н[икитой] С[ергееви]чем.
Вчера после телефонного разговора с Лебедевым ‹…›, я даже кинулся обнять ее и поцеловать и заплакал от радости, хотя, м. б., от последнего мог бы и удержаться, – но мне и эта способность расплакаться в трезвом виде в данном случае была приятна самому.
В ближайшие дни я должен быть на месте – Н[икита] С[ергеевич] пригласит меня – завтра или в какой-нибудь другой день, – словом, Лебедев просил меня не отлучаться, даже в См[олен]ск, – все это я, конечно, понял как обеспечение моей „формы“ на случай вызова, но бог с вами!
„Он вам сам все расскажет, он под свежим впечатлением…“ Но понемногу Лебедев мне уже все рассказал, предупредив, что это все только между нами. Н[икита] С[ергеевич] „прочел“ (ему читал Лебедев – это даже трогательно, что старик любит, чтобы ему читали вслух, – настолько он отвык быть один на один с чем бы то ни было. Но так или иначе – прочел. (Каюсь на этой странице, что на это я не надеялся и, больше того, надеялся, что он не станет читать, доверится моему письму и докладу Лебедева и скажет, что, мол, пусть их там, „по своему усмотрению“. Ан – вышло куда круче!)
Прочел и, по всему, был не на шутку взволнован. – „Первую половину мы читали в часы отдыха, а потом уж он отодвинул с утра все бумаги: давай, читай до конца. Потом пригласил (или сами пришли) Микояна и Ворошилова (!). Начал им вычитывать отдельные места, напр[имер], про ковры… Вы захватите новый экземпляр, а то этот забрал Микоян“. ‹…›
Есть два-три замечания, которых я не понял в изложении Лебедева и не придал им сколько-нибудь серьезного значения в отвлечении тех минут разговора (главным смыслом). ‹…›
Но все это мелочи, я с ними слажу даже без Солженицына, хотя уже держу в уме слова телеграммы, которую пошлю ему после встречи с Н[икитой] С[ергеевичем]: „Поздравляю победой выезжайте Москву“. И сам переживаю эти слова так, как будто они обращены ко мне самому. – Счастье.
И, как всякое счастье, оно рождает в душе потребность нового, еще большего счастья, всей его полноты ‹…›.
Боюсь предвосхищений, но верится, что опубликование Солженицына явится стойким поворотным пунктом в жизни литературы, многое уже будет тотчас же невозможно, и многое доброе – сразу возможным и естественным». [11, I; 111–113]
Александр Исаевич Солженицын:
«На даче в Пицунде Лебедев стал читать Хрущёву вслух (сам Никита вообще читать не любил, образование старался черпать из фильмов). Никита хорошо слушал эту забавную повесть, где нужно смеялся, где нужно ахал и крякал, а со средины потребовал позвать Микояна, слушать вместе. Всё было одобрено до конца, и особенно понравилась, конечно, сцена труда, „как Иван Денисович раствор бережёт“ (это Хрущёв потом и на кремлёвской встрече говорил). Микоян Хрущёву не возразил, судьба повести в этом домашнем чтении и была решена. Однако Хрущёв хотел всё обставить демократично.
Недели через две, когда уже вернулся он из отпуска в Москву, получил „Новый мир“ среди дня распоряжение из ЦК: к утру представить ни много ни мало – 23 экземпляра повести. А в редакции их было три. Напечатать на машинке? Невозможно успеть! Стало быть, надо пустить в набор. Заняли несколько наборных машин типографии „Известий“, раздали наборщикам куски повести, и те набирали в полном недоумении. Так же по кускам и корректоры „Нового мира“ проверяли ночью, в отчаянии от необычных слов, необычной расстановки и дивуясь содержанию. А потом переплётчик в предутреннюю вахту переплёл все 25 в синий картон „Нового мира“, и утром, как если б это труда не составило никому никакого, 23 экземпляра было представлено в ЦК, а типографские наборы упрятаны в спецхранение, под замок. Хрущёв велел раздать экземпляры ведущим партвождям, а сам поехал налаживать сельское хозяйство Средней Азии.
Он вернулся недели через две под роковыми для себя звёздами середины октября. На очередном заседании политбюро (тогда – „президиума“) стал Никита требовать от членов согласия на опубликование. Достоверно мне не известно, но кажется всё-таки члены политбюро согласия не проявляли. Многие отмалчивались („чего молчите?“ – требовал Никита), кто-то осмелился спросить: „А на чью мельницу это будет воду лить?“ Но был в то время Никита „я всех вас давишь!“ по сказке, да не обошлось, наверно, и без похвал, как Иван Денисович честно кирпичи кладёт. И постановлено было – печатать „Ивана Денисовича“. Во всяком случае решительного голоса против не раздалось». [7; 41–42]
Александр Трифонович Твардовский. Из дневника:
«21.Х.1962. Москва
Вчера, наконец, состоялась встреча с Н[икитой] С[ергеевичем], которая последние 1–1 м[еся]ца составляла в перспективе главную мою заботу, напряжение, а последние дни просто-таки мучительное нетерпение. И если не вчера, то лишь, м. б., накануне, мне пришла простая догадка о том, что Н[икита] С[ергеевич] знать не знает о том, что я знаю о его намерении встретиться со мной. Поэтому-то никакими обязательствами обещания, назначенности дня – как если бы я сам просил о приеме, или он уведомил меня о своем желании видеть меня – ничего этого у него не могло быть. И я не мог даже посетовать на него, – так уж все это сложилось. В четверг мне Лебедев сказал, что „либо завтра (т. е. в пятницу), либо послезавтра (в субботу)“. Пятница прошла – ни звука. Утром вчера Лебедев посоветовал окончательно: „Позвоните“. – Поехать на вертушку? – „Зачем, по городскому“. – Соединят ли? – „Я там договорился с т. Серегиным“.
Звоню: „Товарищ Серегин?“ – „Да, товарищ Серегин“, – отвечает тов. Серегин. – Нельзя ли просить… – Нет, по этому телефону он не может. Я доложу и позвоню вам. –
Не менее чем через час: „Приезжайте к нам“. – Ждал в приемной недолго – минут все же 15. Из кабинета напротив хрущевской двери вышел человек, поздоровался: „попьете чайку“. Встал навстречу, приветливо поздоровался, несколько слов насчет здоровья, возраста. ‹…›
– Ну, так вот насчет „Иван Денисовича“ (это в его устах было и имя героя и как бы имя автора – в ходе речи). Я начал читать, признаюсь, с некоторым предубеждением и прочел не сразу, поначалу как-то не особенно забирало. Правда, я вообще лишен возможности читать запоем. А потом пошло и пошло. Вторую половину мы уж вместе с Микояном читали. Да, материал необычный, но, я скажу, и стиль, и язык необычный – не вдруг пошло. Что ж, я считаю, вещь сильная, очень. И она не вызывает, несмотря на такой материал, чувства тяжелого, хотя там много горечи. Я считаю, эта вещь жизнеутверждающая (это слово было в моем рукописном предисловии), в отпечатанном (20 экз.) уже не было – меня уговорили Дем[ентьев] и др. опустить это слово, хотя я, право же, не считал его вынужденным, но, верно, оно и банальное, и в сочетании с „материалом“ звучит несколько фальшиво. Вещь жизнеутверждающая. И написана, я считаю, с партийных позиций.
– Надо сказать, не все и не сразу так приняли вещь. Я тут дал ее почитать членам Президиума. Ну, как, говорю, на заседании (в пятницу, 12.Х.?). Ну, не сразу.
– Как же, если мы говорим на ХХII съезде то, чему люди должны были поверить, – поверили, как же мы им самим не будем давать говорить то же самое, хотя по-своему, другими словами? Подумайте. На следующем Президиуме мнения сошлись на том, что вещь нужно публиковать. Правда, некоторые говорили, что напечатать можно, но желательно было бы смягчить обрисовку лагерной администрации, чтобы не очернять работников НКВД. – Вы что же, – говорю, – думаете, что там не было этого (жестокостей и т. п.). Было, и люди такие подбирались, и весь порядок (беззакония) к тому вел. Это – не дом отдыха.
Начиная отсюда, как и в других случаях беседы, он обращается к своей неизменной теме – злодеяния и т. п. сталинской поры. ‹…›
– Я обратился к Вам, Н[икита] С[ергеевич], с этой рукописью потому, что, говоря откровенно, мой редакторский опыт с непреложностью говорил мне, что если я не обращусь к вам, эту талантливую вещь зарежут.
– Зарежут, – с готовностью подтвердил он. – Я напомнил ему, что заключительные главы „Далей“ были запрещены. („Кто это мог, как это могло случиться?“ – повторил он те свои слова, которые я слышал от Лебедева).
Отсюда я – к вопросу (второму в моем плане-памятке, затверженной перед этой беседой) о цензуре. Все по схеме, выработанной мной в многократных дружеских изъяснениях в своем кругу, т. е.:
– „Современник“ Некрасова и правительство Николая I или Александра II – два разных, враждебных друг другу лагеря. Там цензура – дело естественное и само собой разумеющееся. А, например, „Новый мир“ и Советское прав[ительст]во – это один лагерь. Я, редактор, назначен ЦК. Зачем же надо мной еще редактор-цензор, которого заведомо ЦК никогда не назначил бы редактором журнала – по его некомпетентности, а он вправе, этот редактор над редактором, изъять любую статью, потребовать таких-то купюр и т. п. ‹…›
– Я с вами совершенно согласен.
И опять отвлекся в сторону разных характеристик периода культа личности…» [11, I; 122–125]
Владимир Яковлевич Лакшин. Из дневника:
«3.ХI.1962
‹…› Когда собрались сотрудники и началось застолье, Александр Трифонович сказал неольшую поздравительную речь, обращаясь ко всем, кто тесно сидел за длинным столом. Говорил о радости 11-го номера, о том, что больше всего ценит в любом сотруднике, вне зависимости от возраста и положения, одно качество – любовь к журналу. Особо обратился к корректорам – призывал их блюсти „культуру журнальной страницы“. ‹…›
Имя Солженицына было у всех на устах, пили за его здоровье, радовались его повести как огромной журнальной победе.
Александр Трифонович всегда говорил, что верует и исповедует: все истинно талантливое в литературе пробьет себе дорогу. Нет гениальной вещи в писательском столе, которую нельзя было бы напечатать. „Один день“ тут величайший искус: не напечатать его значило потерять свой оптимизм, веру в то, что в конечном счете все устраивается правильно, и писателю надо сетовать не на цензуру, не на редакторов, а лишь на самого себя: не сумел, не смог сделать вещь „победительной“». [5; 81]
Александр Трифонович Твардовский. Из дневника:
«17.ХI.1962. Москва
Почти круглый месяц с того дня, как вышел из кабинета Н[икиты] С[ергеевича], вышел – и пошел. Нет, нельзя сказать, чтобы все дни были неразумны, заставляли мучиться стыдом за себя, за несдержанность в радости, за болтовню и пр., но были и такие именно.
Самое же главное в этих днях чувство, сперва даже не осваиваемое мыслью, что вместе с добром поперло вдруг такое, против чего душа бессильна быть спокойной и твердой. Нет, нужно помнить, что ничто в чистом виде не приходит – говно обязательно поплывет поверх потока, и как будто поток только для того и родился, чтобы нести на себе его. ‹…›
Третьего дня был у меня Солженицын. Опять – молодец, умен и чист, полон энергии, которой, впрочем, его бы не лишила и „катастрофа“ с „Денисычем“. Был только чуть более возбужден, говорлив, но все равно умен и хорош. Подержал в руках сигнал одиннадцатого, чуть было я его не дал ему (только что, к концу дня, полученный), но потом воспользовался его словами: „м. б., вам самим он нужен“ – и удержался. Вчера ему был уже послан экземпляр.
Оставил рассказ (на этот раз я озаботился, чтобы рукопись не пошла по редакции до меня) „Случай на станции Кречетовка“. Опять хорошо, опять умно и сердечно, только чуть посырее в языке и чуть-чуть тороплива концовка. Вызвал его телеграммой к телефону. Почитать дал только Дементьеву для доп[олнительной] проверки – раз уж тот говорит – хорошо, можно, то уж мне нечего осторожничать.
Неприятности по редакции при сознании своей обычной вины – набрасываюсь на журнал рывками, порывами, даже успеваю делать и самое главное и даже всякую мелочь переписки. ‹…›
18. ХI.1962
К сегодняшнему приезду Солженицына перечитал с пяти утра его „Праведницу“. Боже мой, писатель. Никаких шуток. Писатель, единственно озабоченный выражением того, что у него лежит „на базе“ ума и сердца. Ни тени стремления „попасть в яблочко“, потрафить, облегчить задачу редактора или критика, – как хочешь, так и выворачивайся, а я со своего не сойду. Разве что только дальше могу пойти.
Прошлый раз он говорил:
– Как я рад, что в вас не ошибся.
Но разве дело в том, что он во мне не ошибся, дело в том, что я в нем и в себе не ошибся.
– А я знал, что Хрущеву понравится. Знаете, он все-таки изо всех них – один. Человек. Так я и знал, что это должно понравиться вам и ему. На две эти точки опирался – на вас и на него.
– Ну, я и он – это „точки“ на слишком разной высоте.
– Для меня на одинаковой, примерно. И я знал, что без вас это до него не дойдет. ‹…›
Перечислил мне по пальцам, что и в каком порядке будет давать мне („Я не хочу терять благоприятный срок, знаю, что он может и прерваться“).
– Значит, Матрена у вас, теперь этот („Случай на станции“) рассказ. Сейчас перебеляю пьесу, – это комедия из жизни заключенных. Странно? А – так…
– Потом – стихи. Вы мне сказали при первой встрече, что говорили бы о моих стихах, если бы не знали прозы, „Ивана Денисыча“. Но я хочу вам подобрать цикл, что захотите – возьмете, не захотите – ладно. Но для меня они дороги. Ужасно, что Некрасов пишет целую повесть про стерву, которая… Не с таких начинать…
– Эту поэму (о Сталине, с которым у него „особые счеты“) я вынес в голове из тюрьмы, где за клочок бумаги или огрызок карандаша полагался „кондей“, а обыскивали по два, по три раза в день…
– Потом – мечта моя, моя „главная книга“ – роман о годах 1917–1930. Не все понимают, что 37 г. – это лишь бледное зарево тридцатого». [11, I; 127–130]
Владимир Яковлевич Лакшин. Из дневника:
«20.XI.1962
В ближайшие дни после выхода в свет № 11 состоялся очередной Пленум ЦК. У типографии запросили 2200 экземпляров журнала, чтобы продавать его в киосках на Пленуме.
Кто-то пошутил: „Они же доклад обсуждать не будут, все «Ивана Денисовича» будут читать“. Ажиотаж страшный, журнал рвут из рук, в библиотеках с утра на него очереди.
Твардовский был на Пленуме и говорил, что сердце у него заколотилось, когда он увидел в разных концах зала голубенькие книжки». [5; 84]
Александр Трифонович Твардовский. Из дневника:
«20.ХI.1962
После вечернего заседания вышел из зала – ух ты: почти у всех в руках вместе с красной обложкой только что розданного доклада – синяя „Н. М.“, № 11 (подвезли, кажется, 2000). Спустился вниз, где всякая культторговля, – очереди (несколько) к стопкам „Н. М.“. И это не та покупка, когда высматривают, выбирают, а когда давай, давай – останется ли…
Вечером поделился с Заксом, а он говорит, что весь день в редакции бог весть что – звонки, паломничество. В киосках – списки на 11 №, а его еще там и нет, – сегодня, должно быть, будет.
Нужно же мне, чтобы я, кроме привычных и изнурительных самобичеваний, мог быть немного доволен собой, доведением дела до конца, преодолением всего того, что всем без исключения вокруг меня представлялось просто невероятным». [11, I; 132]
Виктор Сергеевич Голованов, цензор. Из дневника:
«24.XI.1962
Приблизительно около 11 ч. дня позвонил секретарь редакции журнала т. Закс и сообщил мне о том, что т. Твардовскому звонил т. Поликарпов и выражал согласие со стороны ЦК КПСС на отпечатание дополнительно 25 000 экземпляров № 11 журнала „Новый мир“». [5; 86]
Владимир Яковлевич Лакшин. Из дневника:
«24.XI.1962
‹…› 24-го вечером пировали в ресторане „Арагви“ нашу победу. Подняв бокал за Солженицына, следующий тост Александр Трифонович произнес за Хрущева. „В нашей среде не принято пить за руководителей, и я испытывал бы некоторую неловкость, если бы сделал это просто так, из верноподданнических чувств. Но, думаю, все согласятся, что у нас есть сейчас настоящий повод выпить за здоровье Никиты Сергеевича“». [5; 90]
Во главе «Нового мира». 1963–1965. На новом рубеже
Владимир Яковлевич Лакшин. Из дневника:
«24.XI.1962
‹…› В „Новый мир“ хлынул поток „лагерных“ рукописей не всегда высокого уровня. Принес свои стихи В. Боков, потом какой-то Генкин. „Как бы нам не пришлось переименовать наш журнал в «Каторгу и ссылку»“, – пошутил я, и Твардовский на всех перекрестках повторяет эту шутку.
„Сейчас все доброе к нам поплывет, – говорит Твардовский, – но и столько конъюнктурной мути, грязи начинает прибивать к «Новому миру», надо нам быть осмотрительнее“». [5; 89]
Виктор Сергеевич Голованов. Из дневника:
«3.XII.1962
Был телефонный разговор с зам. главного редактора т. Кондратовичем. Он сообщил о том, что „Белые пятна“ Каверина в № 12 печататься не будут. Не будут также печататься в № 12 путевые заметки „Добро вам“ Василия Гроссмана.
Когда я задал вопрос: „А все же, как обстоит дело с поправками, о которых у меня был разговор с т. Твардовским?“ – тов. Кондратович сказал: „По этому поводу возник конфликт между Твардовским как главным редактором журнала и Гроссманом как автором. Конфликт весьма серьезный. Твардовский ни при каких условиях не может согласиться с утверждением Гроссмана о якобы широко распространенных явлениях антисемитизма, о чем говорилось на армянской свадьбе, а автор Гроссман проводит упрямо эту свою мысль. Чем закончится этот конфликт, сейчас сказать трудно“». [5; 92]
Владимир Яковлевич Лакшин. Из дневника:
«28.XII.1962
Встречали Новый год в редакции. Настроение уже не то, что в ноябрьские праздники.
Александр Трифонович тянул какой-то обрывок смоленской песни:
- Белым снегом, белым снегом
- Замело все пути.
- Гляну-гляну на дорогу –
- Не видать, где пройти…
И в самом деле не видать.
Утром Александр Трифонович был очень раздражен – ему подсунули книгу, вышедшую в издательстве им. Чехова в Нью-Йорке. Некий С. Юрасов дал там свое, в антисоветском духе, продолжение „Тёркина“. ‹…›
Второе, что сильно взволновало Александра Трифоновича, – это обращение к нему молодого математика Р. Пименова, оказавшегося за свои высказывания или рукописные статьи в тюрьме в 1957 г. Как это – „Ивана Денисовича“ печатаем, а людей все равно сажаем? Александр Трифонович говорил об этом с Лебедевым, и тот обещал узнать и, если возможно, помочь. ‹…›
30. I.1963
Начинается повизгиванье газетных шавок на „Новый мир“. Все вокруг в панике, трижды на дню распространяются слухи, что Твардовского „сняли“. А в редакции спокойно. Номера идут, конечно, тяжелее. Цензура придерживает Эренбурга. ‹…›
27. II.1963
‹…› Александр Трифонович прочитал в рукописи рассказы Вас. Белова и говорит: „Даровит, но молод. Думает, что надо писать так, чтобы в каждой фразе была какая-то художественная подробность, сравнение, либо что-нибудь вроде того“. ‹…›
7–8.III.1963
Совещание в Кремле с руководителями партии и правительства. На второй день выступил Хрущев. Поминал, как написанные „с партийных позиций“, поэму „За далью – даль“ и „Ивана Денисовича“.
Зато резко выступил против Эренбурга и Некрасова, любителей „жареного“, т. е. сенсаций, как бы вновь приглушая тему развенчания культа. Много и сбивчиво говорил о евреях, в том смысле, что и среди них „встречаются хорошие люди“.
Реакция по всему фронту, откат от XXII съезда. ‹…›
22. III.1963
Тучи сгущаются. Утром в „Комсомольской правде“ статья Павлова, где выстроен уже целый ряд „очернительских“ произведений, напечатанных в „Новом мире“.
Александр Трифонович в ярости. Звонил Поликарпову, ругал последними словами „зарвавшегося, невежественного мальчишку“ и требовал, чтобы статья была дезавуирована в партийной печати, иначе он снимает с себя полномочия редактора.
Поликарпов крутил, просил успокоиться, предлагал ехать на грандиозное зрелище перекрытия Енисея.
Дементьев сказал мне сегодня, что Твардовский настроен непримиримо: готов уходить, но не согласен каяться, лукавить и т. п. ‹…›
23. III.1963
Сегодня (в субботу) Александр Трифонович был у Ильичева (секретарь ЦК КПСС, зав. отделом пропаганды и агитации. – Сост.). Тот встретил его словами: „Что – пришел просить об отставке?“ „Не только, сначала просить объяснений“, – и Александр Трифонович набросился на статью Павлова. Ильичев выразил к ней свое якобы отрицательное отношение, утихомиривал Александра Трифоновича, сказал, что об уходе его не может быть и речи. Твардовский сказал в ответ, что, во всяком случае, если от него ждут перемен в направлении журнала в том духе, в каком хочется Павлову, – этого не будет. Лучше пусть его заранее освободят от поста редактора. ‹…›
2. IV.1963
Пленум СП РСФСР, собранный, казалось бы, по конкретной теме – обсуждение жанра рассказа, идет с еще большим накалом страстей. Уже кто-то из выступавших назвал „Новый мир“ „сточной канавой“, собирающей всю гниль в литературе, и опять, уже хором, требовали к ответу Твардовского. Совсем как у Щедрина – „а мы его судом народны-и-им“. С. Баруздин звонил Александру Трифоновичу домой, требуя приехать и выступить. Твардовский советовался с нами по этому поводу. Я, как и прежде, против всяких его выступлений в этой обстановке и перед такой аудиторией. Дементьев колеблется.
„Мне кажется, они заиграются“, – сказал Твардовский.
ТАСС должен был дать для иностранной печати специальное опровержение слухов об уходе Твардовского из „Нового мира“. Между тем наши „оасовцы», или „бешеные“, как их еще называют, продолжают требовать кровопускания, и „Новый мир“ им как бельмо на глазу. ‹…›
13. IV.1963
‹…› Газеты продолжают печатать нападки на самые различные произведения, напечатанные „Новым миром“: „Шире круг, шире круг!“ В „Известиях“ появилась статейка „Кочка и точка зрения“, ругающая рассказ В. Войновича. ‹…›
23. IV.1963
‹…› Говорили и о журнале.
„У нас нет верного понятия о масштабе дела, которое мы делаем, – сказал Александр Трифонович. – Для современников всегда иные соотношения, чем в истории. Камер-юнкер Пушкин мог казаться кому-то третьестепенной подробностью в биографии могущественного Бенкендорфа. А выходит наоборот. Ильичева забудут, а мы с вами останемся. Это я так думаю, а там – кто знает“. ‹…›
23. VII.1963
‹…› Обсуждение, проходившее в кабинете Александра Трифоновича, шло к концу, когда раздался телефонный звонок. Я подошел – Черноуцан разыскивает Твардовского, просит его завтра непременно приехать в ЦК, к Ильичеву.
Я взял машину, поехал к Сацу (там его нет), потом на дачу, во Внуково. Застал Александра Трифоновича ослабевшего, не в форме. ‹…›
Опять возвращался к мыслям об отставке. Говорил, что во время бессонницы думал и даже Марии Илларионовне сказал: „Коли не нужен, уеду в областной город, подготовлюсь и буду преподавать историю литературы“.
„Вот Гоголь, Саша, тоже хотел историю преподавать, а что из этого вышло?“ – не утерпела Мария Илларионовна.
Сговорились вроде на том, что завтра он приедет в Москву, чтобы идти к Ильичеву к 2 часам дня. ‹…›
19. VIII.1963
Я уговорил Александра Трифоновича вместе поехать к Черноуцану объясняться по поводу Булгакова. Когда шли по длинным коридорам и переходам здания ЦК, Твардовский, хитро сощурившись, процитировал себя: „А дверей – не счесть дверей, и какие двери!“
Черноуцан встретил нас дружелюбно, но немного оробел под двойным напором. „Мы пришли провести с вами работу… Это у нас запущенный участок“, – пошутил, едва мы вошли, Александр Трифонович. И объявил, что речь пойдет о Булгакове. Черноуцан выслушал нас терпеливо, посмеиваясь, но не уступал. Его суждения сошлись с цензурными: роман Булгакова – пасквиль, подрыв авторитетов, системы Станиславского.
„Берете грех на душу, – пугал его Александр Трифонович. – У нашего Закса в сейфе лежит список ваших грехов и благодеяний. Ведь мы все запоминаем“, – смеясь, говорил Твардовский.
Черноуцан взял с нами игровой тон. „Нет, вы серьезно верите, что это можно напечатать? Да нет, вы меня разыгрываете! Не может быть, чтобы вы сами не понимали, что это невозможно“.
Твардовский настаивал, что искусственным способом нельзя поддержать авторитет того или иного лица, что шарж, юмор никогда не вредят серьезному делу, что, наконец, Булгаков такой писатель, что имеет право на опубликование каждой его строчки. Я сказал, что так бы следовало запретить и чеховскую „Попрыгунью“ за клевету на Левитана. И вообще, произведение такой ценности, как роман Булгакова, неизбежно будет опубликовано через 5 или 10 лет, но напечатают его обязательно.
Сбитый нашим напором Черноуцан возражал неубедительно, вяло, но стоял на своем.
Александр Трифонович говорил ему:
– Ну ведь вы видите, как странны все эти наши запрещения. Девять лет назад сожгли „Тёркина на том свете“, буквально подвергли аутодафе, собрали все верстки по списку и сожгли. А теперь поэма разрешена и вы знаете, что в этой редакции она сильнее, глубже первого „Тёркина…“ 1954 года. И оказывается, ничего опасного для советской власти нет – вчера напечатали в газете. ‹…›
31. Х.1963
В редакции был Е. Евтушенко, читал новые стихи. Александр Трифонович говорил о них так жестко, что Евтушенко едва не расплакался. В словах Твардовского немало справедливого, и все равно Евтушенко жаль. Александр Трифонович упрекал его за манерность, „литературность“, за отсутствие художнической объективности, какого-то интереса вне себя. Евтушенко был смят, подавлен и ничего не отвечал.
Я вступился за него. Меня поддержали Кондратович и Дементьев. В результате, с некоторыми переменами в составе, цикл Евтушенко пойдет у нас.