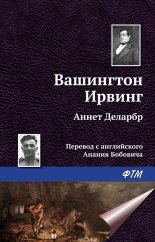Подвиг Севастополя 1942. Готенланд Костевич Виктор

Начальник штаба не подвел. Поскольку мы изъявили желание увидеть русские траншеи, нас отправили в передовой батальон, велев пошедшему с нами лейтенанту Левинскому беречь и лелеять нас вплоть до возвращения в штаб батальона.
– А вот и наши старые знакомые, – сказал Грубер, когда лейтенант по ходу сообщения провел нас в расположение одной из рот – узкий окоп, вырубленный в тяжелой, местами каменистой почве. Оснащенный пулеметными гнездами и всем прочим, чему положено быть в боевых порядках пехоты.
Я вгляделся и действительно увидел знакомые лица. Передо мной были тот самый студент с немецкого юга-запада, о котором я писал по дороге в Керчь (доработав позднее свой текст в Феодосии) и его товарищ по учебному лагерю. Они сидели возле пулемета с парой своих коллег, смертельно уставшие – после бессонной ночи? – и тихо переговаривались. Кроме Курта (я запомнил его имя), все курили – что-то крепкое и не очень приятное, возможно, собственноручно скрученные папиросы из местного табака. Завидев нас, вскочили на ноги, поспешно нахлобучили пилотки и отдали честь Левинскому. Я улыбнулся скромному герою собственного очерка. Он тоже узнал меня. Но все-таки представился:
– Старший стрелок Цольнер.
– Старший стрелок Дидье, – последовал его примеру товарищ.
– Старший стрелок Браун. Старший ефрейтор Главачек. Стрелок Каплинг.
Я угостил их сигаретами из серебряного портсигара, который носил с собой исключительно для подобных случаев. Подарок Елены, прекрасно, кстати, знавшей, что я не курю. А может, забывшей об этом. Мы так редко бывали вместе.
– Что нового, Курт?
– Практически ничего. Сидим в окопах, ждем.
– А русские?
– То же самое.
– Но инициатива принадлежит…
– Господу Богу, – усмехнулся подошедший к нам старший лейтенант с ленточкой Железного креста в пуговичной петлице. – В лучшем случае, генерал-полковнику. Никто ничего не знает, но все чего-то ждут. Хотя предположить не трудно.
– Но не стоит, – подсказал Грубер. – Всему свое время.
– Верно, – кивнул старший лейтенант. И представился: – Старший лейтенант Вегнер, командир третьей роты.
– Флавио Росси, военный корреспондент газеты, – я назвал свой орган.
– Честно говоря, не слыхал, но я плохо знаю прессу, даже немецкую. Вы, я вижу, знакомы с моими людьми?
– С некоторыми.
– Что ж, поговорите с ними, а часа через два возвращайтесь к Бергу. Он пригласил на ужин всех командиров рот. Левинский вас проводит. Тем более что у него есть повод – новый мундир. Совсем не такой, как новое платье короля.
Все поглядели на Левинского. Тот слегка покраснел. Мундир и впрямь был новым и, что примечательно, не суконным, а хлопчатобумажным. Точно таким же, как обычный, с карманами и всем, что положено, и даже нормального серо-зеленого, а не «африканского» цвета – но не жаркий и не тяжелый. Бесспорное достоинство при тридцати пяти, если не больше, градусах выше нуля. Я, во всяком случае, давно изнемогал в своем наилегчайшем тиковом костюме и откровенно жалел бедолагу Грубера, которому приходилось куда хуже, чем мне.
– Таких я еще не видел, – одобрительно хмыкнул зондерфюрер. – Ценная вещь. Я бы не отказался.
– Прислал мой дядя, – объяснил Левинский, и видно было – объяснил не в первый раз. – Он служит интендантом во Франции. Думаю, скоро у всех будут такие. Так что Вегнер напрасно завидует.
– Иоахиму завидуют все, – сказал Вегнер. – Начиная с генерал-полковника. Мыслимое ли дело – париться в этом, – он ткнул пальцем в свой китель, – в такое пекло? Мои ребята, – он показал на солдат, – давно ходят в чем попало, но от нас на службе требуют быть при параде. А то ведь русские снайперы могут ошибиться и вместо меня снять старшего стрелка Дидье.
Дидье ухмыльнулся. Не желая зла ротному, он явно предпочитал, чтобы русский снайпер ошибся как-нибудь по-другому.
Вегнер ушел. Я спросил Курта Цольнера:
– Есть письма из дома?
Тот пожал плечами.
– Кое-что есть. Но и там без перемен.
– А у вас? – повернулся я ко второму старшему стрелку.
– У меня тоже, – ответил Дидье.
– Думаю, еще увидимся, – предположил я. Курт вновь пожал плечами.
Левинский предложил пройти на батальонный наблюдательный пункт, где он сможет показать нам русские позиции. Мы проследовали за ним и вошли в хорошо укрепленный и хорошо замаскированный блиндаж, где стояли две стереотрубы и занимались текущими делами несколько солдат и унтерофицеров – связистов и топографов.
– Прошу, – сказал Левинский, жестом радушного хозяина показывая на раздвоенный оптический прибор.
Я жадно припал к окулярам. Правда, кроме пейзажа, мало что увидел – русские не спешили позировать перед итальянской прессой. Но сознание того, что они где-то здесь, совсем рядом, придавало моим ощущениям дополнительную остроту. Там были русские, совсем не такие, как Надя и Валя, и уж тем более не такие, как Ненароков, Луцак, Портникова. В солдатских рубахах навыпуск, ремнях, касках, вооруженные до зубов истребительным оружием и одушевленные фанатичной идеологией. Готовые убить меня, Грубера, Левинского, Цольнера и всех остальных, кто был здесь, рядом со мной.
С возвышенности, откуда немецкие позиции плавно сбегали в долину узкой, практически не видимой глазу реки, открывался вид на поле прошедшей, то есть зимней, и будущей, летней, битвы. Русские, как объяснил нам Левинский, имели на северном берегу свою передовую линию, тогда как главный рубеж проходил по южному берегу, доходя от берега моря до железной дороги Севастополь – Бахчисарай. Оттуда он плавно загибался на юг. Русскими траншеями было буквально изрезано всё пространство, лежавшее у подножия холмов – почти полностью голых в западной части, ближе к морю, и покрытых деревьями и кустарником к востоку, ближе к железной дороге. Холмы прикрывали Севастополь с севера и тоже были изрезаны траншеями и ходами сообщения.
– От берега моря до поворота на юг фронт занимает около шести километров, – объяснял мне Левинский. – Здесь сосредоточены целых две русские дивизии, не считая разных артиллерийских частей и еще черт знает чего. До Северной бухты от нас будет километров семь-восемь. Все это пространство напичкано артиллерией, войсками, дотами, дзотами, фортами. Перед нами действительно мощнейшая крепость, пусть крепостные стены и не бросаются в глаза. Современная война. Немецкому солдату придется потрудиться.
Не в силах оторвать своих глаз от казавшихся такими близкими высот – на их склонах изредка рвались немецкие снаряды и мины, – я не удержался от вопроса.
– Сколь велики силы, сосредоточенные для пролома русской обороны немецким командованием?
По губам Левинского скользнула тонкая усмешка.
– Я не могу ответить на ваш вопрос. Но полагаю, эти силы достаточны.
Я не стал задавать другого вопроса: здесь ли будет нанесен главный немецкий удар? Он был бы еще более бестактен. Левинский продолжил объяснение.
– В южную сторону фронт тянется до Балаклавы, знаменитой по Восточной войне. Этот участок, назовем его восточным фасом, гораздо длиннее – до двадцати километров. Его занимают не только немецкие, но и румынские войска. С русской стороны он разделен на три сектора, тогда как на северный фас приходится только один.
– Я могу записать?
– Пожалуйста. Когда начнется штурм, это вам пригодится.
* * *
Еще около часа мы ходили по траншеям, говорили с солдатами и знакомились с нехитрым военно-полевым бытом. А потом Левинский пригласил нас в батальонный штаб, рядом с которым размещалось уютно обустроенное и довольно просторное жилище командира батальона майора Берга. Под расположенным рядом навесом был накрыт стол для сегодняшнего ужина.
Майор принял нас не без удовольствия. Было видно, что он соскучился по новым людям и не прочь пообщаться с ними за бутылкой вина. Он был мало похож на своих подчиненных. Левинский был юн, долговяз, розовощек и стремился серьезной интонацией придать себе солидности. Вегнер казался старше, но всего лишь настолько, чтобы более не заботиться, как бы его не сочли юнцом. Другие командиры рот также были относительно молоды. Рядом с ними командир батальона, мужчина лет сорока, а то и больше, выглядел пусть и не стариком, но человеком из другого мира, мира степенных мужей, знающих цену себе и давно уже оценивших всё, что их окружает в жизни. И хотя он приходился мне почти ровесником, я понимал, что сам, увы, принадлежу совсем к другому, глубоко несерьезному миру – потаскунов и шалопаев, постоянно ощущающих свою незавершенность, но нимало от того не страдающих. Зато ужинавший с нами батальонный врач, седовласый и сухопарый господин с крупным носом и моноклем в глазу, явно относился к той же породе, что и батальонный командир.
– Надеюсь, мой адъютант дал вам исчерпывающие объяснения? – спросил меня Берг после первой смены блюд.
– Более чем. Тем не менее вы позволите задать вам несколько вопросов?
Берг милостиво кивнул.
– Сколько, по-вашему, продлится штурм? – спросил я его.
Он молча прикинул в уме.
– Зимой бои продолжались две недели. Но их пришлось прервать… на самом интересном месте. Думаю, сейчас тоже придется повозиться. Неделю, если не больше, людей у русских хватает.
– Много их там?
– Тысяч сто.
Я посочувствовал немецкой пехоте.
– Нелегко с ними будет управиться.
Берг наставительно поднял палец.
– Важно не только количество солдат, но и качество. И военное искусство, в котором генерал-полковник Манштейн не уступит никому.
Меня, как обычно, потянуло на возражения.
– Но ведь осенью и зимой ничего не вышло.
Берг внимательно посмотрел мне в глаза и снизошел до объяснения.
– Тогда обстановка была не столь благоприятной. Мы были ослаблены боями за Перекоп, а в разгар штурма носились по всему Крыму, отбивая красные десанты. Феодосия, Керчь, Евпатория. Бандиты в горах. Теперь вокруг нас чисто. К тому же снабжение. Война – это ведь не только люди. Это еще оружие, боеприпасы, техника. Авиация, наконец. У нас есть всё, не говоря о массе трофеев. А у них со всем этим плохо и с каждым днем все хуже. Пробиться сюда с Кавказа стало почти невозможно. Наша авиация блокировала морские подходы и гоняется буквально за каждым кораблем.
– Значит, вы уверены? – спросил я тоном человека, которому не требуется дополнительных доказательств.
– Разумеется. Мы должны взять эту груду развалин, случайно оказавшуюся на пути локомотива истории. Крепость Севастополь.
Мы снова выпили, и я задал Бергу вопрос, имевший для меня практическое значение:
– Как вы думаете, когда начнется штурм?
Майор усмехнулся и оглядел офицеров, не без любопытства ожидавших ответа.
– Этого я вам не скажу. Во-первых, не имею права. Во-вторых, не знаю сам.
– Иного мы и не ждали, – сказал зондерфюрер. – Каждый из нас на своем посту исполняет свой долг.
– Вот именно, – согласился врач. – Но подозреваю, что писать и фотографировать менее утомительно, чем готовить наступление, – он кивнул на Берга, – или ампутировать конечности. Когда солдаты вопят от боли и…
– Бесспорно, – отозвался Грубер. – Но порой не менее ответственно. Кстати, как вы оцениваете тяжесть ранения Гейдриха? Насколько велика опасность для жизни?
Черт бы тебя побрал, раздраженно подумал я. Без обсуждения последней сенсации не обойдется и тут.
Я не понимал, отчего я злюсь на Грубера. Возможно, потому что сам, занятый мыслями о Вале, не испытал никаких эмоций, услыхав о пражском покушении, и при виде людей, живо им взволнованных или, по меньшей мере, заинтересованных, стыдился собственного безразличия – но ничего не мог и не хотел с собой поделать.
Врач пожевал губами.
– К сожалению, я не обладаю полной информацией. Только экстренное сообщение, которое читали и слышали все. Пишут, жизнь вне опасности.
– Известно хоть что-нибудь? – спросил старший лейтенант Вегнер.
Грубер кое-что знал.
– Граната сильно повредила автомобиль. Открытый «Мерседес-Бенц». – Зондерфюрер бросил взгляд на меня, возможно напоминая, что наш «Мерседес-Бенц» закрыт и потому гораздо более надежен. – Перед этим были произведены выстрелы из пистолета-пулемета британского производства. Обнаружен на месте покушения. Также найдены дамский велосипед, плащ, шапка, два портфеля. Их уже выставили для опознания.
– Вы, я вижу, в курсе дела, – заметил командир батальона.
Польщенный Грубер кивнул.
– Профессионально занимаюсь разнообразными славянами. Протекторат моя слабость. Позавчера я несколько раз слушал передачи из Праги, не говоря уже о… Между прочим, за головы покушавшихся обещают десять миллионов крон.
– Это много? – спросил один из командиров рот.
– Десять крон за рейхсмарку, – объяснил ему другой. – В тридцать восьмом, когда мы стояли в Судетах, за марку давали семь. Но после воссоединения Богемии и Моравии с рейхом мы установили новый курс. Официальный.
– Всё равно приличная сумма, – вздохнул первый. – Жалко будет, если достанется чеху. Кто бы мог подумать, такой покорный народец. Подозреваю, что не обошлось без сталинской разведки.
– В любом случае подобное не должно сойти богемцам с рук, – насупился железный Берг.
У Грубера имелось чем порадовать майора.
– В протекторате объявлено чрезвычайное положение. Всякий, кто может что-либо сообщить, но не сделает этого, будет расстрелян. Вместе с семьей.
Я содрогнулся. Не только от излагаемых фактов, но и от спокойного тона, которым они излагались. Добрый, славный и умный филолог снова меня изумлял. Хотя давно пора было привыкнуть.
Грубер продолжил:
– Хозяева домов и гостиниц, у которых проживают лица, незарегистрированные в полиции, обязаны сообщить о таковых и направить их на регистрацию. В противном случае те и другие будут казнены.
– Действия вполне разумные, – прокомментировал майор. – Но все это скорее необходимые полицейские мероприятия. Предусмотрены ли акции возмездия? Чтобы чехи содрогнулись. Не одним же русским и полякам отдуваться за строительство новой единой Европы.
– Кое-кого уже расстреливают, – успокоил его зондерфюрер. – Население оповещается о казнях. Как только будут получены относительно достоверные данные об исполнителях и их местонахождении, машина будет запущена на полную мощность.
Старший лейтенант Вегнер взглянул на часы.
– Господин майор, если не возражаете, я отправлюсь в роту. Уже поздно, завтра много работы. Мне еще нужно проверить посты.
За пропавшим во тьме лейтенантом потянулись и прочие офицеры, воспринявшие его уход как сигнал к прекращению трапезы. Берг и врач еще некоторое время поговорили с зондерфюрером о Гейдрихе (мне всё время хотелось сказать «покойном», но это было не так, обергруппенфюрер всего лишь ранен и жизнь его находится вне опасности).
Потом немногословный и жердеобразный старший ефрейтор в очках отвел нас в стоявший неподалеку сборный домик, где стояли железные койки для гостей батальона. Не самые удобные, но, вымотавшись за день, я сразу же уснул. По-прежнему не думая о Гейдрихе.
О Валентине, впрочем, тоже. Нельзя же все время мечтать.
Воспитание чувств
Красноармеец Аверин
30 мая, суббота, двести тринадцатый день обороны Севастополя
Жара не спадала, наоборот… С каждым днем всё яростнее палило солнце, и порою казалось – до вечера не дожить. Чем бы мы ни занимались, с нас градом катился пот. И когда доводилось забраться в прохладный блиндаж, хотелось остаться там навсегда. Облегчение приносила лишь ночь – недолгое, но облегчение. А с утра начиналось опять. «Дураки вы, ребята, – говорил, видя наши мучения, Зильбер. – Чего не хватает? Тепло, сухо. Вот пойдут дожди, начнутся холода, а высушиться будет негде. Не были вы тут зимой, не были».
Иногда краснофлотцы пели песню, мы вместе с ними тоже. На мотив старой песни о кочегаре, но переделанную на новый, севастопольский лад. Были в ней и такие слова:
- Мы холод и стужу видали в боях,
- Мы свыклись с дождем и ветрами,
- Мы будем фашистов в боях истреблять
- И знаем: победа за нами.
– Так вот, – сказал однажды Зильбер, – с дождем и ветрами я, конечно, тут свыкся, но шоб я так жил, как мине то было нужно. Так что радуйтесь, хлопчики, пока на вас солнце греет.
Мы и радовались, насколько было возможно. Тем более что имелись вещи похуже жары. Тот же обстрел из пушек и минометов. Рябчиков, Сафронов, Семашко, Зализняк… И вечный вопрос: кто еще?
Короче, досталось и мне. Как водится, по-дурацки. Немцы, вероятно перекусив и решив поставить галочку в отчет о боевой активности, затеяли минометную стрельбу, медленно переводя огонь из глубины наших позиций к переднему краю. Разрывы мин, спускаясь с каменистого склона, постепенно приближались к нашему окопу, и умные люди поспешили укрыться от разлетавшихся осколков и камней. Но со стороны обстрел казался вялым, разрывы редкими, а сам себе я виделся опытным и неустрашимым бойцом. Решил, что опасаться нечего, – будет надо, спрятаться успею. И продолжал, выполняя полученный приказ, свирепо махать лопатой. Хотелось скорее закончить и хоть немного передохнуть – начальства в лице Зильбера или Старовольского поблизости не было, и имелась надежда, что никто не задастся вопросом: чего это красноармеец Аверин сидит тут без дела?
Вот так же, вероятно, бывает на заводах – рабочий знает о технике безопасности, о том, чего делать нельзя и что делать нужно, чтобы с ним ничего не случилось, – но спешит и надеется, что проскочит. Проскакивает раз, проскакивает другой, проскакивает третий, а на четвертый машина отрывает ему кисть. Кто виноват? Никто, поскольку сам дурак.
Как бабахнуло, я даже не расслышал. Только ощутил, что кто-то бешено вдруг дернул меня за руку. Я скосил глаза налево и увидел, как из разрезанной повыше локтя гимнастерки фонтанчиком выбивается кровь. Поначалу боли не ощутил, только ойкнул от изумления и присел, чтоб не накрыло снова. Когда же боль пришла, сжал зубы, чтобы не орать – орать захотелось сильно, – и сполз на самое дно окопа.
Закатав рукав, попытался разглядеть, что с рукой. Дрожащими пальцами порвал индивидуальный пакет. По счастью, рядом оказался Молдован, помог перевязать. Закончив, сказал:
– Ничего опасного, поболит и перестанет. Царапина.
Слово «царапина» прозвучало утешительно. Острая боль после перевязки отступила, превратилась в ноющую. Немного, правда, лихорадило, но и это быстро прошло. Самым приятным было то, что рука двигалась почти как обычно и пальцы на ней шевелились. В этом я убедился, когда мы обедали.
– Это хорошо, – рассудил многоопытный Шевченко. – Можно обойтись без медицины. А то некоторые товарищи на ранения в левую руку смотрят довольно косо.
Я знал про бдительных товарищей. И про самострелов знал. И про то, как с ними поступают, слышал. Но у меня всё было чисто – осколочная царапина. С одной стороны, никаких следов от близкого выстрела, с другой – ничего серьезного.
– Это ты так думаешь, – буркнул Шевченко. – А они по-своему понимают.
– А что тут понимать? Что, я сам на себя миномет навел?
– Кто тебя знает, – хихикнул Михаил. – Ты у нас парень ученый. Дал немцу семафор с координатами.
– Та видчепысь ты вид нёго, – оборвал его Ковзун и участливо на меня поглядел. Повезло мне все-таки с сослуживцами, положительно повезло.
Даже суровый Зильбер меня в этот раз пожалел. Обратил внимание, что я имею бледный вид, поинтересовался: «Болит?» – и сделал полезный подарок.
– Ты, политбоец, часы имеешь?
Часы у меня были еще в запасном, у одного из немногих. Однако появления Мухина не пережили, хоть берег я их пуще глаза. Но ведь в баню часы не наденешь… Хотя, возможно, то был и не Мухин. Он ведь к нам не один такой прибыл, блатной доброволец.
Зильбер вынул из кармана бриджей блестящий кругляш с ремешком.
– Носи, трофейные. Со вчерашнего немца снял. Крепко хорошая вещь.
Я протянул руку, но на беду для старшины рядом с нами оказался Старовольский. Услышав разговор, он сразу же нахмурился.
– Покажите-ка, будьте любезны, – недобрым голосом попросил он Зильбера. Осмотрев циферблат, заметил: – Швейцарские, фирма «Гельвеция». Только знаете, старшина, чем такое попахивает?
Помкомвзвода насупился. Я понял, что внутренне он с командиром не согласен. Повисло неловкое молчание, в котором был задействован десяток человек – Зильбер, Молдован, Ковзун, Мухин… Молчал и Старовольский, задумчиво подбрасывая мои новые часы на ладони и глядя куда-то в сторону. Первым не выдержал Шевченко.
– Разрешите дать объяснение, товарищ младший лейтенант?
Старовольский печально вздохнул.
– Ну валяйте, Цицерон Демосфенович.
– Все по совести было, товарищ младший лейтенант. Эти фрицы не какие-то добровольно сдавшиеся, а захваченные с оружием в руках и с риском для жизни. Как нашей, так и ихней. Мы их запросто придушить могли, а привели живых и почти не покоцанных. Это, во-первых.
– Есть во-вторых?
Мишка пожал плечами.
– Есть, конечно. Их же в тылу обдерут как липку – вот где будет настоящее мародерство. Так что же – тыловым ходики оставлять?
– Бронебойная логика, – грустно согласился Старовольский и, ничего не говоря, протянул часы Зильберу.
– И третье тоже есть, – поспешно добавил Шевченко. – Если разрешите.
Лейтенант кивнул.
– Вы, я слышал, фрицев сегодня в штаб поведете. Так будьте там с ними по дороге повнимательнее. Народ в тылах горячий. Немцев видит нечасто. Иной как увидит – рвет гимнастерку до пупа и кидается мстить. Им ведь тоже хочется из личного оружия пострелять. Чтоб детишкам было что рассказать потом. Ну, это я так.
Лейтенант покачал головой, развернулся и, пригибаясь, ушел по ходу сообщения в сторону землянки ротного. Шевченко с Зильбером переглянулись.
– Жалко парня, – посочувствовал ему Мухин. – Вроде не дурак, а жизню ни хера не знает.
– Ша! – оборвал его Зильбер и передал мне швейцарское изделие. Теперь насупился Мухин.
* * *
Шевченко оказался прав. Младшего лейтенанта действительно отправили по важному делу в штаб полка и поручили захватить с собою пленных немцев. В качестве конвойных он выбрал меня – с моей рукой я был сегодня не работник – и попавшегося на глаза Мухина.
Немцы были как с картинки. Пат и Паташон, живые персонажи Кукрыниксов. Один длинный и тощий, с выпирающим кадыком, другой короткий, румяный и толстый. Первые пленные, которых я видел собственными глазами, а не в кинохронике или газете. Мне, верно, следовало подумать: «Вот они какие», – но ни о чем таком не подумалось. Даже злости не появилось. А ведь мог бы разозлиться, хотя бы из-за руки.
– Принимайте красавцев, – сказал Зильбер Старовольскому. Старшине было неловко, что лейтенанту приходится заниматься такой ерундой, но в штаб было нужно лейтенанту, а гонять туда-сюда других людей большого смысла не было.
Немцы выглядели вполне спокойными. Без наглости, но и без страха в глазах. Переминались с ноги на ногу, тихо переговаривались. Ничего удивительного, бояться им у нас было нечего, простые солдаты, не зачинщики и поджигатели, «люди подневольные», как сказал князь Александр Невский в одноименном фильме Эйзенштейна. Они, разумеется, фильма не видели, но знали ведь, гады, что мы не фашисты.
Я невольно взглянул на левую руку – не торчат ли из рукава подаренные Зильбером часы – и так же невольно подумал, которому из фрицев они раньше принадлежали. Пока мы шли к блиндажу комбата, я, под неодобрительным взглядом лейтенанта, успел их хорошенько рассмотреть. Серебристый корпус, крепкий кожаный ремешок, на черном циферблате белые цифры и стрелки, которые, по словам Шевченко, светятся в темноте. Прочная задняя крышка привинчена болтами, на ней какой-то номер и латинские буквы – D и H. «Самое главное, – подчеркнул Михаил, – что они с противоударным устройством. Цени». Я оценил, но перед бывшими хозяевами всё равно было как-то неловко.
Лейтенант зашел в блиндаж комбата. Воспользовавшись его отсутствием, Мухин вступил в беседу с пленными. Их спокойный вид ему решительно не нравился.
– Чё таращитесь, падлы? – мрачно спросил он их. Толстый широко улыбнулся и с готовностью сообщил:
– Хитлер ист шайскерль.
Длинный бросил на товарища крайне суровый взгляд. Еще более суровый, чем тот, которым недавно одарил старшину Зильбера младший лейтенант Старовольский. Ответ толстого, однако, не понравился и Мухину – хотя нетрудно было догадаться, что немец сказал про фюрера какую-то гадость.
– Видал, Лёха, совсем чувство меры потеряли, – изумленно обратился ко мне бытовик. Потом, подойдя вплотную к фашистам, повел у них перед носами примкнутым штыком. Те моментально перестали улыбаться. Я бы тоже на их месте перестал: штык под носом – зрелище малоприятное, пусть он похож не на нож, как у моей самозарядки, а на длинную иглу с отверточным концом, как у мухинской трехлинейки. Но может быть, отвертка с непривычки выглядит пострашнее. Толстый побледнел, приоткрыл в испуге рот, а длинный задержал дыхание и вытянулся по швам.
– Чё, суки, ощутили? – удовлетворенно спросил Мухин и, поставив приклад на землю, с наслаждением зевнул, показав устрашенным немцам свою роскошную фиксу.
Из блиндажа вынырнул Старовольский.
– Готовы? Начинаем движение.
Прозвучало серьезно. Мухин взял трехлинейку наперевес, я скинул с плеча «СВТ», и мы гуськом двинулись по запутанным ходам сообщения, зигзаг за зигзагом уводившим наверх, к гребню холмов над долиной Бельбека. Несмотря на извилистый маршрут, добрались мы до верха довольно быстро. Пленные вели себя как следует, не копошились и не торопились. Лейтенант уверенно вышагивал впереди. Встречавшиеся по дороге бойцы на немцев не обращали внимания. Разве что спрашивал кто: «Ночью взяли, а?»
Мы перевалили через гребень и пошли по лесному массиву, полого спускавшемуся по направлению к далекой отсюда Северной бухте. Стало просторнее, теперь мы брели не гуськом, а по двое, как положено – впереди немцы, позади я и Мухин. Было приятно, что не нужно больше пригибаться. Деревья, хоть и пострадавшие от многократных обстрелов, давали тень. Тень – но не темноту, потому что мы шли через пихтовый лес, пронизанный лучами солнца.
Вскоре мы вспомнили о подзабытых предостережениях Шевченко. Сначала к нам привязались веселые саперы, занятые на строительстве бетонированной огневой точки. Руководивший ими сержант нахально окликнул Старовольского:
– Эй, младшой, куды гансов ведешь? Им не жарко? Может, тут оприходуешь?
Лейтенант не ответил. Скользнул по сержанту нехорошим взглядом и прошел вместе с нами мимо. Саперы расхохотались. Сержант, обращаясь к своим, но так, чтобы слышали мы, громко заметил вдогонку:
– Гордый юноша. Со своими не говорит. Он нынче к немчуре приставленный.
Свинья, подумал я. Обращается не по уставу и еще хочет, чтобы с ним считались. Пусть спасибо скажет, что лейтенанту не до него.
По мере нашего продвижения приключения продолжались. Присматривавший за полевыми кухнями старшина предложил дать своих бойцов, чтобы «кончить гадов в балочке». Лейтенант нецензурными словами послал его подальше (ответ старшины я пропустил мимо ушей). Ну а потом завелся Мухин. То ли всерьез, то ль затем, чтоб позлить Старовольского, он заявил:
– Нет, товарищ лейтенант, на хера мы с этими козлами по жаре таскаемся?
Старовольский не обернулся. Лишь бросил на ходу:
– Молчать.
Мухин принялся за меня.
– Нет, Лёха, скажи мне, на хера всё это надо? Ты что думаешь – мы их приведем, и их вывезут из Севастополя? Ага. Добро пожаловать, товарищи фрицы, на курорты Черноморского побережья Кавказа. Хрен те в сраку. Выведут в балку и посекут из пулеметов.
Я не ответил. Но Мухин вошел во вкус.
– Слушай, Лёха, ты бы которого взял? Бери лучше толстого, чтобы не промазать. А я худого.
И щелкнул затвором. Прозвучало резко и выразительно. Перепуганные немцы дернулись. Лейтенант стремительно обернулся.
– Аллес ин орднунг, – крикнул он немцам. И добавил, лично для Мухина: – Не дай бог, пристрелю на месте.
Мы потопали дальше. Старовольский заметил, что мне, с моей рукой, тяжело тащить винтовку наперевес, и приказал взять ее на ремень. Чтобы не было обидно Мухину, ему разрешил тоже. Немцы, увидев, как мы убрали оружие, заметно приободрились. Мухин снова принялся изводить Старовольского.
– Вот вы, товарищ младший лейтенант, всё время говорите: «молчать, молчать»…
Лейтенант не ответил. Мухин не унимался.
– А я вот вам прямо скажу, товарищ младший лейтенант, есть вещи, которых вы не понимаете.
Бытовик интригующе смолк. Старовольский не удержался. Любопытство оказалось сильнее – молча идти было скучно. Не с немцами же болтать.
– И чего ж такого я не понимаю? – спросил он, не оборачиваясь.
Мухин того и ждал.
– Демократии вы не понимаете, товарищ младший лейтенант, как она есть прописанная в нашей конституции. То есть как власть народа против всех евоных эксплуататоров. Мне вот папаша рассказывал, как они в семнадцатом на Румынском фронте офицеров порешили.
Про Румынский фронт Старовольский слушать не захотел, но упоминание о конституции его позабавило.
– Ты ее хоть читал-то, конституцию? И какого года – восемнадцатого, двадцать четвертого, тридцать шестого?
– Зачем ее читать? – не понял его Мухин. – Я чё, богом насмерть пораненный? Есть умные люди – обскажут всё, чё надо. Нам в лагере товарищ Нечитайло на политзанятии это дело честь по чести разъяснил. И про конституцию, и про власть народа против всяких буржуёв, и про то, за что наши отцы свою кровь проливали.
Старовольский хмыкнул и против своего обыкновения перешел с бытовиком на «ты».
– У тебя, я вижу, там не лагерь был, а санаторий с политпросветом.
Мухин осклабился. Рожа его сделалась довольной – потрепаться он любил, а удавалось редко, тем более с такой птицей, как лейтенант.
– Это уж кому как. Одно дело социально близким, другое – всякой контре. Вот помню, привезли к нам на лагпункт пятьдесят восьмую…
Старовольский помрачнел.
– Опять пошли приятные воспоминания?
Мухин разозлился. И вместо того, чтобы заткнуться, полез в бутылку, начал отстаивать демократические принципы.
– По-вашему, товарищ лейтенант, так все должны в тряпочку молчать? Как при старом режиме? А это, скажу я вам, не по-советски, потому что против демократии. Я вам подчинюсь, как иначе, потому командир, но не по-нашему это, не по-нашему. Не в Америке живем, не под властью капитала.
Он гордо отвернулся – от лейтенанта, от меня и от немцев, с опаской прислушивавшихся к странному разговору (им наверняка удалось разобрать слова «конституция», «демократия» и «капитал»). Старовольский покачал головой.
Мне сделалось смешно. При Сергееве бы Мухин и гавкнуть не посмел, и ни о какой там демократии он точно бы не вспомнил. При Старовольском же разошелся. Потому что был уверен – лейтенант ему в рыло не заедет. До чего же несложно устроен наш мир.
До штаба полка оставалось немного. Мы притомились. Лейтенант стирал пилоткой пот со лба. Осмелевшие немцы с любопытством озирались – они впервые были на этой, недоступной для них стороне. Низенький лес, дубки, множество расходящихся тропок, люди в советской форме, техника, пушки, пулеметные гнезда. Дорого дал бы немецкий шпион, чтоб увидеть всё это и донести в свой фашистский штаб. Однако хрен вам с перцем и луком – сами будете отвечать на вопросы и рассказывать, как оно там, на той стороне, на вашей.
Так я подумал. И ошибся. Получилось совсем по-другому. Хотя ведь могло обойтись. Не развяжись у Старовольского шнурок, не задержись он за кустом, чтобы его завязать – и попутно справить малую нужду, постеснялся при немцах, должно быть. Короче, мы с фашистаи удалились от него на некоторое расстояние и остались на время без начальства. И тут появился кавалерийский капитан, в сопровождении сержанта и двух рядовых, судя по виду – здорово пьяный. Ни о чем говорить не стал, только махнул рукой мне и Мухину.
– Эй, вы двое, отошли.
Нетвердо держась на ногах, вытянул из кобуры наган и два раза выстрелил в наших немцев. Сначала в толстого, затем в длинного. Мухин от неожиданности разинул рот, я, вероятно, тоже. Дальше было как при съемке рапидом. Это когда снимают на повышенной скорости, а показывают на нормальной – и действие на экране замедляется. Вот так же всё замедлилось и у меня: изумленно таращащий зенки Мухин, качающийся капитан, растянувшийся по земле долговязый немец.
Толстый, получивший пулю в живот, сидел на траве и с надеждой смотрел в сторону бегущего к нам лейтенанта. Попытался подняться, что-то сказать. Капитан добил его выстрелом в голову.
Потом мы с Мухиным висели на руках Старовольского, дико кричавшего на капитана и рвавшего «ТТ» из кобуры. Капитана оттаскивали кавалеристы, и он тоже что-то дико кричал – про Машу, гуманистов драных, сраную интеллигенцию. И уже кружилась первая муха над раззявленным немецким ртом.
* * *
Капитана давно увели, а Старовольский продолжал сидеть рядом с убитыми. Когда наконец встал, распорядился:
– Копать… Здесь… Живо…
Я потянулся к лопатке. Мухин не шелохнулся. Нас выручил какой-то младший сержант, прибежавший со своими людьми на выстрелы. Перепалку между капитаном и Старовольским он видел от начала до конца, но вмешиваться не стал. Зато теперь сказал:
– Идите, ребята. Мы тут сами приберемся. Иди, лейтенант, иди. Нечего тут больше делать.
Мы потащились в сторону штаба. Лейтенант впереди, мы на расстоянии. Какое-то время шли молча. Покамест Мухин не ляпнул: