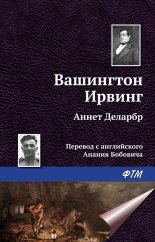Подвиг Севастополя 1942. Готенланд Костевич Виктор

И показал кулаком своим телефонистам. Мне не стал. Все-таки я был теперь политбоец.
Я так и не понял, почему они развеселились. Еврей – не еврей, что тут было смешного? Я тоже был не еврей и нисколько от этого не страдал. Или дело в том, что евреи при царизме были самой угнетенной и потому революционной нацией? Рассудив, что надо спросить у Шевченко, я вновь занялся бумагами, уже не слушая, о чем говорят командиры. Отвлек меня новый голос. Не мужской и очень знакомый.
– Разрешите войти, товарищ капитан?
Я вскинул голову и увидел Маринку. Никакой Маринкой она, разумеется, для меня не была, но мысленно я назвал ее именно так. Должно быть, потому, что так называл ее в моем присутствии Бергман.
– Входите.
– Младший сержант медицинской службы Волошина прибыла в ваше распоряжение.
Бергман не понял.
– Что? В каком таком качестве?
– В качестве санинструктора, товарищ капитан. Согласно вашему запросу.
Видно было, что прибытие младшего сержанта Волошиной не вызвало у комбата восторга. Он почесал переносицу и непонятно кого спросил:
– Они там что, с ума посходили в санчасти?
– Товарищ капитан, – проговорила Марина и обвела командиров глазами, словно ища защиты и понимания.
– Извини, Марина, – пробормотал Бергман. – К тебе это не относится. Если не сама напросилась, конечно.
– Вы же знаете, товарищ капитан, в санчасти людей не хватает. Были бы, прислали бы вам мужика, ваше мнение там известно.
– Правильное мнение, – твердо сказал Сергеев. – Нечего тут женщинам делать. Не обижайтесь, младший сержант.
– Я не обидчивая, товарищ старший лейтенант.
Однако в окошко я видел – обиделась. Лица не видел, а обиду видел. Кулачки ее сжались, спина напряглась, словно бы старалась от чего-то удержаться. Мне даже стало ее жалко, но ведь командиры были правы – нечего тут женщинам делать.
– Разрешите приступить к исполнению обязанностей? – звенящим все той же обидой голосом спросила Марина Бергмана.
– Приступайте, – ответил капитан. – Устроитесь во взводе связи, там найдется где.
Я заметил, что лейтенанты-артиллеристы довольно переглянулись, а командир связистов Априамашвили провел рукой по правому усу. Однако под взглядом Бергмана все поспешили уставиться в карту.
– Разрешите идти?
– Идите, – вздохнул комбат. – Надо бы вас сопроводить.
– Не заблужусь, товарищ капитан.
– Тем не менее надо. Товарищ младший политрук, пошлете своего политбойца?
– Да я бы и сам, – пожал плечами Некрасов.
– При чем тут пехота? – изумился младший лейтенант Данилко. – Что-то последнее время рота прикрытия занимает слишком много места в нашей жизни. На собственной батарее я чувствую себя в гостях. Даже писарь у нас теперь ихний.
– Разрешите мне, товарищ капитан, – вскинул голову Априамашвили. – Устрою товарища сержанта в лучшем виде.
Все повеселели – кроме Бергмана и Марины.
– Товарищ Аверин, – сказал комбат жизнерадостному грузину, – внушает мне больше доверия. Это во-первых. Во-вторых, мы еще не закончили. Что же касается писаря, могу взять во взводе Данилко. Кого дашь, Мишенька?
Данилко не ответил. Дать он никого не мог. Грамотных людей у артиллеристов было, возможно, и больше, но каждый имел свою специальность и при нехватке людей становился незаменим. С нами было проще – специальность почти у всех одна. К тому же канцелярию нашей роты по причине нехватки личного состава давно объединили с канцелярией батареи – и было вполне естественно, что занимался ею наш человек.
– Аверин, у тебя с бумагами всё? – спросил комбат.
– Две закорючки поставить, товарищ капитан.
– Ставь и иди с сержантом Волошиной. Пусть старшина на довольствие поставит и место покажет, где разместиться. И помоги там Марине устроиться. Придешь, доложишь.
* * *
– Пойдемте, товарищ младший сержант? – спросил я, когда мы вышли на воздух, под яркое полуденное солнце, лившееся ручьями через натянутую над траншеей маскировочную сеть. От нашитых на сеть лоскутков на Маринкином лице подрагивали тени, и мне казалось – она смеется.
– Пошли, товарищ политбоец.
– Только осторожнее, тут у нас немцы мины частенько кидают. И делают это, замечу, без предупреждения.
Словно бы в ответ на мои слова вдали прогремел негромкий разрыв и затарахтел станковый пулемет. Я развел руками – ничего не могу поделать, такова окопная жизнь. О вашей безопасности, конечно, позаботятся, но при сложившихся обстоятельствах от меня зависит немногое. Сказано же было командиром батареи – женщинам тут не место. Я ощутил некоторое превосходство над младшим сержантом Волошиной. Почувствовал себя бывалым фронтовиком, к тому же слегка накануне раненным.
Марина тоже заметила в моих словах неподобающие нотки. Остановившись, прислонилась спиной, точнее висевшим за ней вещмешком, к окопной стенке, поправила лямки и насмешливо на меня поглядела. Глаза у нее были карие, очень красивые, под пушистыми ресницами и золотистыми бровями. Я попытался ее обойти, но она, выдвинув ногу в брезентовом сапоге, легко перекрыла проход.
– Ты кого тут учишь, салажонок?
И легонько щелкнула меня по носу. Даже не щелкнула, а изобразила, что щелкает. Но я вспыхнул от возмущения.
– Вы что себе позволяете, товарищ сержант?
Мой негодующий вид произвел впечатление. Лицо ее сделалось виноватым, глаза опустились, а носик клювиком едва заметно дрогнул. В этот момент ухнуло за холмами, в районе железнодорожной станции, в глубоких тылах дивизии. То есть примерно там, откуда пришла Марина.
– Ну не сердись, я пошутила. Тебе сколько лет?
– Девятнадцать… будет в октябре, – растерянно ответил я. И, оправившись, строго спросил: – А вам?
– Двадцать один, – сказала она и попыталась оправдать свое некорректное поведение: – Я твой старший товарищ, понял? И я здешняя, живу в Севастополе. Ты у нас в городе был?
Я молча мотнул головой. Как будто имело значение, был я у нее в городе или нет. Равно как и то, что тут она местная. Но раскаяние младшего сержанта медслужбы было искренним, и я ее простил.
– Побываешь еще, у нас красиво… – Она запнулась, потому что в этот момент издалека, от бухты донесся невнятный гул, и мы поняли, что там разрываются авиабомбы. – Только знаешь, давай будем на «ты». А то «выкать» тебе у меня не получится, а если ты мне «выкаешь», а я тебе «тыкаю», это нехорошо. Я ведь тебе не начальник. Договорились? Давай знакомиться. Марина.
Она протянула мне руку, и день обиженных, кажется, кончился.
Поплутав по ходам сообщения, мы отыскали старшину батареи, занятого подсчетом наличного боезапаса. Увидев Марину, он торопливо вскочил, поправил кожаный ремень и отогнал назад складки шевиотовой гимнастерки. А узнав, что санинструктор останется в подразделении, улыбнулся тридцатью двумя зубами. Попытался побыстрей меня спровадить, чтобы самостоятельно заняться ее обустройством. Но мы сослались на приказ комбата, и старшине пришлось смириться.
Марина поселилась в медпункте, там, где раньше обитал Гоша Семашко. Название «медпункт» звучало, правда, слишком громко. Такой же блиндажный закуток, как те, в которых размещались у Бергмана я и телефонисты. Но все равно свой угол. Мы завесили его плащ-палаткой (ее нам по требованию Марины выделил старшина). Получилось отдельное жилье. С земляным столиком и вырубленной в стенке нишей для сна.
– Ну я пойду? – спросил я, когда счел свой долг исполненным до конца.
– Иди. Может быть, вечером увидимся, я загляну к вам в роту – проверить санитарное состояние.
– Может, и увидимся. Если в охранение не отправят.
* * *
В охранение пошло отделение второго взвода, и вечером мы в самом деле встретились. Не где-нибудь, а на политбеседе, которую устроил нам новый комиссар, по той самой «архиинтересной теме». Вместе с оставшимися людьми второго взвода нас набилось в блиндаж человек примерно тридцать. Из нашего взвода отсутствовали Зильбер и краснофлотцы – вместе с Некрасовым они выполняли распоряжение ротного. Зато присутствовали Старовольский и старшина Лукьяненко. Марина, уже выяснившая всё, что собиралась, и успевшая сделать замечания Старовольскому и Сергееву, хотела потихоньку смыться, но ее не отпустил комиссар. «Садитесь, – сказал, – рядом с нашим политбойцом, послушайте». Второй раз за день я ощутил преимущества нового положения.
Ничего интересного военком не рассказал. Просто прочел передовую из апрельской «Красной звезды», с которой нас знакомили еще в запасном. Но Мухин, сидевший рядом со мной, слушал ее с интересом – он появился у нас позднее, уже после этой статьи. Называлась передовая «За честь наших женщин!» и разоблачала гнусности, творимые гитлеровцами на оккупированной территории.
– «Немецкие фашисты, нагло глумящиеся над честью советской женщины, – с расстановкой читал товарищ Земскис, поглядывая на бойцов и делая выразительные паузы, – это похотливые животные. Они загадили свою юность в публичных домах Германии и сделали нравы притонов катехизисом своего поведения в оккупированных странах».
– Разрешите вопрос, товарищ старший политрук? – воспользовался паузой Мухин.
Комиссар благосклонно дал согласие.
– Чё такое кахитизис?
– Катехизис, товарищ боец. Это… как бы лучше сказать… такая книжка, по которой попы учат людей всякой поповщине. Но в нашей стране катехизисы в прошлом. Так же как публичные дома и притоны.
Старовольский прикрыл ладонью рот. Ему опять захотелось смеяться, и я понимал почему – если бы даже объяснение товарища Земскиса было верным, оно никак не способствовало пониманию текста. Выходило, что немцы сделали нравы притонов поповщиной своего поведения. Или пособием по поповщине.
– «Всему населению оккупированных стран, – продолжал комиссар, – несут они голод и унижение, а женщинам сверх всего, – тут товарищ Земскис сделал особенно длительную паузу и посмотрел в нашу с Мухиным, а значит и в Маринкину, сторону, – позор и венерические болезни. Медицинский осмотр пленных, документы, захваченные в немецких штабах, показывают, что пятая часть солдат и офицеров немецкой армии – венерики».
Мне стало стыдно. Не за немецких венериков, а за комиссара батареи. Я виновато посмотрел на Маринку, взглядом давая понять, что думаю о военкоме (а думал я: идиот). Маринка пожала плечами, дав понять в свою очередь, что спрос с товарища Земскиса невелик. К тому же она медик, и ей известно много разных слов.
Земскис еще долго рассказывал о немецких зверствах в отношении женщин. Читал прямо из газеты и доставал из блокнотика вырезки. У него, похоже, набралась солидная коллекция архиинтересных эпизодов.
– Или вот какой кошмарный случай, товарищи, произошел у нас в Крыму. В деревне… – комиссар вгляделся в листок. – Кучук-Кой. Знаете, где это?
Никто не ответил – в блиндаже почти все были нездешние. Только Маринка мне тихо шепнула: «Возле Симеиза». Но я не знал, где находится Симеиз.
– Читаю, – продолжил Земскис. – «Симферополь, Ялта, Евпатория. Зверства немцев в Крыму. В деревне Кучук-Кой немецкие солдаты раздели, – пауза, – догола двух девушек-украинок, – комиссар поднял голову и огляделся, словно бы выискивая среди нас украинцев, – и привязали их к скамейкам. Изнасиловав девушек, солдаты, – он сделал обычную паузу, обозначавшую ударное место, – отрезали им груди, носы, уши и пальцы».
Дурак был, конечно, Земскис, но немецкие солдаты в данном случае показали себя настоящими фашистами. Действительно, двуногие звери, других для них слов не найдешь.
Обратившись к нам, комиссар неожиданно задал вопрос:
– Почему же немецко-фашистские захватчики поступают подобным образом? – И сам на него ответил: – А вот почему. Читаю. «Подлый враг, чуя свою близкую гибель, пытается чудовищными зверствами отсрочить час неминуемой расплаты. – Очередная пауза вышла длиннее прочих, и когда товарищ Земскис возобновил чтение, голос его исполнился торжества. – Не выйдет! Крым, по телеграмме от нашего корреспондента».
Земскис привел еще несколько страшных примеров фашистских надругательств над советскими гражданками. Бойцы тяжело насупились, лицо Старовольского посерело. Лукьяненко сжал кулаки, а наш бытовик прошептал: «Ну, доберусь я до вашего сраного рейха, всех там поставлю раком». Тут я на Маринку уже не глядел, лишь понадеялся, что ей было не слышно.
– Но немецкие фашисты не только насилуют и калечат наших женщин, – сказал комиссар, отложив газету. – За ними тянется дымный шлейф других кровавых преступлений. Во всех населенных пунктах Украины и Крыма – Киеве, Виннице, Житомире, Одессе, Днепропетровске, Кировограде, Полтаве, Харькове, Херсоне, Николаеве, Симферополе, Керчи, Феодосии и других – они осуществляют массовые расстрелы советских граждан.
Стараясь, чтобы не услышал никто, кроме меня, Мухин шепнул: «Жидов-то, говорят, под корень выводят. И цыган с ними разом». Однако товарищ Земскис услышал. И поправил:
– Евреев, товарищ боец, евреев. В нашей стране жидов нет. То есть их нигде нет, потому что это нехорошее слово, от которого вам следует быстрее отучиться. Но гитлеровские псы, – повысил он голос, – убивают не только евреев, а самых разнообразных представителей различных советских национальностей. Например: русских, украинцев, белорусов, литовцев, латышей, эстонцев, карело-финнов, молдаван…
Перечислив народы полностью и частично оккупированных советских республик, военком перешел к новой теме, имевшей непосредственное отношение к жизни нашего подразделения. Глядя на младшего лейтенанта, он произнес:
– В свете вышеизложенного мною я должен сделать следующее замечание, которое касается всех. Как выяснилось, не все еще бойцы и командиры, – он снова сделал паузу, как при чтении газеты, и затем протараторил как по писаному, – освободились от иллюзии, что под серым мундиром немецкого солдата бьется человеческое сердце. Имеют место быть случаи ложной жалости и откровенной бесхребетности. Если бы мы позволяли себе подобную мягкотелость в гражданской войне, то советский народ до сих пор бы жил под гнетом царей, помещиков и капиталистов.
Старовольский посерел еще сильнее и посмотрел на комиссара так, словно бы хотел заехать ему в морду. То есть, разумеется, ударить по лицу. Я удивленно скосил глаза на Мухина – а тот, похоже, и сам удивленный, в недоумении уставился на Лукьяненко. Старшина же, одобряя слова военкома, усмехнулся в рыжие усы.
Несколько слов о Мухине
Не следует думать, что красноармеец Мухин в чем-то сочувствовал младшему лейтенанту Старовольскому. Повествуя Лукьяненко о происшествии с немцами, он отзывался о командире исключительно пренебрежительно. Также не следует думать, что он бы ни за что не дал военкому обстоятельной характеристики на младшего лейтенанта. Поднажали бы – и дал, материалец имелся, за пару недель накопилось. Мухин слишком презирал окружавших его людишек, чтобы мерить свои поступки по отношению к ним какими-либо нравственными мерками, да и о мерках таких имел несколько смутное представление. Но стучать просто так – без принуждения, без выгоды, навара? Такое его пониманию было недоступно и вступало в противоречие с куцым сводом житейских правил, усвоенным в годы жизни за пределами Марьиной Рощи.
Окончив политбеседу, старший политрук вышел из землянки с Мариной – им и в самом деле было по пути. Но прежде чем уйти, он обратился к Старовольскому, грубо и как-то злорадно:
– Младший лейтенант, подойдите ко мне! Надеюсь, вы сделали выводы? И вот еще что… Меня все-таки интересуют ваши родственники в Киеве. У вас были родственники в Киеве в девятнадцатом году?
По-прежнему бледный Старовольский ответил не по чину резко:
– Да, у меня были родственники в Киеве, и именно в девятнадцатом году. Что вы еще желаете знать… товарищ старший политрук?
Земскис покраснел как рак и, не стесняясь стоявшей с ним рядом Марины, раздраженно гавкнул на младшего лейтенанта:
– Почему вы так невежливо разговариваете со старшим по званию… и возрасту?
Старовольский кинул руки по швам и ответил с яростью в голосе:
– Я отвечаю на вопрос в полном соответствии с уставом. И хочу сказать вам еще. Если, говоря о мягкотелости, вы имели в виду вчерашнее убийство двух безоружных людей, то я должен поставить вас в известность, что постараюсь довести это дело до политотдела дивизии, а если надо – армии. Разрешите идти, товарищ старший политрук?
– Вы свободны, идите, – сказал комиссар озадаченно и, когда Старовольский ушел, пожаловался Марине: – Вот такие порой, товарищ Волошина, бывают у нас командиры. Петушок. А ведь вы еще не все про него знаете. Да, милая девушка, упустили мы что-то в воспитании молодежи. Я не вас имею в виду, не вас.
Та промолчала, тем более что понятия не имела, из-за чего разгорелся сыр-бор. Я тоже не все понимал. И вообще, мне не стоило там находиться, ведь комиссар нарушил правило – критиковал командира в присутствии подчиненных. Я попытался улизнуть. Но старший политрук был начеку.
– Ты куда, Аверин? Я еще не все сказал. Читку проведешь сегодня же. Приказ.
– Есть, – ответил я.
– Обязательно прочти про второй митинг представителей еврейского народа. Будет полезно для несознательных бойцов. Это здесь. – Он сунул мне газету «Красный флот». – И Эренбурга прочти из «Правды». И там, я знаю, еще одна есть, очень литературная статья, про летчика. Найдешь. Остальное по своему усмотрению. И чтобы не скурили. Знаю я вашего брата.
Я мысленно ойкнул, представив, сколько времени уйдет, пока столько удастся прочесть. Ведь вслух – это не про себя. И кто выдержит мое чтение, если люди валятся с ног?
* * *
Однако задание было получено. Ни Старовольский, ни Некрасов освободить от него не могли.
– Послушаем, – успокоил меня вернувшийся с краснофлотцами Зильбер. – Ты читай, а мы харчиться будем.
– Читай, Аверин, читай, – поддержал старшину Некрасов, раскладывая на столике принесенный из госпиталя паек. – Что там нового на фронтах отечественной войны?
Я сделал поярче карбидную лампу и взялся за порученное дело. Правда, немного схитрил. Сразу же начал с номера за двадцать восьмое, который не успел проглядеть накануне, а в нем – со сводок Совинформбюро. Делал так: быстро проглядывал текст, а вслух пересказывал самое главное, пропуская половину слов и кое-что добавляя от себя. Получилось неплохо, меня на самом деле слушали.
Судя по сводкам, положение в течение дня изменилось не очень сильно. На Харьковском направлении закрепляли, на Изюм-Барвенковском отражали. Партизаны разгромили немецкий гарнизон в Ленинградской области. Пленный солдат 15-го мотополка 29-й немецкой мотодивизии Бруно М. рассказал, как зимней ночью отправляли в тыл жителей города Мценска. Тех, кто не мог идти, расстреливали. Еще Бруно М. сообщил, что у немцев множество дезертиров, сам он присутствовал при казни двоих. В Финляндии росла преступность, финские газеты писали: «воруют всюду и всё, что только можно». На Севере несколько десятков вражеских машин попытались провести налет. Наши истребители сбили пять из них, а батальонный комиссар тов. Дягин на самолете «Харрикейн» таранил шестой. Тот упал и взорвался на собственных бомбах. Дягин возвратился на аэродром.
– Вот это я понимаю, комиссар, – прокомментировал Некрасов. Кто-то хихикнул, а я отметил, что младший политрук тоже нарушил командирскую этику, пусть и не так открыто, как Земскис.
Потом я сразу же перекинулся на четвертую страницу, в международные новости, решив, что представители еврейского народа обождут. Самое интересное касалось, разумеется, Гейдриха.
«Покушение на гитлеровского наместника… Гейдрих ранен… В Чехии и Моравии введено чрезвычайное положение.
Стокгольм, 27 мая (ТАСС). Как передает германское информационное бюро из Праги, там опубликовано сообщение германских властей о том, что сегодня на исполняющего обязанности «протектора Чехии и Моравии» Гейдриха совершено покушение. Гейдрих ранен. За поимку лиц, совершивших покушение, объявлено вознаграждение в размере 10 миллионов крон».
– Это сколько на наши будет, а? – спросил Пимокаткин.
– На пиво хватит, – ответил Молдован. – И на раков, если что.
Мухин с умным видом заметил:
– Вот и этот Гейдрих тоже на «гэ».
– И что? – спросил Старовольский, хотя ежу было понятно, что бытовик имел в виду. Мы так еще в школе шутили. До войны.
– А они там все на букву «гэ». Гитлер, Гиммлер, Геринг, Геббельс. Германия, говно.
– По-немецки это, положим, не совсем так… Гитлер и Гиммлер, они на «ха», а Германия и вовсе «Дойчланд», – смущенно пожал плечами младший лейтенант (вот уж действительно, горе от ума, детских шуток не знает). – Кстати, вы еще Гесса забыли. Тот действительно на «гэ».
– Ага. И этот еще, как его, Йобль.
– Кончай языком чесать! – оборвал Мухина Некрасов. – Давай, Аверин, читай дальше. А то с этим демагогом точно без ужина останешься. Как там в Чехии?
В Чехии было беспокойно. Оказывается, в октябре прошлого года там прошли огромные антигерманские демонстрации. (Странно, но раньше об этом не писали.)
– Молодцы славяне, – заметил Шевченко. – У них там с немцами всегда нелады. Еще при Яне Гусе и Яне Жижке. Я книжку старую читал.
В ответ, сообщалось в газете, обер-бандит Гиммлер направил «для кровавой расправы с чехами отличившегося на убийствах и зверствах в Германии своего заместителя Гейдриха. Специалист по злодействам, Гейдрих жестоко расправился с мирным населением. Он объявил военное положение в шести округах, в которых производились массовые убийства населения». В итоге Гейдриха назначили исполняющим обязанности протектора Чехии и Моравии.
– А протэхтор це хто? – спросил Саня Ковзун.
– Протэхтор це така людына, яка очолюе протэхторат. Або тварына, – ухмыльнулся в ответ Шевченко. Я понял не всё. Ковзун тоже.
– А шо такэ протэхторат?
Это ему объяснил Старовольский. Основательно и терпеливо.
– Протекторатом немцы назвали присоединенные к рейху территории Чехословакии. В отличие от Судетской области, переданной им по мюнхенскому соглашению, они их официально не аннексировали, а как бы взяли под покровительство, слово «протекторат» как раз это и означает. Словакию они объявили независимой. Очень ловкий трюк. Правда, Алексей?
Я не сразу сообразил, что он обращается ко мне – вероятно, как к политбойцу, – а когда понял, согласился.
– Ловкий. Получается операция в три хода. Сначала по международному решению и прикрываясь правом наций на самоопределение они оттяпали от Чехословакии большую территорию…
– Важную в стратегическом отношении, – добавил грамотей Шевченко.
– Потом якобы поддержали словаков, – продолжил я. – Не ради себя, а ради другого народа. Снова право наций.
– Точно, – сказал лейтенант. – А потом взяли под защиту остатки разваленной ими Чехословакии, будто бы ради того, чтобы спасти ее от хаоса. И стали насаждать там свои порядки. Без формального, повторяю, присоединения к рейху. И Европа это проглотила. И еще неизвестно, как бы смотрела на это, не начнись в тридцать девятом война.
Я стал читать дальше.
В заметке говорилось: «Вся дальнейшая деятельность Гейдриха – этого палача чешского народа – заключалась в систематическом зверском истреблении чехов». Сообщалось, что десятки тысяч людей были убиты и замучены в тюрьмах, сотни тысяч находились в концлагерях. Гейдриха прозвали «палач на гастролях», потому что из Чехии он направился в Норвегию, «где обучал квислинговских уголовников расправляться с норвежским населением».
– Кисловские уголовники – это какие? – спросил заинтересованно Мухин. Старовольский объяснил про Квислинга.
– Вроде полицаев, что ли? – сообразил бытовик. – Так бы и писали. А то чуть что, так сразу «уголовники».
Некрасов молча показал ему кулак.
В начале мая палач чешского народа находился во Франции. Однако «в связи с тем, что за последнее время в Праге, Моравской Остраве, Брно, Кладно и других городах и округах Чехословакии произошли серьезные выступления против оккупантов, а в Брно был разоружен немецкий гарнизон, Гейдриху было дано указание немедленно оставить Париж и вернуться в Чехословакию».
– Гарнизон разоружили, во дают чехословаки! – восхищенно присвистнул Зильбер. Старовольский скептически покачал головой. Мне тоже не поверилось – гарнизон в крупном городе, практически в рейхе – да случись такое, об этом бы твердили все газеты. Может, написали в предыдущих номерах, которых я не видел? И как это «разоружили» – без боя, что ли? У них, выходит, там вовсю идет восстание, и немцы толпами сдаются в плен?
– Что дальше? – спросил Некрасов.
Теперь, после покушения, протекторат Чехия и Моравия был объявлен на чрезвычайном положении. В Праге запрещено появление на улицах с 21 до 6 часов.
– Раньше, значит, было можно? – слегка удивился Шевченко. Я тоже подумал, что, похоже, оккупация бывает разной и в Чехии она чуть-чуть другая, чем у нас. И как это следует понимать – «протекторат объявлен на чрезвычайном положении»? У них там прежде нормальное было положение? Патриоты разоружают гарнизоны в городах, а дела идут обычным порядком? Или положение стало еще более чрезвычайным?
В приказе о комендантском часе указывалось, что всякий, кто появится на улице после 21 часа, будет расстреливаться на месте. Все пивные, рестораны, театры, увеселительные места закрывались. Дополнительно объявлялось, что будут расстреляны вместе со своими семьями все, кто знает о местонахождении виновников покушения и не сообщает об этом властям.
– Что-нибудь еще есть про Гейдриха? – спросил Некрасов.
– Здесь всё.
– Посмотри-ка в другом номере.
Взяв последнюю «Правду», за 29 мая, я сразу же нырнул в конец, где обнаружил «Подробности покушения на Гейдриха». Из Лондона передавали, что на него покусились в 10 часов 30 минут, на Штроссмайерском шоссе, одной из главных автомагистралей, ведущих из Праги в Берлин. Покушавшихся было двое, тридцати – тридцати пяти лет, оба ушли по шоссе, причем один бежал, а другой катил на велосипеде. На месте остался чемоданчик с наклейкой маленькой пражской гостиницы.
Состояние Гейдриха, по сообщению из Виши, было тяжелым. Накануне покушения он созвал к себе чешских министров (у них там, выходит, и министры имелись), которым заявил, что намерен реорганизовать «правительство» (так в заметке и стояло, в кавычках) и ввести военную повинность для чешской молодежи. Чешские патриоты укрылись в лесах и совершали теперь из чащ налеты на железные дороги. В ночь на 28 мая из Лондона прозвучало обращение к чешскому народу. «Сегодня исполняется семь месяцев с тех пор, как палач Гейдрих впервые прибыл в Прагу…»
– Короче, собаке собачья смерть, – резюмировал Некрасов.
– Может, еще не сдохнет. Немцы, они живучие, медицина на высоте, – пробурчал из угла Молдован.
Теперь фашисты, говорилось далее, готовились к расправе над чешским народом. По мнению женевских журналистов, приказ об обязательной регистрации по месту пребывания представлял собой не что иное, как подготовку к подобной расправе. (Интересно, подумал я, чем отличается регистрация от прописки?)
Мое раздумье прервал Некрасов.
– Что там еще в международной жизни?
Я быстро перечислил основные темы. Бои на Ливийском фронте – тщетные танковые атаки немцев. Воздушный налет на Мальту, есть жертвы. Антивоенные настроения в Италии. Сорвана демонстрация французских фашистов в городе Безье – полторы тысячи человек преградили дорогу фашистам, шедшим под антианглийскими лозунгами. Югославы в Далмации побили итальянских карателей. Болгарское правительство расправилось с болгарскими патриотами.
– Вот это прочтите, – попросил Старовольский.
В Софии заседал военный трибунал. Судили восемь солдат, обвиненных в том, что они заявляли о солидарности с русским народом. Еще пятерых будут судить за агитацию в пользу СССР, а тринадцать, как сообщают, тайно расстреляны в начале мая.
– Сволочи, – сказал Шевченко.
По совету гитлеровцев болгарское правительство запретило празднование дня Кирилла и Мефодия. Министерство просвещения рекомендовало отметить его «возможно скромнее». (Так «запретило» или «скромнее»? – снова не понял я.) Патриоты попытались организовать демонстрацию на бульваре «царя-освободителя» (Александра II? – снова не понял я. У них в Софии есть такой бульвар? Хотя чему удивляться – монархия). Конная полиция применила нагайки. (Царский режим, он и в Болгарии царский режим, без нагаек не обойдется.) В городе были расставлены полицейские посты, но всюду появлялись листовки и лозунги: «Предатели Болгарии запретили празднование общеславянского праздника Кирилла и Мефодия, долой предателей Болгарии», «День Кирилла и Мефодия – день борьбы за объединение славян», «Кирилл и Мефодий – день борьбы против фашистского рабства». Вот уж не думал, что из-за двух православных святош может быть столько шума. И что за «общеславянский праздник»? Отродясь я о нем не слышал, а тоже вроде из славян.
Новости с Дальнего Востока и Тихого океана были неутешительны. Наших союзников жали по всем направлениям. Самураи сосредоточивали на Новой Гвинее бомбардировочную авиацию и подбирались к Австралии. Англичане ушли из Бирмы в Ассам. По горной дороге, почти непроходимой от дождей. Сразу же после ухода британцев она стала совершенно непроходимой.
Я обратился к Некрасову:
– Товарищ старший политрук приказал прочесть еще о втором митинге представителей еврейского народа. И две статьи. Разрешите сначала перекусить?
Все рассмеялись.
– Давай мне газету, – сказал Зильбер. – За митинг это по моей части.
– Ты читать-то умеешь, музыкант? – съехидничал Шевченко.
– Смотря что.
Пока он читал «за митинг», я наслаждался горячей кашей.
В послании советских евреев товарищу Сталину говорилось:
«Впервые за последние два тысячелетия для сынов нашего народа открылась величественная дорога мужества и подвигов. Широким потоком устремились на эту дорогу наши братья и сыновья.
Евреи всех стран с радостью смотрят на своих советских собратьев, обладающих этим правом и честью строить свою свободную жизнь наравне со всеми народами нашей родины. Бесправие и нищета, преследования и погромы ушли в область печальных преданий».
Ну и так далее. Кончалось обращение призывом «Смерть гитлеровским мерзавцам!».
– Смерть, – согласился Некрасов. – Что там еще?
– Обращение «К евреям всего мира!», – сказал Зильбер.
– Строго говоря, это не к нам, а к загранице, – засомневался младший политрук. – Может, пропустим? Еще целых две статьи.
– Разрешите прочесть, – попросил Зильбер. – Интересно же. За границей тоже люди живут.
Обращение было длинным. Звучало оно сильно. «Велико горе еврейского народа. В захваченных городах гитлеровцы предают мученической смерти евреев, еврейских женщин, еврейских детей, евреев-стариков».
Я перестал есть кашу и опустил глаза.
Весь народ предавали смерти, об этом я знал давно. И всё равно не понимал – почему? Ясно было, фашисты звери. Ясно, что они свирепо угнетали нации Европы и вели против нас войну на уничтожение. Ясно, что, если мы проиграем, нам не жить на нашей земле. Ясно, что враг расправлялся с активными коммунистами и комсомольцами – а значит, при случае не пощадит и меня. Но почему евреев истребляли сразу же, поголовно и не разбирая, кто есть кто? Ведь не все евреи были коммунистами, не все ненавидели немцев, наверняка и среди них были враги советской власти, которые могли бы при случае стать вражескими пособниками – полицаями, гестаповцами, переводчиками. Или просто торговцами, ведь немцы поощряли всяческих нэпманов и прочую мелкобуржуазную плесень. Раньше всё было иначе – отец рассказывал, как на империалистической, случалось, ловили евреев, шпионивших в пользу германцев. Очень разные люди были евреи, такие же как все – дерьма не меньше, чем в остальных. Что же они такого сделали немецкому фюреру, что он с ними вот так – беспощадно и навсегда?
Голос Зильбера сделался громче, он читал призывы, один за другим.
– «Бойцы-евреи, будьте снайперами. Бойцы-евреи, метко кидайте гранаты, будьте грозными бронебойщиками, прямой наводкой громите врага! Евреи-летчики, уничтожайте адскую технику гитлеровских полчищ! Пусть ваши имена сияют среди лучших имен советских летчиков, прославленных на весь мир! Евреи-танкисты, идите вперед, отвоевывайте родную советскую землю: там могилы ваших отцов и там будущее счастье ваших детей.
Каждый месяц множатся ряды евреев-гвардейцев».
– Вот станет наша дивизия гвардейской, – заметил Некрасов, – и ряды евреев-гвардейцев еще более умножатся. Минимум на одного старшину второй статьи.
Зильбер хищно поглядел на сидевшего в дальнем углу, рядом с Пимокаткиным, Пинского.
– И минимум на одного красноармейца.
Далее шли пламенные призывы к зарубежным евреям. «Евреи оккупированных германским фашизмом стран, ломайте стены зловонного гетто! Берите в руки оружие! Вступайте в партизанские отряды! Евреи Великобритании и Америки! В этой войне нет места выжиданию. От Иоганнесбурга до Монреаля, от Александрии до Сан-Франциско, евреи, идите в бой… Евреи всего мира! Соберем деньги, закупим тысячу танков, пятьсот самолетов и пошлем их Красной Армии!»
– Точная цифра, – подивился Старовольский. – Финансовые возможности мирового еврейства подсчитаны до последнего американского цента?
Зильбер не обратил на него внимания. «Борьба идет не на жизнь, а на смерть. Между силами реакции и силами прогресса. На стороне реакции – гитлеровская Германия и ее союзники, на стороне прогресса – Советский Союз, Великобритания, Соединенные Штаты Америки и другие свободолюбивые народы… Братья-евреи всех стран! Наступает лето 1942 года. Оно решит судьбу еврейского народа. Это лето должно принести разгром уже надломленной армии Гитлера… Будьте же суровыми солдатами! Под знамена свободы! К оружию!»
Последние слова старшина второй статьи прочел с несвойственным ему воодушевлением. Некоторое время мы молчали. Потом Некрасов сказал:
– Ты, Левчик, конечно, будь суровым солдатом, но как-нибудь больше с немцами, чтобы подчиненные не стонали.
– У меня всё в мэру, – ответил Зильбер и вернул мне «Красный флот». Я печально вздохнул, обнаружив на развороте здоровенную статью член-корреспондента АН СССР Л. Иванова «Война на Тихом океане». Мне давно хотелось разобраться, что же происходит на новом театре военных действий и каковы причины наших, то есть американо-британских, неудач в войне с японскими милитаристами. Да и командирам было бы интересно. Но вместо этого надо было по приказу товарища Земскиса читать из «Правды» статью о летчике.
Я направил луч лампы в свою сторону и быстро отыскал нужный мне материал. Назывался он «Стой, смерть, остановись!» и принадлежал какому-то Александру Довженко с Юго-Западного фронта. Стиль был довольно необычным, и так показалось не только мне.
Не по-газетному мощный зачин звучал, как оперная увертюра. «Встаньте, бойцы и командиры! Обнажите головы! Слушайте, как боролся со смертью изумительный русский летчик, капитан Виктор Гусаров, и как победил он смерть».
– И как же? – заинтригованно спросил Некрасов, отставляя в сторону котелок. Старовольский, покачивая головой, нараспев повторил слово «изумительный».
Виктор Гусаров был ранен во время воздушного боя, в чем ничего необычного не было. Поражало иное – количество подробностей, известных автору статьи, и весьма неординарная манера изложения.
«Смертельная вражеская пуля пробила ему шею насквозь. Плюнул Гусаров кровью и закрыл рот, крепко, крепко сжал зубы. Тогда кровь хлынула из шеи направо и налево двумя струями, как дорогое красное вино из драгоценного сосуда. И понял Гусаров, что он убит, что он умирает».
– Той Довженко там був, чи шо? – удивился Саня Ковзун.
Я пожал плечами.
– «Оторвался он от шестерки, как лебедь от стаи, и пара врагов уже набросилась на него, и кружится, и поливает огнем. Десятки пробоин в машине, уже не служат шасси. Смерть… Гусаров открыл глаза, и вот откуда-то из глубины его души, от лесов и полей, от песен и широты русской натуры заговорил в нем голос жизни, всемогущая воля к победе. Стой, смерть, остановись! Стой! Дай посадить машину на родную землю, а там уж черт с тобой! Пожелал Гусаров, и смерть отступила от Гусарова».
– Нэ вмэр? – спросил с надеждой Ковзун. Я тоже вдруг понадеялся, что летчик Гусаров останется жив.
Увы, смерть только отступила, не ушла. Когда истребитель без шасси приземлился, сидевший в нем капитан Виктор Гусаров был мертв. А Александр Довженко снова завел свою песню: «Воины великой советской земли, братья мои! Это был великий человек! Слава победителю!»
Когда я кончил, Старовольский пробурчал:
– Олэсь Довженко у свойому рэпэртуари. Товарищ Земскис лично велел прочесть?
– Да. Лично.
Младший лейтенант переглянулся с младшим политруком.
Не знаю, был ли он лично знаком с Александром Довженко или просто что-то у того уже читал. Мне такой автор был неизвестен. Я знал лишь кинорежиссера, который снял картину про Щорса, красивую такую, с песнями и плясками. Полфильма на украинском языке, я даже не всегда всё понимал. Довженко же из газеты был просто идиот, напоминавший чем-то комиссара Земскиса. Как сказала бы мать, невыносимый пошляк. Хотя фильм про Щорса тоже местами был, прямо скажем, не очень. Слишком много в нем болтали, особенно про Украину. Она, конечно, родная и несчастная, и любить ее надобно из всех последних сил, но когда все только об этом и талдычат, как-то не больно верится.
Некрасов зевнул. За ним зазевали другие, и даже Старовольский. Мне тоже чертовски хотелось спать, было порядком за полночь. Немцы почти не стреляли, наши молчали тоже.
– Что у нас еще? – спросил младший политрук, прикрывая ладонью рот.
– Статья Ильи Эренбурга. «Оправдание ненависти».
– Воздержимся? – с надеждой спросил Старовольский.
– Перенесем на следующий раз, – дипломатично рассудил Некрасов.