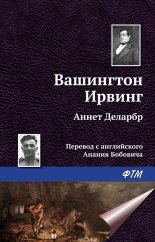Подвиг Севастополя 1942. Готенланд Костевич Виктор

– Верно. Тогда послушайте русский стишок про иностранных журналистов. Внимайте, миланский вития.
И легонько прыснув, зондерфюрер продекламировал – тихо, чтобы не разбудить Юргена, но в то же время с некоторым чувством:
- Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
- От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
- От потрясенного Кремля
- До стен недвижного Китая,
- Стальной щетиной сверкая,
- Не встанет русская земля?
- Так высылайте ж нам, витии,
- Своих озлобленных сынов:
- Есть место им в полях России,
- Среди нечуждых им гробов.
– Ваш слух усладился, Флавио? – спросил он, закончив чтение.
– Звучит довольно бодро, – великодушно похвалил я московского барда. – И что это значит?
Ответом было молчание, показавшееся мне тяжелым. Возможно, из-за темноты. Немного погодя я услышал, как к прерывистому храпу Юргена присоединилось ровное дыхание слависта. Грубер спал крепким сном человека с чистой совестью – или с железными нервами.
Мне же долго еще не спалось. Будем считать, из-за нервов.
Sturm und Drang
Старший стрелок Курт Цольнер
6-7 июня 1942 года, суббота – воскресенье, пятый день артиллерийского наступления и первый день второго штурма крепости Севастополь
Обстрел продолжается пятый день. Бьет батальонная, полковая, дивизионная, корпусная артиллерия. В непроницаемой пелене из пыли и дыма мечутся вспышки разрывов. Гул и грохот не прекращаются, только ослабевают – чтобы спустя немного усилиться вновь. Иногда мы слышим особенно тяжкие удары – это производят свои редкие выстрелы сверхтяжелые мортиры и гаубицы. А вчера ранним утром показалось, будто начинается землетрясение, и вечером нам сообщили, что где-то (в Бахчисарае, но это, конечно, военная тайна) стоит особая невиданная пушка. Ее обслуживает целый полк солдат во главе с генерал-майором, длина ее ствола – тридцать метров, калибр – 80 сантиметров, снаряд, если поставить его вертикально, будет высотою с маленький домик, а весит он целых семь тонн. С трудом себе представляю, зачем необходим такой монстр, но говорят, он в состоянии разрушить сверхпрочные сооружения из железобетона и стали на русских береговых батареях. Сверхтяжелые, сверхпрочные, как же всё надоело. Сегодня эта дура стреляла опять.
Штабники непобедимой 11-й армии дали русским батареям остроумные, как им кажется, названия – «Максим Горький I», «Максим Горький II». Еще есть форт «НКВД», форт «Сталин», форт «Молотов», форт «ЧК». При мысли о предстоящем штурме эти имена вовсе не кажутся смешными.
Когда умолкает артиллерия, русские позиции обрабатывают десятки самолетов. Оглушительный вой сирен и свист авиабомб сливаются в невыносимую какофонию. Тонны металла рушатся с неба – неужели там кто-то еще остался? Дидье пожимает плечами: «Почему бы и нет? В первую войну по неделе и больше сидели». Но в первую войну такой авиации не было.
Мне бы как рефлектирующей личности поставить себя на место людей, уже пятый кряду день смешиваемых с землей и камнями там, – но рефлексия моя отключилась сама собой. Ее нет, а я есть. Тут, живой и невредимый. Пока не начнется штурм. А он начнется. Быть может, завтра. Или даже сегодня.
Я читал описания артподготовок – и у запрещенного ныне Ремарка, и у правильного Карла Юнгера. Я сам кое-что видел в последний год. Но эта по масштабам превосходит всё мне известное. «Чтобы мы жили, русский должен умереть», – то и дело повторяет Греф. Ну да, конечно, я и забыл. Пусть их себе умирают.
«Боже, сколько это может продолжаться, – шепчет кто-то рядом, и мне лень оглянуться, чтобы увидеть кто. – Я не могу, не могу я больше». «Чем дольше, тем лучше для нас, – объясняет ему Дидье. – Надо, чтоб там никого не осталось».
Там никого не останется, думаю я, и мы пойдем как по луне, от кратера к кратеру, обходя разорванные останки стриженных под ноль людей, озираясь и переглядываясь. И это будет самый лучший вариант. Правда ведь, Цольнер?
Пекло во всех отношениях. Солнце жарит невыносимо. Слава Богу, есть вода, мы много пьем и почти не мочимся. Говорят чуть ли не о пятидесяти градусах по Цельсию. Охотно верю. Голова раскалывается, нечем дышать, кровь ударяет в виски, хочется забиться в нору и не показывать носа. Артиллеристы работают полуголыми, оставшись в брюках, а то и в одних трусах. Нам тяжелее – надо быть готовыми к броску. Хорошо хоть не нужно носить суконных мундиров – не то, что в прошлом году, когда начальство не позволяло и этого. Но теперь даже хлопчатобумажная куртка кажется слишком жаркой. Но все это вздор по сравнению с тем, что нас ожидает там.
«Опять шестиствольные загудели», – с довольным видом замечает Греф. Наносят удар реактивные минометы. Для большего впечатления ближе к вечеру. Кометы с дымным хвостом прорезают с протяжным воем сумерки. Кошачий концерт продолжается по пять, а то и более минут. Говорят, по силе эти мины существенно уступают реактивным снарядам русских, но они оказывают прекрасный психологический эффект – понятный всякому, кто побывал, как мы, под обстрелом «сталинских органов» или, как русские, мог наблюдать их действие со стороны. Хорошо, что русские батареи молчат, до чего же всё-таки хорошо.
Саперы по ночам снимают наши и русские мины. Изредка вспыхивают перестрелки, но в целом идет всё по плану. Оглушенные за день «советы» слабо реагируют на происходящее прямо под носом. А вот и последняя новость, вполне официальная – идем сегодня, то есть завтра, ночью. В три ноль пять. Мы выдвигаемся в передовые окопы, во тьме гудят моторы и лязгают гусеницы. Вегнер объясняет задачу командирам взводов, те, в свою очередь, нам. Этого Вегнеру мало, и он обходит подразделение, словно бы стараясь заглянуть в глаза каждому. «Я верю в вас, ребята». И мы тебе верим, наш доблестный ротный. И каждый будет героем. Аой!
* * *
Ранцы и шинели сданы были главному фельдфебелю. Под огнем они ни к чему, там нужно быть прытким и легким. Винтовка, лопатка, штык-нож, гранаты, патронные сумки, противогаз, фляжка, перевязочные средства. В сумках, помимо неприкосновенного «железного рациона», дополнительный запас сухарей, двойная порция колбасы, шоколад – то, что можно будет съесть, даже если оно раскрошится или помнется. В сетки на касках вставлены пучки травы и веточки. Дидье выпустил штаны поверх сапог – чтобы при ползании в голенище не набивалась земля и камни. Я оставил по-уставному – чтобы можно было всунуть что-нибудь полезное, скажем гранату. Воистину, всё имеет свои плюсы и минусы. Греф проверил у каждого наличие на шнурке личных опознавательных знаков.
Я поглядел на часы. Фосфоресцирующие стрелки показали – осталось совсем немного, меньше сорока минут. Прошелся взглядом по траншее: Греф с «МП-40», Главачек с полученным недавно русским автоматом, Дидье, Гольденцвайг. Браун со своим пулеметом, его второй номер – новичок по фамилии Хюбнер. Каплинг и рядом с ним Штос с санитарной сумкой. Все, кому положено, были на месте. Теперь только ждать. Сигналом будут ракета и свисток. Саперы уже выползли к проволочным заграждениям. Аккуратно и без шума режут спирали Бруно. И так, должно быть, на всем протяжении фронта. Я провел ладонью по каске. Бог даст, проскочим.
Одно было неясно, что тут делает фон Левинский. Он пришел вместе с Вегнером, да так и остался. Стоял слева, рядом со мной и курил. В забрезжившем рассвете четко читалось сосредоточенное лицо. Слегка дрожащими пальцами лейтенант зажигал сигарету, совал ее в рот, не докуривал, бросал на землю. Аккуратно придавливая носком сапога. Щелкнув зажигалкой, закуривал новую.
Заметив мой взгляд, он спросил:
– Как самочувствие, старший стрелок?
– Отлично, – ответил я с надлежащей бодростью. Стоило бы спросить: «А у вас?» – однако дерзить я не стал.
– И всё же немного не по себе?
– Самую малость, – легко согласился я.
Получив психологическую поддержку, лейтенант протянул портсигар. Я покачал головой.
– Спасибо, господин лейтенант, не курю.
– Похвально, – заметил тот.
Он собрался засунуть портсигар в карман галифе. Я вспомнил привычку Грефа и как бы невзначай ткнул пальцем туда, где у меня при обычной форме имелся нагрудный карман – и где он был на летнем мундире Левинского. Лейтенант улыбнулся.
– Верно, – и последовал моей ненавязчивой рекомендации. – Вы давно на фронте?
– С Днепра.
– А я вот первый раз иду в атаку. Стыдно признаться.
– Я первый раз чуть с ума не сошел, – признался я в свой черед. – Да и сейчас. Что первый, что пятый.
– Конечно, конечно.
Он поправил кобуру на животе и потрогал гранатную сумку.
– Взял вот. На всякий случай. Хороший запас.
Я одобрил и показал на свою амуницию.
– Я слышал, вы студент? – поинтересовался Левинский.
– Да, нас тут несколько. Я искусствовед. Недоученный, правда.
– Я тоже недоученный. Географ.
Я уважительно кивнул. Занятно, его послал полковник Берг или самому не сиделось в штабе? Совестливый, не может оставаться в стороне? Напросился и теперь пойдет вместе с нами? Есть же, однако, люди.
Поставленная перед нами задача выглядела довольно просто. Преодолеть проволочные заграждения перед расположением батальона, занять передовую линию русских окопов, овладеть разведанными огневыми точками и ждать дальнейших распоряжений. Всего ничего, если русские и в самом деле перебиты или ушли. А если нет? Война, она и в Крыму война. Зимой они не уходили, лезли из всех щелей, и я бы не сказал, что это доставляло нам большое удовольствие.
Я вновь поглядел на часы. Вот сейчас, еще десять минут… И тут-то по всему фронту – как гром среди ясного неба – ударила русская артиллерия. Мы и забыли, когда слышали ее последний раз. А теперь, в самый неподходящий момент, когда траншеи были забиты штурмовыми группами, когда нейтральная полоса кишела подбиравшимися к русским позициям саперами, она вдруг заработала всеми калибрами. И нам пришлось испытать примерно то же, что испытывали русские на протяжении нескольких суток.
Прикрываясь плащ-накидкой от сплошного потока земли и камней, я судорожно скорчился на дне. Долго ли это продолжится? Дыхание сперло, горячий воздух волнами проносился над головой, барабанные перепонки, казалось, вот-вот не выдержат и порвутся. А может, лучше сдохнуть прямо сейчас? Раз, и готово. По нас молотили из противотанковых пушек, минометов, гаубиц и еще Бог знает чего. Кажется, даже из жутких орудий «Максима Горького» (первого или второго?). Похоже, они догадались о нашем наступлении и теперь прилагали усилия, чтобы его сорвать. Такое мероприятие называется артиллерийская контрподготовка.
Хотя все, кто был рядом минуту назад, по-прежнему были здесь, я ощутил тоскливое одиночество. Чтобы преодолеть неприятное чувство, заставил себя приоткрыть глаза. Левинский был рядом, держался молодцм и даже подмигнул. А вот один из новеньких, прибывших со мной и Дидье из учебного лагеря, не выдержал и выскочил из окопа. «Куда!» – в отчаянии выкрикнул Штос, но было поздно – тот скрылся в сплошной стене поднятой разрывами породы.
Не знаю, как долго продолжалось это безумие, но я успел передумать о многом. Хотя о многом ли тут подумаешь? Перед глазами то и дело возникало одно и то же – извещение о том, что некий старший стрелок погиб на поле чести (разумеется, за вождя и отечество), скорбные физиономии господина Цольнера и его безутешной супруги, мордочка Клары. И Гизель, почему-то обнаженная и почему-то не со мной. Впрочем, как же ей быть со мной, когда пришло такое извещение?
Завыли «сталинские органы». Только бы не по нас, только бы пронесло… Небо окрасилось в багровый цвет.
Русский обстрел окончился так же внезапно, как начался. Я машинально взглянул на часы – двадцать минут, не больше. Но до чего же мерзко.
– Похоже, они там живы, – шепнул подползший ко мне Дидье.
Я кивнул. Они живы. И их там много. Очень много. Странно только, что так недолго всё это длилось. Быть может, у них не хватает снарядов. Если так, то неплохо, совсем неплохо.
Стало понятно, что наш выход на авансцену истории будет несколько отсрочен. Часа так на два, если не больше. Заговорили немецкие пушки. Артиллеристы старались накрыть засеченные только что цели. Поначалу пальба была довольно редкой и нестройной, но постепенно нарастая, входила в четкий, привычный режим.
Некоторое время я по инерции поглядывал на часы. Потом перестал. По русским били всё новые батареи, и в какой-то момент я стал надеяться, что атака будет отложена еще хотя бы на сутки. Слишком очевидным представлялось, что русская оборона нуждается в дальнейшей обработке. В розовеющем небе на высоте пары тысяч метров проплыли десятки самолетов, и русский передний край окончательно превратился в бушующий пламенем океан. Я бы этого не увидел, если бы не Левинский. Он осторожно выглянул из траншеи. Последовав дурному примеру, мы как зачарованные уставились на бешеный вихрь, крутившийся неподалеку от нас. Ныряли назад, когда вдруг казалось, что нам угрожают осколки, и снова выглядывали – как там у них, не кончилось?
– Четыре тридцать, – сообщил появившийся рядом с нами Вегнер.
– Когда пойдем? – спросил его Левинский.
– Скоро, скоро.
Значит, всё-таки скоро. Я сжал ладонью шейку винтовки.
– Проверить патроны, – распоряжался, чтобы не сидеть без дела, Греф, – приготовить гранаты, следить за сигналами.
Появившиеся вчера после полудня облака обманули. Жара обещала быть невыносимой. Едва различимое в дыму и вихрящейся пыли солнце послало изувеченной земле первую порцию тепла, осветив красноватым светом долину Бельбека и гряды холмов по ее сторонам. Нашу и русскую – которой нам предстояло еще овладеть. Пока что русские холмы были едва различимы и казались недостижимыми – как солнце или, по меньшей мере, луна.
* * *
Огненная волна откатилась в глубь русских позиций. Взлетела красная ракета, раздался протяжный свист – и всё осталось позади. Очутившись вне окопа, я согнувшись побежал вперед, выискивая глазами место, где залягу и пропущу вторую цепь. Так ничего и не выбрал. Тяжело плюхнулся на землю, успел заметить, как залегают другие, ползком переместился влево. Пока бежал, собирался ползти направо, но в последний момент передумал – вдруг русский стрелок прочел мои мысли. Дурь, конечно, но чем черт не шутит.
Второе отделение пробежало мимо и залегло в десятке метров от нас. Раздался голос Грефа.
– Вперед.
Ноги бежали сами. Должно быть, со стороны мы смотрелись неплохо – аккуратные группки стремительно перемещаются, залегают, встают, чередуясь в простом и ясном порядке. Как на учениях. Но я никогда не видел этого со стороны. В том числе на учениях.
Пока обходилось без стрельбы. Быть может, они действительно выбиты или ушли? Мы займем первую линию без боя, закрепимся, и задача будет выполнена. Нам принесут обед, возможно выдадут шнапса, а там выяснится, что русские оставили также вторую линию и третью.
– Вперед.
Еще одна перебежка. Другая, третья. Начались проволочные заграждения, разбитые снарядами и порезанные саперами. Повсюду зияли воронки, местами горела трава. Где-то на правом фланге, за остатками кустарника прерывисто застучал пулемет. Эхом отозвалось слева. В грохоте продолжавшейся канонады расслышать треск пулеметов было почти невозможно. Но я расслышал.
– Вперед.
В сущности, мы были не первые. Перед нами прошли саперы. И приняли первый удар. А теперь вслед за ними устремились сотни и тысячи пехотинцев. Один из них в моем лице лежал у перебитого снарядом кола с свисавшим обрывком колючей проволоки, ожидая, почти с нетерпением, новой команды.
– Пошли, ребята, пошли.
В непрерывный орудийный гул вплелись еле слышные звуки ближнего боя. Хлопки гранат, стрекотание пулеметов. Возникавшие в секунды относительной тишины автоматные трели и выстрелы из винтовок. Стало быть, у четвертой роты началось. Доносился шум моторов – слева пошли штурмовые орудия.
Я почти ничего не чувствовал, даже страха. Он прошел, остался где-то там, в узком постылом окопе, казавшемся теперь надежным и безопасным местом. Покинутым навсегда. Но возвращаться туда не хотелось.
– Вперед, – прошипел Греф, и мы, вертя задами, поспешно стали вползать в проход между оборванных саперами спиралей Бруно. А вот и оно – цвиркнуло несколько раз подряд. Небольшие кусочки металла, калибром семь целых шестьдесят две сотых миллиметра. Неужто заметили или бьют наугад? Или даже не в нас, а в саперов?
Если вернуться к ощущениям, то было еще всегдашнее опасение чего-то недослышать, недопонять, не сделать и, главное, остаться одному.
– Цольнер, ты как?
– Порядок.
Нас накрыло при следующей перебежке. Я не увидел, кто упал, кто цел, кто ранен, просто повалился на землю и стал выжидать. Теперь однозначно стреляли по нас. По фронту работало два пулемета, справа колошматила пушка, одна за другой просвистели мины.
– Вот ведь уроды! – выругался Браун и, приладив поудобнее пулемет, выпустил длинную очередь. Ответом был снаряд, шлепнувшийся метрах в пяти от него. Браун со своим вторым номером поспешно скатился в темневшую рядом большую воронку. Туда же прыгнул Дидье. Мне захотелось к ним, но было слишком далеко.
Русский передний край взорвался бешеной стрельбой. Плотным огнем нас прижали к земле. В поисках укрытия я прополз мимо свернувшегося в позе эмбриона сапера (край погона с черной окантовкой был виден издалека). Первая встреченная мною жертва второго севастопольского штурма, да упокоит Господь ее душу.
– Продолжаем движение.
Кажется, это был Вегнер, Греф бы сказал иначе. Быть может, Левинский? Голоса я не узнал. Штурмовое орудие слева ударило по русскому пулемету и, похоже, его погасило. Нет, заработал опять.
Я утратил ощущение времени, а посмотреть на часы не решался. Медленно полз вперед, пережидая всякий раз, когда пальба усиливалась. Снова увидел наших – Дидье, Брауна, ротного.
– Как дела, Цольнер?
– Нормально, господин лейтенант.
Чуть позже от проползшего к нам корректировщика минометного взвода мы узнали – на левом фланге наметился вроде успех. Самоходкам удалось подавить русский дот, пехота сумела ворваться в окопы. Правда, ее моментально выбили, но атака возобновилась. Потери немалые – оттого что поперлись густыми цепями, полагая, что русские не успеют очухаться после обстрела. А они, подлецы, очухались гораздо раньше, чем думалось. (Не приходилось сомневаться, что третьей роте здорово повезло с командиром. Повел наступление строго по наставлению, без всяких ненужных импровизаций.)
К Вегнеру подобрался Греф с командиром первого взвода. Они о чем-то посовещались. Нам передали приказ – будьте готовыми к броску. Минут через десять в русскую сторону ударили минометы.
– Вперед!
Мы вскочили – и с ходу напоролись на кинжальный огонь. Практически в упор. Падая, я услышал чей-то щенячий взвизг. Дерьмо.
Мы тоже принялись палить – из пулеета и винтовок. Взводные и отделенные лупили из автоматов. Я бил почти не целясь, на вспышки, целиться было не во что. Передергивая затвор, распластывался по земле, вскидывал голову и бил. Справа, пригнувшись, перебегали фигуры в немецких касках.
– Вперед!
Теперь побежали мы, другие нас прикрывали. Довольно эффективно – выстрелы русских сделались крайне редкими. Впереди громыхнули гранаты, похоже, наши, уже в окопе. Я на бегу выстрелил в возникший над бруствером силуэт. Он исчез, но вряд ли из-за меня. Снова ударили минометы.
* * *
В конечном счете атака захлебнулась. Вместо решительного броска вышла разведка боем. Через пару часов нам дали приказ на отход, и вновь началась обработка русских позиций снарядами и авиабомбами. Нашу роту, по предусмотрительности Вегнера почти не понесшую потерь (впрочем, убитый и четверо раненых тоже имеют цену), перебросили на «обещающий успех» соседний участок, поручив штурмовать занятый русскими матросами пригорок. Овладение им позволило бы разрезать русские боевые порядки. Предварительно дали перекусить.
Там было ничуть не лучше. Мы взбирались ползком по пологому склону. Кое-где средь кустарника возникали короткие вспышки, иногда раздавался треск и вокруг начинали шлепаться русские пули.
Метрах в тридцати от каменной глыбы, торчавшей из ската, наше движение надолго остановилось. Сверху строчил пулемет и летели гранаты. Они взрывались у нас под носом, обдавая жаром и осыпая комьями земли – бывшими ерундой по сравнению с осколками, проносившимися со свистом прямо над головой.
Слева пыхтели саперы с трехметровыми подрывными зарядами. Справа я увидел Левинского, необычайно сосредоточенного, с пистолетом в левой и гранатой в правой руке. В глазах застыла твердая решимость добраться до окопа и закинуть в него эту штуку на рукоятке. Заметив мой взгляд, он шевельнул бровями. Я ответил гримасой взаимопонимания.
Взрыв мины за спиной показался совсем не громким. Я съежился, пережидая, а когда обернулся, Левинского не увидел. Вероятно, его отбросило куда-то в сторону, если вообще не разорвало на части, такое бывает тоже. Зубы сжались сами собой.
Среди непрерывного гула прозвучало еще три хлопка. Нас засекли – или швыряли по площадям, справедливо считая, что тут ползают толпы немцев?
– Хватит думать. Пошел, пошел!
Это был Греф. Тяжело дыша, взводный быстро перебирал локтями, зыркая глазами направо и налево. Стало спокойнее, и я последовал за ним. Боковым зрением заметил Дидье. Бледное лицо светилось охотничьим азартом – тем, который овладевает порой несмотря ни на что. Он толкал перед собою винтовку, в одной ладони сжимая лопатку, стискивая гранату другой. Совсем как недавно Левинский.
После очередной серии мелких разрывов (пронесло и на этот раз) я увидел перед собой закопченную рожу взводного. Показав движением головы на воронку, зиявшую справа от нашего курса, он знаками показал: «Собираемся там». Я кивнул и пополз в ту сторону.
В воронке нас оказалось четверо. Я спросил у Дидье, как его самочувствие, и сообщил о Левинском. Греф подтвердил: «Разнесло в чертям собачьим. Рука мне прямо перед рылом шлепнулась. С золотым обручальным колечком».
– Судьба, – ответил Хайнц.
– При чем тут судьба? – не согласился Греф. – Просто невезение. Случай.
Диспут о дефиниции понятий «судьба», «рок», «везение» и «случай», по счастью, не состоялся. Бедный Левинский. Что скажут при случае обо мне? Да пошли вы в жопу, все.
Я уселся на развороченной железом земле и откинулся спиной на покатую стенку.
– Хорошо устроился, – проворчал насмешливо Греф, заботливо обтирая припасенной ветошью автомат.
– Рекомендую, – отозвался я, занявшись своей винтовкой.
* * *
Мы просидели в воронке несколько часов, с тревогой вслушиваясь в звуки вокруг и изредка получая информацию о состоянии взвода и роты. Переждали третью в течение дня артобработку русской обороны (не без оснований опасаясь, как бы в нас не залепила родная артиллерия). Затем были брошены дымовые шашки и саперы сумели, подтащив свои заряды, подорвать мешавшую нам скалу. Она тяжко обрушилась в пыльных клубах – и мы, швырнув перед собою гранаты, рывком преодолели последние метры, запрыгнув наверху в полузасыпанный окопчик. Там действительно валялся пулемет, но, похоже, его накрыло еще во время артобстрела – настолько он был покорежен. От пулеметчиков вообще ничего не осталось. Пошарив по дну окопа, Дидье подобрал черную бескозырку с золотыми буквами на околыше. «Что написано, Курт?» – «Commune de Paris», – механически перевел я с русского на французский. «Что за фигня? При чем тут Париж?» – поморщился оказавшийся рядом Главачек. Богемец считал себя специалистом по славянским языкам и теперь, усомнившись в моей способности понимать кириллический шрифт, был этим явно доволен. Чем бы дитя ни тешилось…
Не успели мы обосноваться на пригорке, как нас стремительно контратаковали русские. Они бежали почти в полный рост, с разверстыми в бешеном крике ртами. Целой ротой, не меньше, ломая кустарник, с винтовками наперевес. В однотипных военных рубахах, перепоясанных ремнями и выгоревших добела. На некоторых были матросские бескозырки вроде той, что подобрал Дидье. Искрами вспыхивали кончики страшных штыков – ножевых вроде наших и чисто русских, похожих на иглы. Поразительно, сколько порой успеваешь увидеть за пару секунд.
«Что, азиаты, вконец озверели?» – яростно крикнул Браун и, тоже разинув пасть, открыл пулеметный огонь. Мы стали бешено стрелять из винтовок. Главачек, не успевший залечь, прямо с колена бил короткими очередями из русского автомата. Они падали один за другим, вскидывая руки, издавая вопли, хватаясь за животы, вертясь на месте волчком. «Вперед, товарищи, вперед!» – полуобернувшись назад, кричал человек в фуражке – не матросской бескозырке, а обычной армейской с малиновым околышем. Его перерезало пополам, и он повалился в трех десятках шагов от нас, взмахнув напоследок рукой со звездою на рукаве. «Получай, получай, суки!» – как безумный вскрикивал Браун. Я тоже что-то кричал, азарт охватил и меня.
Над головами просвистели наши мины, и в смешавшейся толпе атакующих взметнулись фонтаны камней. Русские схлынули и укрылись в траншее. В пространстве между окопами остались мертвые и тяжелораненые. В ушах звенел надрывный крик. Однако когда, разгоряченные удачей, мы кинулись русским вслед, сходная участь постигла и нас. Повалилось не менее десяти человек, тоже вопя, тоже вертясь и тоже за что-то хватаясь.
Я больно ударился при падении о камень, отполз чуть в сторону и изготовился к стрельбе. Браун остался без помощника – Хюбнер получил ранение в пах и, кажется, умирал. Дидье и Каплинг заволокли его обратно в траншею, Штос пытался ему помочь, но только измазался кровью, залившей Хюбнеру брюки. В тылу урчали моторами штурмовые орудия и бронемашины. В разрывах дымных туч, опять затянувших небо, ровным строем проходили бомбардировщики.
Ясность / День первый
Капитан-лейтенант Сергеев
7 июня 1942 года, воскресенье, двести двадцатый день обороны Севастополя
До чего же все относительно… Когда через час после нашего налета немецкая артподготовка достигла полной силы, вчерашний и позавчерашний обстрелы показались детскими штучками – а ведь они ими вовсе не были. Сразу же перебило связь, пришлось посылать Сычева к Бергману. Не успел вернуться Сычев, приполз человек с НП батареи – как вы тут, хлопцы? Порядок, порядок, ждем. По небу плыли самолеты.
Великая вещь определенность. Вчерашний «язык» в штадиве показал – приказ отдан, батальоны и техника выдвигаются на передний край, в три часа пополуночи двинут. Похоже, своим артналетом мы им сильно подпортили музыку – уже шестой час утра, а они не решаются высунуть носа, пытаются нас уничтожить снарядами и бомбами. Давайте, валяйте, ублюдки.
Они и валяли. От серии сброшенных «Юнкерсом» бомб досталось взводу Априамашвили, убито шесть человек, разбито орудие. Были потери у бронебойщиков. Попало и по моим – Лукьяненко сообщил о двух убитых и четверых раненых. Если так пойдет дальше… скорее б уже, черт возьми. Я напряженно поглядывал на часы и тщетно пытался разглядеть хоть что-то со своего КП. Стереотруба, полезный подарок хозяйственного Бергмана, не помогала. То и дело приходилось прикрывать ладонями уши – запасных у меня не имелось. Вернулся Сычев, и мы, пригибаясь под осколками, побежали к Лукьяненко. Тот из подкопа, в котором сидел в обнимку с «дегтяревым», проорал, что новых потерь нет и что пусть только, сволочи, сунутся. Вредный он был мужик, но военное дело знал.
Штурм начался как-то без перерыва. Еще продолжали грохотать орудия, перенося огонь всё на большую глубину, а уже затарахтели пулеметы, забухали винтовочные выстрелы. Личный состав стремительно кинулся по местам. Отдав Лукьяненко последние распоряжения и узнав от некрасовского посыльного, как дела у третьего взвода, я поспешил к Старовольскому. Там я был нужнее.
Его ребята держались на удивление хорошо. Не всякому доведется пережить подобное в первый же настоящий бой. А ведь были еще предыдущие пять дней. Только что улетели «мессеры», полив напоследок траншею из пулеметов (по счастью, обошлось без потерь), и взвод стремительно разместился за бруствером. Мне сразу же попался на глаза тот паренек, первый по списку, Аверин. Бледный, таращил глаза в пространство, искал врага, рука под ложем винтовки чуть-чуть дрожала.
– Привет, политбоец.
Полуоглохший и черный, как негр, он выкрикнул, даже не обернувшись:
– Здравия желаю, товарищ капитан-лейтенант.
– Не высовывайся так сильно.
– Ага.
Невдалеке, через несколько человек, удобно пристроился Мишка Шевченко, в надетой по случаю бескозырке. Тоже слегка почерневший, он закусил губу и нежно, как любимую девушку, сжимал свою немецкую бандуру (штатный «дегтярь» примостился у ног, дожидаясь, когда закончатся немецкие патроны). С шеи свисала запасная лента, еще две были переброшены через плечи у второго номера, недавно прибывшего мужичка, кажется, из-под Полтавы. Из хода сообщения вынырнул Зильбер, тоже в бескозырке и тоже с немецкой лентой. Козырнул мне и крикнул Мишке:
– Хватай, еще одну достали.
Кричали тут все. И рожами были вполне себе арапы. Интересно, я тоже орал? Сам себя я, понятно, не слышал, но если что – удивляться не приходилось. Лютый обстрел второй линии не прекращался, а небо чернело от самолетов.
– Привет, Санек, – сказал я, пробираясь мимо Ковзуна (еще одна бескозырка). Кивнул Молдовану, еще троим, которых не помнил по именам. Мимоходом подумал о Костике – как он там, доехал? Увидел студента, которому перепадало от Зильбера. Ничего, когда выдержит бой, старшина поумерит свой пыл. А не умерит, то студент при случае сумеет дать отпор. В рамках устава внутренней службы.
Хотя выглядел он, прямо скажем, не боевито. Я похлопал его по плечу. Заодно и другого стрелка, по фамилии Пимокаткин, со смертельно испуганными глазами. Не пугаться ему было трудно – позади стеною стояла земля, над головой висели бомбардировщики, а выстрелы в дымной мгле приближались всё ближе и ближе. И между ними находился он, и этот день, быть может, был последним его днем на земле. Тут и в штаны с непривычки наложишь.
– Слушай, парень, что такое «пимокатка»? – быстро спросил я его, кося левым глазом в пыльное облако перед фронтом.
– А? – вздрогнул он и уперся в меня побелевшими глазами.
– «Пимокатка» что такое, спрашиваю.
– А-а, – он не сразу пришел в себя, но все же пришел. – А это… баба, которая пимы катает. А если мужик… то, значит, пимокат.
Я с удовлетворением заметил – у соседа-студента по лицу промелькнуло подобие улыбки. Не так уж тут всё было безнадежно.
Над ухом проорали:
– Филологией решили заняться, товарищ капитан-лейтенант?
Старовольский все время забывал, что мы с ним на «ты». Или просто постарался, чтобы все услышали и знали – наш ротный, капитан-лейтенант Сергеев здесь. Если так, то поступил он правильно.
– А чем еще комроты заняться на досуге? – ответил я и снова повернулся к Пимокаткину, продолжая косить левым глазом туда же, куда и прежде. – А что такое «пимы», товарищ красноармеец?
Тот посмотрел на меня удивленно (но не испуганно, налицо был результат профилактической работы). Пожал плечами.
– Пимы, товарищ капитан-лейтенант, они и есть пимы.
– Пимы – это валенки, – подал вдруг голос студент. С волнением, но и с чем-то еще. Неясным, едва уловимым, но всё же… Раздражением, что ли? Как будто я своей болтовней отвлек его от очень важных мыслей. Я вспомнил фамилию – Пинский, математик, кажется. Занесло же его в пехоту. Надо порекомендовать его Бергману, артиллерии нужны такие, умеющие быстро считать.
– Понятно, – ответил я и двинулся дальше уже со Старовольским. Он тоже держался неплохо. Во всяком случае, был спокоен. Обходя вместе со мною изготовившихся бойцов, продолжал осипшим голосом отдавать распоряжения, вероятно не в первый раз.
– Без приказа огня не открывать. Бьем залпом по команде отделенного. Дальше по обстановке. Целиться не забываем.
Я мысленно усмехнулся – стратегия. Команду отделенным даст он сам, не зря поставил их неподалеку друг от друга, на правом и левом фланге первого и второго отделений. Третье, если не услышит приказа, просто выстрелит вдогонку. Но приказ среди этого грохота будет услышать непросто.
– Ты это по какому уставу действуешь? – спросил я его, остановившись у поста наблюдения.
Он пожал плечами и ответил, стараясь перекричать серию дальних разрывов сброшенных с «Хейнкелей» бомб:
– Отец рассказывал, он так командовал полуротой.
– На империалистической?
Странно, я даже не подумал о гражданской. Но в РККА полурот вроде не было. Чертовы «Хейнкели» снова бросили бомбы и, похоже, попали по Бергману.
– Угу. Говорил, что с новобранцами лучше так, да и вообще. Двойной психологический эффект – и для нас, и для неприятеля.
Вторую линию обороны потряс могучий залп из тяжелых немецких орудий. Молчать не хотелось, и я продолжил разговор.
– А на каком он был фронте?
– На Юго-Западном.
– С австрийцами?
– С германцами тоже. После Горлицы. Он под ней как раз и оказался в пятнадцатом.
Залп громыхал за залпом. Второй приходилось худо, как незадолго до этого нам. Стайка «Юнкерсов» в небе изготовилась к атаке.
– В каком чине?
– Прапорщик, как водится. Так и оставался на Юго-Западном до самого конца. В пехоте. Но по специальности инженер.
Старовольский был сегодня на удивление разговорчив. Однако я не стал расспрашивать про дальнейший путь прапорщика Старовольского. Скорее всего, он привел его в Красную Армию. Иначе бы… хотя… Короче, не стал расспрашивать, и всё.
Зато я успел подумать про Ленку и Володьку. Выходит, что в Новосибирской области, куда их эвакуировали, они зимой носили не валенки, а пимы. Или так не по всей Новосибирской области говорят, а только в отдельных местах? Область огромная, целая Франция. Господи, как они там? Ленка писала, что работает на заводе, Володька пошел в первый класс – судя по письмам, полная идиллия. У меня, судя по письмам, тоже. Про пимы надо будет спросить, когда снова удастся списаться.
– Идут, – услышал я чей-то голос и резко прильнул к стене, пялясь до рези в глазах в пыльное облако перед траншеей. Где же они, ну где? Или кому-то почудилось, или кто-то был больно зрячий. Но похоже, действительно зрячий – вот они, нарисовались. Мелькнуло что-то серое – вон там, вон там и еще там, упало, поднялось, исчезло. И в мареве замелькали вспышки.
Просвистело над головой, ударило в тыльный бруствер. Ойкнул и откинулся на заднюю стенку паренек в трех шагах от меня. Пилотка, сверкнув алой звездочкой, упала на дно окопа. Как звали его, комроты? А вот и ответ – голосом Молдована:
– Что с тобой, Воробьев? Живой?
– Ага… Только больно очень… А-а…
И стих – как затихают умершие. Первый. Даже ни разу не выстрелил. Я чертыхнулся, уложил ППШ на бруствер и тщательно прицелился в подозрительный бугорок у колышка со свисавшей оборванной проволокой. Взрывов сзади я больше не слышал, мой слух и зрение полностью были здесь.
Я угадал, а как же не угадать на знакомой до боли местности. Бугорок подскочил, подскочили другие – и понеслись на меня под прикрытием трех пулеметов. Их было больше – конечно, больше, – но я успел заметить три.
– Огонь! – свирепо рявкнул Старовольский. «Огонь!» – прозвучало следом. Десятки винтовок хлестнули воловьим бичом. Заработал «МГ» Шевченко. Мой немец поскользнулся, попытался схватиться руками за воздух и навсегда пропал из поля зрения. Я повел ствол влево и выпустил очередь по другому невнятному бугорку. Похоже, зря, не достал. Или там давно уже был труп.
Немцы швырнули дымовые шашки, и через несколько секунд мы оказались без глаз. Медлить было нельзя. «Не стрелять!» – проорал Старовольский. Бить из винтовок наугад было рискованно, фрицы того теперь только и ждали. Один Шевченко бешено водил пулеметом, клал пули как можно ниже. Второй номер схватил «дегтярева» и держал его на изготовку. Мерзкая минута, нечего сказать. Гранатами надо, гранатами, пока нас самих тут не забросали.
– Подготовить гранаты! – выкрикнул Старовольский.
– Аверин и Мухин – гранатой огонь! – скомандовал Мишка.
– Бухарцев и Езеров – гранатой огонь! – донеслось с другого фланга.
– Черных, Исмаилов…
Красноармеец Аверин (Мухин в дыму был не виден) бросил грамотно, по хорошей траектории, сноровисто укрылся. Я переждал осколки, выглянул краем глаза и поспешно присел опять – бойцы швырнули вторую партию «лимонок». Результат был вполне приемлем. Дым от шашки порвало в клочья, и наметанный глаз мог теперь угадать неясное движение перед фронтом. Что приятно – не в нашу, а в обратную сторону. Шевченко выпустил вдогонку немцам очередь и довольно ощерился.
– С почином, товарищ капитан-лейтенант.
Я не остался в долгу.
– Товарищи бойцы, благодарю за службу… Всех… Молодцы… Так держать… Чтоб ни одна немецкая…
Честно говоря, когда я ставил взвод Старовольского в свою самую первую линию, а взвод Лукьяненко оставил в резерве, у меня все ж имелись сомнения, больно много было у Старовольского молодых и толком еще не обстрелянных. Но с другой стороны, логичнее было поставить вперед именно их, чтобы опытный Лукьяненко в случае чего сумел бы прийти на помощь. Хотя черт его знает, что в подобных случаях логичнее. Главное, я не ошибся, ребята не подвели. Но день пока что только начинался.
Я обернулся на звуки грязной ругани. Ругался старшина второй статьи. Размахивая наганом, стоял у щели и кого-то беспощадно костерил. Я подобрался поближе и увидел двоих знакомцев – Пинского и Пимокаткина. Оба забились в подкоп и сидели там, как испуганные щенки. Мне сделалось неприятно. Такое случается не так уж редко, не с одним, так с другим, но всегда страшно хочется, чтоб обошлось.
Зильбер был особенно возмущен своим подопечным.
– Ты что же, Пинский, курва сраная, мине тут нацию позоришь? Кто тебе дал команду ховаться? Во, видали, товарищ капитан-лейтенант?
Я махнул рукой.
– Оставь ты их, Шевченко разберется. Продрищутся и успокоятся, самим стыдно станет.
Подбежавший Мишка показал обоим кулак.
– Быстро наружу, воины хреновы. Пинский, ты-то как там оказался?
«Непедагогично, – подумал я машинально, – Пимокаткин решит, что на него не рассчитывают».
Шевченко как-то странно на меня посмотрел.
– Вы ранены? У вас весь лоб в крови.
– У тебя тоже, – ответил я. – И у Левки.
Старшина вытер кровь со щеки, удивленно хмыкнул. Лица повернувшихся к нам Аверина и Молдована тоже краснели подтеками. Должно быть, от мелких камешков и металлических частиц, которые мы перестали замечать. А двое героев были целехоньки. «Целки», – зло сформулировал Зильбер. Правда, один, как бы сказать помягче, только что пережил острый приступ морской болезни.
Герои стояли, страшась поднять глаза. Когда «Юнкерсы», воя, стали рушиться на вторую линию, оба невольно присели. Впрочем, не только они. Я видел, как сжался Аверин, да и сам бы охотно забился в щель.
– Хоть оружия не бросили, – отыскал положительный факт Михаил. – Живо по местам!
По местам пришлось кинуться всем. Немцы полезли опять. Под плотнейшим огневым прикрытием, стремительными перебежками. Снова кто-то пронзительно вскрикнул. Я мельком успел заметить, как Пинский и Пимокаткин, сжавшись, сидели на дне. Великая сила страх. Я и сам уже почти не стрелял, то и дело пригибаясь и прячась от пуль. Лишь Шевченко бил короткими очередями, уже из «ДП» – в немецкой штуковине окончились патроны. Мишкино место оказалось вне зоны пулеметного обстрела, и он мог позволить себе не прятаться. Другим приходилось хуже, нужно было ждать, когда немцы приблизятся вплотную. Дело грозило дойти до рукопашной – и я испытал невероятное облегчение, когда среди наступающих вдруг взметнулись фонтаны земли вперемешку с огнем. Три, еще три, еще. Их оказалось достаточно. Бергман, перенеся огонь, поставил перед нами заграждение. Только почему три, не понял я. Но тут же вспомнил – разбито орудие у Априамашвили.
Выбравшийся из хода сообщения Сычев взглянул на меня с укором. Я согласно кивнул, потому что действительно засиделся во взводе, забыв о прочих своих обязанностях. По-скорому простившись со Старовольским и Зильбером, побежал на ротный КП. Немец утюжил вторую линию из тяжелых гаубиц и мортир.
* * *
День и в самом деле только начинался. И был он невыносимо длинным, быть может, самым длинным в моей жизни. Немцы упорно атаковали, и держать их на расстоянии становилось трудней и трудней. Связные от Лукьяненко спрашивали: как дела, не пора ли? Но первый и третий стояли.
На правом фланге, по удобному, сравнительно плоскому месту, пытались прорваться немецкие самоходки, отсечь нас от соседа справа, которому тоже приходилось несладко. Отделение ПТР сумело одну подбить, но две другие, отойдя на безопасное расстояние, принялись осыпать бронебойщиков снарядами. Еще одну прикончил взвод сорокапяток, но вторая самоходка, укрывшись за первой, продолжала стрелять, теперь уже во фланг Старовольскому. Третью атаку он еле отразил, фрицы падали прямо у бруствера, еще бы немного, и немцы ворвались в траншею (я вновь пожалел, что поставил вперед молодняк).
Старовольский доложил о потерях. Убито четверо, ранено семеро, трое из них тяжело. Еще хуже было у Некрасова. Прибывший от него Сычев доложил о пятерых убитых и десяти раненых.
Немцы снова пошли вперед. Перебегали по отделенно, в сопровождении пулеметов, часть которых наугад хлестала с невидимых за дымом транспортеров. Чем-то им нравился наш участок, лезли как мухи на мед. Старовольский отчаянно отстреливался. Хорошо, что у большинства бойцов имелись самозарядки, позволявшие вести непрерывный огонь. Я видел, как немцы валились на землю, скорее всего залегали, но главное – не продвигались.
* * *
Сколько же это продлится? Мы пережили новый артобстрел и новую свирепую бомбежку. После нее я на время оглох. Снова были потери, особенно у противотанкистов. Потом, под прикрытием самоходок, немцы полезли опять. Старовольский и Некрасов держались из последних сил. Я видел с КП, как в небо взлетала земля. Иногда, когда рассеивался дым, мог даже разглядеть серую массу приземистой самоходки, нахально подъехавшей чуть ли не к самым окопам. За нею перемещалась пехота. Методично, неторопливо, без утреннего задора. «Что творят, что творят», – вертел головой Сычев, следя за взлетавшими над окопами фонтанами земли. Я подсчитывал в уме, сколько, кого и чего у меня оставалось.
«Что там бронебойщики? Почему молчат?» – заорал по телефону Бергман, когда удалось восстановить перебитую в очередной раз связь. Орал, потому что боялся – подавлены. А они и были подавлены. Честно исполнив свой долг – две самоходки, я знал, дымились на правом фланге. Рядом полыхал бензиновым факелом танк, новый советский «Т-70», с намалеванными на бортах крестами, вероятно керченский трофей. Отсвет пламени пробивался даже сквозь плотный дым. Однако еще оставались сорокапятки, неужели их и подавили? Недолго же мы продержались, недолго.