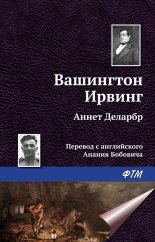Подвиг Севастополя 1942. Готенланд Костевич Виктор

– Ладно, дуйте. А Зойке сейчас не до нас. Ей теперь ни до кого.
Обежав горящую полуторку, мы выскочили на улицу. По ней катились пылевые вихри. Пространство вокруг казалось вымершим, лишь дымился у обочины свежий, сильно обгорелый труп. Как минимум с двух сторон доносился слабый перестук ружейно-автоматной перестрелки, еще более зловещий, чем привычный орудийный гул. Наши и немцы сошлись вплотную, быть может, дрались в рукопашной.
А потом… Я не понял, что произошло потом. Раздался чудовищный, невероятный, небывалый, немыслимый грохот. Земля, качнувшись, поехала из-под ног. Еще, еще, еще… Безумный гром не утихал. Повалившись, мы ощущали всем телом серию жутких толчков. В помутившемся сознании пульсировала мысль: «Землетрясение». Это бы выглядело логическим завершением всего, что с нами было. Земля разверзнется, на берег хлынут волны, и мир исчезнет навсегда. Со мною, Старовольским, Шевченко, Молдованом, Меликяном, Мухиным. С мертвой Маринкой, с поджатыми в истоптанных сапожках ногами, в той яме, где я ее бросил.
Поднявшись с гудевшей земли, мы увидели, что небо сделалось еще темнее. С северо-востока наплывала жуткая черная туча. Неведомый грохот, слегка ослабев, не прекращался, заглушая собой орудийный гул, не говоря о ружейной стрельбе.
– Шампанстрой рванули, видно, – выкрикнул Шевченко, кашляя. – Штольни с боеприпасами.
– Где это? – сипло спросил Старовольский.
– В Инкермане. Ч-черт, там же…
Шевченко осекся. Я вспомнил о Косте Костаки, которого после ранения отвезли в инкерманский госпиталь. Эвакуировали их, нет? Конечно, эвакуировали, как же иначе. Мы смолкли, в глазах появилась тоска. «Тримайтесь, хлопцы», – сказал он тогда на прощанье.
– Быстро на хату, – распорядился младший лейтенант. – Снимаем Молдована и куда-нибудь вливаемся.
* * *
Мы добежали до дома вовремя. Возле калитки бесновался какой-то майор, орал на Молдована, тряс пистолетом. Увидев нас, принялся орать на Старовольского. Полдня сплошного ора.
– Я вас спрашиваю, это ваш подчиненный? Чего уставился, товарищ младший лейтенант? Ваш, твою мать, или чей? Чем вы тут занимаетесь? Кто такие? Почему здесь? Почему этот…
Все это он выпаливал единым духом, тыча в нас поочередно дулом и бешено брызжа слюной. Смелости ему было не занимать – на пустой-то улице, против пятерых вооруженных до зубов людей. А может, то просто была привычка к собственной наглости и чужой безответности, свойственная многим армейским – и не только армейским – начальникам.
Воздух продолжал дрожать от гула самолетов, канонады и перестрелки, пыль и дым превратили в сумерки вполне себе солнечный день. В районе вокзала грохотали разрывы тяжелых снарядов. Старовольский пытался вставить хоть слово, но майор по-прежнему не унимался.
– Ваши товарищи там умирают, – продолжал он махать «ТТ», не уточняя, где именно умирают товарищи, – а вы тут как последние трусы прохлаждаетесь, мать, расстреляю…
Старовольский напрасно разевал рот в намерении донести до майора правду о нашем стремлении отдать свои бесполезные жизни за невыносимо любимую родину. Мухин теребил затвор висевшей на плече трехлинейки, Меликян возмущенно моргал, а на лице Шевченко читалось осознанное желание залепить командиру прикладом «дегтяря» аккуратненько между глаз.
– Товарищ майор! – сумел наконец прорваться в короткую паузу Старовольский. – Мы ожидаем ваших приказаний! С нетерпением! Мы готовы! Как же вы все нас сегодня зае…
Он проорал это еще громче, чем только что орал майор. В глазах последнего зародилось недоумение. Не испросив на то разрешения у старшего по званию, Старовольский быстро сказал Молдовану:
– Что тут случилось, Федор?
Молдован невежливо ткнул в большого начальника пальцем.
– Я на улицу вышел посмотреть, не идете ли… А товарищ майор пробегал… куда-то… Увидел. И потребовал идти. Я ему объясняю, что на посту, жду командира, а он…
От слова «пробегал» майора передернуло, однако он промолчал и даже сунул свой «ТТ» обратно в кобуру. Что-то мне подсказало, что пробегал он в другую сторону, чем та, куда хотел направить Молдована. Бежал за подмогой, как мы говаривали в детстве. Старовольский обернулся к майору и повторил, теперь куда спокойнее и, можно сказать, учтиво:
– Ожидаю ваших распоряжений, товарищ майор.
– Да пошли вы все, знаете куда… – пробормотал тот с обидой в голосе и заковылял вверх по шоссе, в направлении ж/д вокзала. Надо признать, что старался он идти как можно медленней, но удавалось ему с трудом. Это напомнило мне… Ну да… Есть такой дурацкий спорт, спортивная ходьба, в котором главное – не перейти на бег, хотя чертовски хочется. Примерно так и уходил от нас майор. Только что бедрами не вилял, как уличная девка. (Впрочем, я уличных девок ни разу не видел. Откуда им взяться в бесклассовом обществе, где нет эксплуатации человека человеком?) На наши лица вылезли глумливые улыбки. Хотя, если судить по грохоту, на вокзале, то есть в том месте, куда направлялся майор, было совсем не сладко.
– Хватит пялиться, стройся, – распорядился Старовольский.
* * *
Похватав свои манатки, мы быстро двинулись по Лабораторному на юг и довольно скоро – при том, что много времени ушло на пережидание в канавах внезапно появлявшихся немецких самолетов, – присоединились к гаубичной батарее из Чапаевской дивизии. Командовавший ею капитан, увидев нас, обрадовался.
– Стрелковое подразделение? Отлично. Прикрывайте правый фланг. Шепитько, покажи им позиции. Скоро пойдут, а у меня по десять снарядов на орудие. Бетонобойные, фугасных нет, так что пехота полностью на вас. Ясно? Тогда вперед.
Тут было много таких, как мы, красноармейцев и краснофлотцев. Многие только что вышли из боя. Рассыпавшись среди помятых кустов, мы окапывались – старательно, но безуспешно. Каменистая почва.
Лабораторная балка, по дну которой проходило одноименное шоссе, начиналась как раз в этом месте. Дальше лежала равнина и таинственная Максимова дача, откуда писал нам недавно Сергеев. Левее дымились захваченные немцами Сапунские высоты. Захваченные немцами – не верилось, но так оно и было. С первого захода, за пару часов. «Такая вот херня», – ворчал Шевченко, устанавливая пулемет на краю неглубокой выемки, которую мы кое-как, царапая лопатками камни, сумели с ним вырыть на пару. «Как-то уж слишком всё быстро пошло, не то что было раньше». Но удивляться не приходилось. Наверняка на Сапуне тоже не было снарядов. «Я же говорю, – бормотал, долбя лопатой камень, Мухин, – к эвакуации дело идет». Ему не возражали, просто не обращали внимания.
– А бетонобойный будет танк пробивать? – задумчиво спросил Меликян.
– Еще как, – успокоил его лейтенант. – Это вроде как паровым молотом гвозди заколачивать. Из гаубиц-то. Сто пятьдесят миллиметров.
– Зато надежно, – удовлетворенно заметил Мухин, смахивая со дна своей выемки камни, чтобы удобней лежалось. – Я, товарищ лейтенант, всяким там сорокапяткам не очень-то доверяю.
Молдована интересовало другое.
– Хотел бы я знать, кто на нас тут полезет. Фрицы или румыны?
– Какая те на хер разница? – фыркнул Мухин, выкладывая на жалкий бруствер винтовочные обоймы.
– Занятно. Может, из старых знакомых кто-нибудь на мушку попадется.
– Чё? – не понял Мухин. – Каких там те еще знакомых захотелось?
Молдован неторопливо объяснил:
– Командира моей роты. Или командира взвода. Лучше второго. Во, видишь, зуба нет? Его работа. Педреску фамилия была. А у ротного – Болован.
Мухин недоуменно поглядел на меня и Шевченко.
– Ребята, чё это с ним? Ночные кошмары о старом режиме? И при чем тут румынский Педреску?
Молдован не ответил. Шевченко, отбросив с лопаты камешки, спросил:
– Довелось у бояр послужить?
– Еще бы. Полтора года. Покуда наши в Бессарабию обратно не пришли. А через год уже в Красную Армию, по мобилизации.
– Везет как утопленнику, – хихикнул Мухин. – И где же лучше?
Молдован не ответил. Ударил пару раз лопатой в землю и что-то пробормотал по-молдавски. Или по-румынски – не знаю, насколько сильно они различаются.
– Ну и как оно с боярами? – спросил Старовольский, достав из кармана кисетик с махоркой. – Правда, что там каждый по-французски чешет?
Прежде чем ответить, Молдован сплюнул в немецкую сторону. Снова что-то буркнул по-молдавски. Потом перешел на русский.
– Надо мной они не очень сильно измывались. А вот парень у нас был из русского села, Санька Дидко, тому доставалось. «Отвечай, ты кто?» – «Русский». А они: «Нет, ты румын, на румынской земле живешь, румынский хлеб жрешь, вонючая сволочь». – «Нет, я русский». – «Нет, ты румын». Сержанты избивали, на солнце в полной выкладке ставили. Педреску выбил половину зубов, не то что мне.
– А он?
– Держался. Как раз был на губе, когда наши пришли. Мы с ним хотели Педреску найти, поквитаться, да эти курвы сразу деру дали.
– А потом? – поинтересовался Шевченко.
– А потом, – задумчиво ответил Молдован, – потом было по-всякому. Обо всем не рассказать.
– И не стоит, – сказал Старовольский.
– Точно, – согласился Федор. – Мне бы с боярами сейчас побалакать. Других я попозже достану.
Старовольский кивнул. Мне подумалось, что ему бы тоже хотелось кое с кем поговорить. Один разговор уже состоялся, со старшим политруком нашим Земскисом, но кандидатов на беседу оставалось, похоже, немало.
– Слушай, Федор, – сказал вдруг Шевченко, – так ведь если румыны полезут, там и твои земляки могут быть, которых они мобилизовали. Сам понимаешь.
– Знаю, – спокойно ответил Молдован, – но я ведь в бога верю.
– И чё? – удивленно посмотрел на нас Мухин.
– Так ведь бог не позволит, чтоб моя пуля в доброго человека попала. В Педреску запросто, в Болована тоже, а в своих нет. У меня на такой случай молитва особая есть.
Старовольский усмехнулся и присел, подуставши лежать. Противника пока что видно не было, что и позволило нам всем собраться вместе, а не валяться в своих недорытых ячейках, изнемогая то от усиливавшегося, то от слабевшего грохота рвущихся в отдалении снарядов и бомб.
– Ты бы ее переписал и личному составу раздал, – посоветовал младший лейтенант, – чтобы все разучили. Представь, какая польза будет: артиллерия перестанет по своим молотить, летчики при штурмовках ошибаться не будут, а шальные пули и осколки будут отлетать строго в нужном направлении. Политотдел специальные курсы организует. Представляешь, выстроит Земскис бойцов и хором…
– Молитва молдавская, – серьезно объяснил Молдован, – и в бога верить нужно. А кто теперь верит? Вот вы верите, товарищ младший лейтенант?
– Не знаю, – смущенно сказал Старовольский. – Видимо, нет.
Меня удивило это «видимо». Словно бы лейтенант чего-то стеснялся. И Молдован в который раз поразил своей темнотой и непрогрессивностью. Даром что замечательный человек и надежный товарищ. Собственно, потому и поразил, что был замечательным и надежным. Мухин, правда, нисколько не удивился. Он имел на этот счет свои соображения.
– Всё это, Федя, – сказал он рассудительно, – херня, что непременно верить надо. У нас был уважаемый человек на лагпункте, ни в бога ни в черта не верил, но молитвы имел на все разнообразные случаи, помогали. Я тогда наколку хотел завести художественную. С голой бабой, чтоб на мою Марфутку была похожая, а он сказал, что приличным людям такого не нужно, и посоветовал чё-нибудь с Иисусом там или с какой-нибудь богоматерью. Очень полезно, говорил, от несчастья оберегает. Но это, – заботливо разъяснил нам Мухин, – не всякому сделают, а только порядочным людям. Ну, тем, которые…
– Заткнись, пожалуйста, – не выдержал Старовольский.
– Далеки вы от народа, товарищ младший лейтенант, – надулся Мухин.
– А ты, Вардан, веришь? – спросил Молдован Меликяна. Я спрятал глаза. Бессарабца потянуло на религиозную пропаганду. Впрочем, меня с Шевченко он бы спрашивать не стал, видно ведь было, что мы люди не деревенские.
Меликян поглядел на Старовольского и ответил несколько не в тему:
– Армяне самые старые христиане на земле.
Старовольский хихикнул, словно бы услышал что-то знакомое, а Мухин неожиданно возмутился. Фыркнув, произнес:
– Чё-ё? Хва заливать-то. Правильно, товарищ младший лейтенант? Тоже мне нашлись христиане…
– Никто не заливает, – сказал, отулыбавшись, Старовольский, – просто Вардану сформулировать надо было лучше. Вот так, например: Армения – первая страна, где христианство стало государственной религией. Ты ведь это хотел сказать, Вардан?
Меликян, очень собою довольный, кивнул. Мимо пробежало человек пять красноармейцев. Заняв места чуть левее нас, они развернули на юг станкач и стали проворно долбить лопатами грунт.
– Раньше Рима, что ли? – усомнился Шевченко, одобрительно глядя на действия пулеметчиков. Щиток «максима» посверкивал на солнце, даря нам ощущение надежности и военно-полевого комфорта.
– Раньше, – ответил Старовольский. – В самом начале четвертого века.
– А Грузия, – не утерпел Меликян, – позже Армении.
– Да, позже, – согласился Старовольский. – На сколько-то лет… Или десятилетий, не помню точно.
– Позже! – довольно повторил Меликян, поднявши к небу указательный палец.
Вопрос о распространении христианской религии не на шутку озаботил бытовика. Немцы пока на нас не наступали – и даже не бомбили, сосредоточив все усилия в районе Малахова кургана и Суздальской, где бурой шапкой нависло огромное дымное облако.
– А мы, товарищ младший лейтенант, когда приняли? Еще в первом веке небось?
– Гораздо позже. В конце десятого. Слышал про князя Владимира?
Шевченко ухмыльнулся. Мухин повел плечом.
– Я в царских гимназиях не обучался.
Я тоже улыбнулся, вспомнив, что подобное слыхивал от Мухина и прежде. При том что Старовольский тоже не обучался в царских гимназиях, поскольку не вышел годами.
На севере прогремели разрывы. Сильные – но после недавних шампанстроевских они не впечатляли. В районе Инкермана тоже продолжало грохотать, не так сильно как вначале, но весьма и весьма ощутимо. Были там все же боеприпасы, были.
– Так вот, красноармеец Мухин, – продолжил младший лейтенант, – если бы ты слышал про князя Владимира, святого нашего и равноапостольного, то сейчас бы тебя весьма утешало, что лежишь ты на той земле, где после осады греческой крепости Херсонес крестился он и его дружина. И защищаешь колыбель русского христианства от…
Старовольский призадумался, и Мухин подсказал:
– Двуногих зверей.
– Пусть так. Осознал?
– Осознал, – не стал с ним спорить Мухин. – А фрицев когда покрестили?
– Это что-то изменит в твоем отношении к коварному и подлому врагу?
– Нет, но все-таки… Вот выходит, что от черножо… от этих вот, – он кивнул на Меликяна, – мы отстали, а от немцев?
– Прогрессивность, красноармеец Мухин, измеряется не временем приобщения к той или иной религии. Верно, Вардан?
– М-м, – неотчетливо ответил армянин.
– А по нашим временам, так скорее наоборот, – усмехнулся Старовольский, – прогрессивнее тот, кто скорее от религии отказался. Правда ведь, Алексей? Вот мы, первая в мире атеистическая нация. И самая при этом прогрессивная. Точно?
Я не мог не понять, что младший лейтенант издевается. Устал до невероятия и злится теперь на всё. Вплоть до того, что ставит под сомнение бесспорные достижения социалистического строительства. Мне, прямо скажем, последнее время тоже хотелось поставить кое-что под сомнение, но я себе подобного не позволял.
Гром на севере заметно ослаб. Подувший в нашу сторону ветер погнал по полю мохнатые и серые шары перекати-поля. Сквозь трескотню выстрелов стало пробиваться невнятное урчание, откуда-то спереди, оттуда, куда были направлены стволы наших винтовок.
– По местам, – негромко велел Старовольский.
* * *
Они показались минут через десять. Вынырнули из-за гребня и неторопливо поползли на нас, черные, постепенно увеличиваясь в размерах. Правый глаз заслезился от бившего с юга-запада солнца.
– Три, – сказал Шевченко.
– Еще два, – уточнил Меликян.
– Восемь, – подвел итог Мишка некоторое время спустя.
Между движущимися на нас коробками замелькали фигурки солдат. Пока они шли во весь рост, полагая, что перед ними пустота, что русские разбежались и что путь на Севастополь отсюда свободен. Я провел пальцем по спусковому крючку и поглядел на Шевченко. Он подмигнул и недобро ощерился.
Расстояние между нами и танками – или самоходками? – стремительно сокращалось. Глаз различал уже, даром что против солнца, смотревшие на нас короткие стволы, опускавшиеся и поднимавшиеся вместе с переваливавшимися на неровностях почвы приземистыми махинами. Следовавшая за ними пехота временами переходила на бег, стараясь не отставать. Некоторые постреливали из автоматов – то ли чтобы очистить пространство от возможных истребителей танков, то ли просто прощупывая местность. Наши гаубицы молчали. Молчали и мы. Слышанные прежде рассказы о том, как танки утюжат пехоту, мешались в голове со строчками наставлений по уничтожению германской бронетехники гранатами и бутылками с зажигательной смесью. Ни того ни другого у меня не имелось. И задача была иная – отсекать пехоту.
Автоматная очередь пылью взвилась метрах в пяти перед нами. Захотелось отползти назад. Шевченко прилип щекой к прикладу «дегтярева». Меликян резко выдохнул воздух и тщательно прицелился. Я стал искать глазами подходящую мишень.
Первый гаубичный выстрел прозвучал для меня неожиданно. Почти сразу же громыхнули второй и третий. Один из танков брызнул искрами, окутался дымом и замер на месте. «Огонь!» – прозвучало неподалеку. Боковым зрением я заметил, как вырвалось пламя из «дегтярева», и плавно нажал на спуск.
Выстрелы загремели отовсюду. Несколько пулеметов моментально привели фашистов в чувство. Недавно шедшие во весь арийский рост, они валились теперь на землю, метались в панике или пытались удрать. Я передернул затвор и выпалил в спину бегущей фигуре. Она упала, характерно дернувшись, как бывает при попадании. Мишка вопил, выпуская короткие очереди в обнаруженные цели.
Опустошив магазин и потянувшись за новой обоймой, я успел окинуть взглядом пространство перед собой. Стало заметно свободнее. Дымились три машины. Пехота исчезла, должно быть убиралась назад по-пластунски. Прочая техника, наугад огрызаясь из пушек, медленно отползала к гребню, из-за которого недавно появилась. Гаубицы молчали, сберегая снаряды для отражения новой атаки.
58-10
Красноармеец Аверин
29 июня – 2 июля 1942 года, двести сорок второй – двести сорок пятый день обороны Севастополя
Более нас танками утюжить не пытались. Уничтожали с воздуха, разнося позицию, выбивая людей, не жалея бомб и поливая каждый миллиметр из пулеметов. Нам повзло, мы выжили. Ребята с «максимом» исчезли без следа, осталась одна воронка.
На следующий день, тридцатого, немцы поперли опять. Наш сборный отряд, расстреляв все снаряды и уничтожив бесполезные теперь орудия, отходил по направлению к вокзалу. Немцы неторопливо продвигались по пятам. Стараясь понапрасну не рисковать, они методично обстреливали из минометов шоссе и раз за разом вызывали артиллерию. Мы же не столько уходили, сколько уползали, выискивая укрытия и пытаясь в них перележать очередной налет. Свистевшие над головой осколки отзывались в моем сознании малопонятным словом «мириады». Раз я прополз мимо срезанной, будто ножом, головы, белой-белой, лежавшей в темно-красной, почти что черной луже. Меликяна ранило в руку. Он стеснялся кричать от боли и лишь беззвучно разевал свой рот. Когда замолкали пушки, выползали бронетранспортеры, тщательно обрабатывавшие дорогу перед собой пулеметными очередями. Немецкой пехоты мы больше не видели, дожидаться ее, не имея патронов, смысла не было никакого.
Нас оставалось всё меньше и меньше. Среди оставшихся преобладали раненые. Задело Молдована и Шевченко. Не сильно, но без перевязки обойтись не удалось. Мне, лейтенанту и Мухину пока что везло. Лучи солнца, прорывавшиеся сквозь низко нависшие дымные тучи, лишь добавляли тепла, от которого раздувались и лопались лежавшие среди воронок трупы людей и коней. Нестерпимо хотелось пить, волнами накатывал голод.
Бой на Малаховом продолжался и, судя по звукам, был ожесточенным. Нашей артиллерии слышно, однако, не было. Командир батареи гаубиц, отходивший теперь вместе с нами, бессильно тряс огромными кулаками. Мы тоже ничего не понимали. Всего один день, и всё рассыпается в прах. Всего один день, и оборона, которую готовили месяцами, перестает существовать. Всего один день, и все летит к чертям собачьим, словно бы не было перед этим трех недель боев, когда немцы выдавливали нас метр за метром и обходилось им это не так уж, прямо скажем, дешево. Но по десять снарядов на орудие на батарее, последние патроны в моем подсумке и небо, забитое чужими самолетами, не худшим образом объясняли происходящее. Хотя особенно мы не задумывались, потому что надо было хоть как-нибудь выползти из устроенного нам пекла. Ведь люди сделаны не из железа. К вечеру немцы, наступавшие с востока и севера, захватили Малахов. Другие, те, что двигались за нами по Лабораторной балке с юга, вышли на железнодорожную станцию.
Утром первого числа мы оборонялись среди руин центральной части города. Вернее отступали, изредка отстреливаясь и прикрывая друг друга во время перебежек. Порой между разрушенных домов синевою поблескивала Южная бухта, отделявшая нас от занятой немцами Корабельной. Взрывы гремели и там, кто-то еще не ушел – не смог, не захотел? Нам встречались группы красноармейцев и краснофлотцев; если с ними были командиры, то почему-то не старше капитана. Общего командования не наблюдалось, никто не знал, что делать, рубежи занимались по собственному почину, вернее по необходимости огрызаться от наседавшего противника или уберечься от обнаглевшей вконец авиации. Говорили о диверсантах, которые, переодетые в красноармейскую форму, мотались у нас в тылах и внезапно открывали огонь прямо в спину. Я вспомнил о тех – обезвреженных и убитых в лесу националистах. Видимо, они были одной из таких диверсионных групп.
Случайно нам стало известно, будто получен приказ: всему личному составу оборонительного района отходить на аэродром Херсонесский маяк – и уже там что-то будет. То ли оборона, то ли эвакуация. «Что за бред?» – не понимал Шевченко. Еще он бешено ругался, узнавая вдруг ту или иную разрушенную улицу. С тоской произносил их названия. Я ничего не запомнил. Покореженные трамвайные пути, опрокинутый синий вагон, изуродованные деревья, пустые окна, пляшущий среди развалин огонь, пылающий храм на горе – таким был увиденный мною центр великого города. Привычная вонь от горящего бензина и масла, визг металла над головой, ползущие, бегущие и умирающие люди. Немцы выныривали и там и тут, по-прежнему следуя за нами под прикрытием бронемашин.
Слухи о приказе отходить на Херсонес повторялись при каждой встрече с другими бойцами. Понемногу мы стали верить, что так оно и есть. А если так, то следовало выполнять. Дело было за малым – выбраться из уничтоженного города и по простреливаемой дороге средь голой степи добраться до этого мыса, западной оконечности полуострова Крым. Около полудня, проплутав в лабиринте руин, мы оказались где-то на окраине. И никак не могли оторваться от немцев. Сначала прятались от их огня за баррикадой, где, кроме нас, не нашлось никого, только тело изуродованной осколками женщины. Потом же, когда окончательно поняли, что, оставаясь здесь, мы имеем один лишь шанс – разделить судьбу убитой (лицо ее было продавлено, а серые носки залиты черной кровью), попытались уйти через двор полуразрушенной двухэтажки. Едва мы успели пробежать под стеной – у меня как раз появилась мысль, что лучше бы нам заскочить вовнутрь и там пересидеть, – как здание тяжко осело. К небу взметнулось огромное облако пыли.
– Бегом! – проорал лейтенант, и мы, петляя зайцами среди куч разбитого кирпича, щебенки и всякого хлама, побежали к другому дому, на противоположной стороне улицы, вернее того, что недавно той улицей было. На углу, у поваленного дерева, догорал грузовик «ЗИС-5».
Нам удалось пробраться еще через пару кварталов. Однажды на нас спикировал «Юнкерс». Воя сиреной, обрушился с высоты, выбросил бомбы – но упали они в стороне. Мы только ощутили взрывную волну и заметили, как покачнулся невысокий дом метрах в двадцати от нас – с разгону упавших наземь под нелепо торчавшей одинокой стеной разнесенного вдребезги кирпичного здания.
– А это видел, курва? – прокричал вдогонку уходящему бомбардировщику Мухин, вскакивая на ноги и обеими руками делая общепонятный непристойный жест. И тут же над бытовиком прошла тугая очередь крупнокалиберного пулемета, и мы опять повалились на изувеченную снарядами мостовую.
– Откуда? – крикнул Мишке лейтенант.
– Кажись, вон там засели, суки.
Он оказался прав. Били из развалин, громоздившихся неподалеку от постройки, в которую попали бомбы с пикировщика. Немецкий летчик мог запросто накрыть своих, но, к сожалению для нас, послал свой груз слегка левее. И теперь гансы, вместо того чтобы дуться на земляка, вымещали злобу на нашей группе.
– Козлы, – прошипел Молдован, утыкаясь лицом в песок.
Теперь мы застряли надолго. По нам тупо работали два немецких пулемета. Тупо в том смысле, что просто мели по пространству над нами, выколачивая пыль и круша остатки штукатурки. Но головы поднять было нельзя.
И все же надо было уходить. Пересчитав оставшиеся патроны, Старовольский приказал мне и Шевченко редкими выстрелами постараться отвлечь внимание немцев, а остальным в эти моменты быстро перемещаться в сторону полуразрушенного здания, стоявшего метрах в сорока от стены, под которой мы все лежали. Потом, рассредоточившись, стрелять должны были они, чтобы прикрыть мой и Мишкин отход по направлению к тому же дому.
– Кто первый? – поинтересовался Шевченко, поглядывая вправо – страхуя нас со своей стороны.
– Давай я пальну, – ответил я, кося глазами влево. Эта сторона казалась более надежной, но все-таки мало ли что.
– Валяй, только смотри не высовывайся. А я потом из автомата жахну по-легкому.
После наших выстрелов немцы яростно поливали несчастную стену над нами не менее полуминуты. Все наши вроде бы успели переползти. Я оглянулся, чтобы проверить. В отдалении на секунду мелькнул лейтенант или кто-то другой. Подал руками знак. Едва он исчез, в этом месте выбила пыль пулеметная очередь.
– Жопа с ручкой, – проворчал Шевченко, бережно потрогав магазин. – Я почти пустой. А ты?
– Два патрона.
– Застрелиться и не встать. Будешь теперь снайпером.
– Ага. Мечта Мухина, помнишь? Слушай, а почему «жопа с ручкой»? Я вот раньше не задумывался.
– Интересные мысли тебя посещают. Свидетельство высочайшего боевого духа. Короче, отчаливать пора отсюда, как-то уж совсем тут грустно сделалось.
Я кивнул. Нас вновь обдало штукатуркой. Одинокая наша стена выглядела всё более угрожающе. Где-то в отдалении, не видимая нам, заурчала мотором немецкая бронетехника. Появление ее в этом месте ни меня, ни Шевченко обрадовать не могло.
– Ты первый, – продолжил Мишка, – я за тобой. Пристроишься вон за тою кучкой и прикроешь. Уяснил?
– Ага, – ответил я, вдруг ощутив какую-то тоску, малопонятную и совершенно неуместную.
– Чего уставился? – заволновался Шевченко, беспокойно кося воспаленными глазами направо. – Обычное дело. Давай шустрее. А то до свадьбы под этой стенкой мы точно не доживем. Хернут по ней из самоходки – и всё, прощай, немытая Россия.
Он вышептывал слова возбужденно, почти выкрикивал, а у меня на душе вдруг сделалось препогано. Верно, это и было предчувствием. Очередь взрезала воздух над головами, заставив вжаться в кирпичное крошево.
– Давай, веселей, – заторопил Шевченко, машинально поправляя порозовевшую повязку на голове. – Хлопцы небось заждались, совсем там без нас заскучали.
– Ты только это, – попросил я неуверенно, – поскорей.
– Дело пяти минут, – сверкнул он зубами на черном со вчерашнего дня лице. – Устройся там поудобнее и держи что надо под прицелом. А я к вам, сударь, немедленно переберусь. Но сначала дам немецким ребятам возможность поближе с собой спознаться. Всё, дуй, – закончил он. – Держи хвост пистолетом. Познакомятся твари облезлые с русским матросом Шевченко.
Резко выдохнув, я медленно пополз, стараясь быть насколько можно незаметным. Прошла пулеметная строчка, посыпалась сверху пыль. Я съежился, пошарил глазами и снова пополз вперед, локтями ударяясь об обломки кирпича. Потом раздался непонятный шум, а затем негромкий, похожий на гранатный, разрыв. Побуждаемый каким-то инстинктом, я вскочил, перелетел через открытую площадку и плюхнулся за той самой кучей, на которую мне только что указывал Мишка. Собрался посмотреть, как там поживают фашистские пулеметчики, но едва пошевелился, как оттуда, откуда я только что уполз, в мою сторону ударили сразу из двух автоматов. Немецких, «МП-40».
– Видел? – глухо спросил меня Старовольский, когда я, очень нескоро, добрался до нашего нового убежища в подвале очередного полуразрушенного дома.
– Слышал, – ответил я. – Только не сразу понял. А когда понял…
Лейтенант ничего не ответил.
О старшем краснофлотце Шевченко
– Познакомятся твари облезлые с русским матросом Шевченко, – пробормотал Михаил и, уже не глядя на удалявшегося Аверина, прикинул, насколько удастся задержать только что замеченных им немцев, осторожно, короткими перебежками и ползком подбиравшихся справа. Аверину он ничего не сказал. Подумал только, что, может быть, все же удастся уйти. Хотя вряд ли уже удастся. Шесть патронов в магазине, ни одной гранаты. А у немцев гранаты есть, и чтобы покончить тут с ним, им больше ничего и не требуется.
Голова разваливалась от боли. Вроде бы задело легко, но боль была невыносимой. И глаза – что-то стало с глазами, радужные круги, непонятные блики. И пот, хотя откуда взяться поту, если так хочется пить, если не помнится, когда ты последний раз пил. А вот надо же, пот.
Когда-то в декабре, тоже раненый, правда не в голову, лежал он в кустарнике и, прислушиваясь к чужим голосам, тоже мечтал о гранате. Но тогда на помощь прибежали Костаки и Зильбер. А теперь ни Костика нет, ни Левки, пусть точно и неизвестно, но скорее всего в самом деле нет. И Маринки Волошиной нет, хотя салага Аверин молчит, хранит свою горькую тайну, но он-то, Шевченко, видел, как Алексей, укрывшись однажды в домике на Лабораторном, смотрел, чуть не плача, на побуревшую красноармейскую книжку. И Саньки Ковзуна нет, и Сычева, и братьев-акробатов Пинского с Пимокаткиным, всего почти взвода их нет, и деда Ляшенко, и лейтенанта Данилко, и лейтенанта Априамашвили. И неизвестно еще, что с Сергеевым, Некрасовым, Бергманом. И университета у него не будет, и Севастополя. Останется труп под палящим солнцем, матроса Шевченко труп, один из великого множества трупов, гниющих на крымской земле.
Первая граната лопнула прямо над ним. Даже не упала на землю. Бросивший ее немец обладал очень крепкими нервами и выдержал счет до конца. Отброшенный назад Шевченко видел теперь только небо. Как князь Андрей из давней школьной книжки. Последнее, увиденное им, было расплывшейся в багровом мареве фигурой чужого солдата, медленно, очень медленно поднимавшего винтовку с искрившимся на солнце ножевидным штыком.
* * *
Уже второй день мы – Старовольский, Меликян, Мухин, я – отсиживаемся в подвале наполовину разрушенного фугасной бомбой дома. Все вокруг кишит румынами и немцами. Они ходят почти не таясь, мы слышим их наглые крики, урчание грузовиков на улице, расчищаемой рабочими от завалов. Нашими рабочими, возможно – нашими пленными, ведь до нас доносится не только немецкая или румынская, но и наша, русская речь. Бои на этом участке закончились, и, так сказать, налаживается жизнь. Стыдно признаться, но от этого нам спокойнее. Значит, не будут швырять в темноту гранаты и не запустят ради верности в подвал струю из огнемета. Впрочем, мы нередко слышим переливистый собачий лай. Быть может, немцы прочесывают район за районом с овчарками. И если те чего-нибудь учуют, не миновать гранаты или огнемета. Или плена. Обороняться бесполезно. С нашими возможностями у нас не выйдет даже героически погибнуть. Разве что удавиться – если, конечно, заранее подготовиться.
Но Мишке Шевченко плен уже не грозит. И Феде Молдовану не грозит он тоже. Еще вчера, когда мы покидали предпоследнее наше убежище и осторожно пробирались через двор, надеясь смыться в подворотню, Федор заслышал негромкую румынскую речь. Кто-то был рядом, за сплошным деревянным забором. И кажется, успел нас заметить. Мы быстро шмыгнули в тень. Федор шепнул лейтенанту:
– Моя очередь, пойду поговорю с земляками по-свойски. Три патрона еще найдется.
– Не стоит, – не согласился Старовольский.
– Стоит, – отрезал Федор. – Да я быстренько, шугану их и всё. Наши ребята по доброй воле за смертью гоняться не станут. Я только скажу пару ласковых, да стрельну там разочек. Чтоб понятнее хлопцам было, куда им соваться не стоит.
– Хорошо, – рассудил Старовольский. Понял, иначе нам крышка. – Мы будем ждать. Здесь.
– Да я туда и обратно, зараз буду туточки.
Не знаю, долго ли проживу я на свете, но до конца буду жалеть, что не знаю румынского языка. Или молдавского? Безразлично. Что им сказал Молдован, что они ему ответили… Был выстрел из «ППШ», потом из винтовок, еще из чего-то автоматического, незнакомого мне по звуку, снова из «ППШ», где-то совсем в стороне. И еще один, последний, после которого долго гремели очереди. Старовольский с пустым пистолетом рванулся было из подворотни, но Меликян и Мухин, не сговариваясь, немедленно его перехватили.
– Не дури, лейтенант, – прошипел бытовик.
Выстрелы смолкли. Довольно далеко от подозрительного забора, за которым недавно скрывались румыны. Молдован увел «земляков» за собой. Старовольский сказал:
– Уходим.
Когда же на улицу, через которую мы перебегали, выкатился задом бронетранспортер, мы и нырнули в тот самый полуподвал, откуда до сих пор не можем выбраться. С бронетранспортера нас не заметили, там были заняты пулеметной стрельбой по неизвестной нам цели. Однако несколько минут спустя по улице засновали немецкие пехотинцы, запыленные вроде нас, с такими же черными мордами, ободранными локтями и коленями – но обвешанные боеприпасами. Все пути оказались отрезанными.
* * *
Шел второй день – без сна, воды и пищи. Рокот машин на улице, грохотание сапог, изредка крики и лай овчарок. В отдалении рокотали пушки, где-то еще продолжался бой. Иной раз выстрелы звучали поблизости. Непривычно резкие, неожиданные, от каких мы успели отвыкнуть, словно бы разрывавшие тишину – весьма относительную, но для нас, недавно вышедших из боя, тишину.
Нам ничего не оставалось, кроме как разговаривать. Больше о прошлом. Мухин рассказывал о Марьиной Роще и немного о лагерях (младший лейтенант не перебивал), Меликян – если не мучила рана – об армянском своем городишке, больше похожем на село, о горах и о том, как в пятнадцатом его родители бежали от турок из Турции, и снова бежали от них, уже в восемнадцатом, когда не стало царской армии и перестал существовать Кавказский фронт. Могло сложиться впечатление, что Николай Кровавый был чуть ли не спасителем армян, тогда как Брестский мир и стихийная демобилизация прогнившей царской армии едва ли их не погубили. Диву порой даешься, какая бывает каша в голове у недостаточно начитанных людей.
В эти дни я многое узнал о лейтенанте. Например, что Старовольский когда-то хотел изучать филологию, но отец настоял на политехническом институте. Когда я спросил почему, он только грустно улыбнулся. Мухин потом объяснил: «Инженером – это правильно. В лагере самое верное дело: будешь в придурках ходить – не пропадешь». Про придурков я тоже не очень понял, однако Мухин объяснил мне и это. Поразило же меня совсем другое. Мой личный разговор со Старовольским отвратительным душным вечером, когда Меликян и Мухин забылись тяжким сном, а мы вдвоем сидели на часах.
Я сам тогда начал беседу и не сразу заметил, как она стала приобретать весьма нездоровый уклон. Сначала шло вроде бы правильно. Я рассказывал о Мишке. Вспоминая разные подробности из того, что было раньше.
– Да, Михаил был человек каких мало, – заметил Старовольский. – Неподдающийся, непробиваемый. И такая прекрасная смерть. Если умирать – то лучше не бывает. Я вот думаю – а я бы смог? И сам не знаю, что ответить.
Я пожал плечами. Странные сомнения. После всего, что было. После всего, что я видел. После Бельбека и Мекензиевых Гор.
– Видишь ли, – объяснил он, несколько волнуясь, – одно дело, когда все вместе, на виду, это работа, если что – значит, не повезло. А одному, точно зная – и когда в принципе можно уйти…
Он замолчал, спохватившись, что разоткровенничался с подчиненным. Правильно спохватился. Но я в нем всё равно не сомневался. И уж коль на то пошло, совсем не один был Мишка. Он спас меня, спас других. А я? Господи ты боже мой, вот мне как раз-то лучше и не думать. Перед глазами возникло Маринкино лицо, с розовой пеной вокруг закушенного рта, с испуганными детскими глазами. «Все равно умру, уходи…» Я рассказал Старовольскому о последних словах Михаила. «Познакомятся твари облезлые с русским матросом Шевченко».
– Почему он так сказал, товарищ младший лейтенант? Ведь он советский матрос, краснофлотец. И не русский совсем, украинец.
Вместо ответа Старовольский переспросил:
– Прямо так и сказал?
– Ну, да, я сам слышал.
Лейтенант пожал плечами.
– Возможно, для него это было важно. А может просто так, фигура речи. Теперь так часто в газетах пишут. Какая разница? Только зря ты говоришь, «нерусский совсем». Мишка бы обиделся.
Это показалось мне странным, и я решил кое-что уточнить.
– Разрешите спросить? – спросил я Старовольского.
– Ну, спрашивай.
– А вы… кто по национальности?
Несмотря на сумрак, я понял, что он улыбнулся. Той самой усталой своей улыбкой. И снова переспросил:
– А ты сам, Алексей, кто?
– Я русский, – ответил я без колебаний.
– Я тоже. Есть сомнения? – вновь усмехнулся он.
– Нет… Просто вы из Киева. Это ведь Украина.
– Ну да, Украина… УССР. И что? Ты думаешь, там русские не живут?
– Есть, конечно. Русские везде живут, только они не местные. Вот вы откуда на Украину приехали?
Он покачал головой.
– Я потомственный киевлянин. Там и дед мой жил, и прадед. А те, что жили не там, те и вовсе – кто из Умани, кто с Подолья, кто с Волыни. Одесситы тоже были – как у Шевченко, который не Тарас. Хотя Одесса – это уже не Украина, а Новороссия.
Я снова не понял.
– Какая Новороссия? Новороссийск – это на Кавказе, а Одесса на Украине.
Он улыбнулся опять.
– Не на Украине, а в составе Украинской Советской Социалистической Республики. Это разные вещи. Новороссийск и Новороссия – это тоже не совсем одно и то же.
Я не унимался.
– Значит, они были украинцами, ваши предки?
– По нынешней терминологии выходит, что так. Но раньше ведь другая была.
Мне сделалось смешно. Еще один Меликян на мою голову. Стало быть, и образование не спасает.