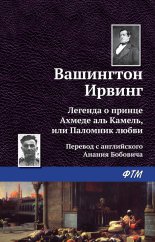В ожидании Догго Миллз Марк
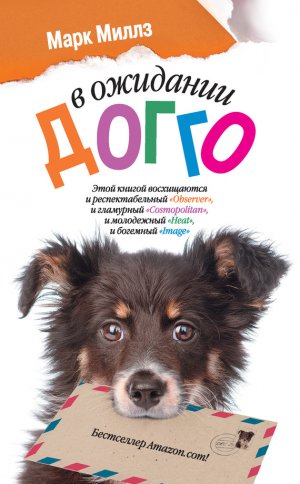
Это мое излюбленное место, где я живу уже три года, и не представляю, что мог бы переехать куда-нибудь еще. Особенно мне здесь нравится в субботу, когда все толкутся на уличных базарах и толпы туристов рассыпаются с тротуаров на мостовые. Догго, я чувствую, тоже начинает любить это место, хотя не исключено, только потому, что во время нашего вечернего моциона в Атлон-Гарденс ему бросают кусочки еды повара-марокканцы, выскакивающие с черного хода своих ресторанов покурить. Атлон-Гарденс – туалет Догго. Там он послушно делает кучу, а я ее послушно убираю.
В американских романтических комедиях владеть собакой – верный способ познакомиться с красивыми девчонками, чтобы потом уложить их в постель. С ними знакомятся в Центральном парке (где пес милашки пытается забраться на вашу собаку; псины, чтобы снять остроту параллелей, обычно бывают противоположного с хозяевами пола). Хозяева собак неловко расходятся и стараются держаться друг от друга подальше, чтобы снова не стать свидетелями неприятного зрелища. И так до финальной сцены, когда молодые обмениваются в церкви кольцами, а их псины опять решают предаться любви (хи-хи-хи).
В Кенсингтонских садах утром гуляют с собаками женщины такого возраста, что по сравнению с ними моя бабушка кажется неопытным птенчиком. А те, которые на уровне, как бы это сказать… на таком высочайшем уровне, что с ними познакомиться невозможно. Надо быть хорошо тренированным спортсменом, чтобы ухитриться переброситься с ними парой слов – так резво они мчатся, а рядом с ними прыжками несутся их поджарые гончие.
Догго никто бы не назвал поджарой гончей. Он коротенький и приземистый, откровенный дворняга. Но сам, похоже, этого не ощущает. Это его качество я неделю наблюдал в агентстве. Пес держится, как особа королевской крови, будто все взгляды прикованы только к нему и он не имеет права совершить промах, чтобы не разочаровать обожающую его толпу. Кенсингтонские сады, где гуляют люди и собаки высшей пробы, место как раз для него. Здесь Догго чувствует себя как дома, настолько в своей среде, что я задумываюсь, сознает он это или нет. Видимо, нет. При всей его самоуверенности он опасается окружающей среды.
Я привел сюда пса, чтобы он размял лапы, впервые после исчезновения Клары как следует побегал на свободе. Не захотел. Да, отходил в сторону, тыкался мордой в корни деревьев, но не спускал с меня глаз. Значит, Догго доверял мне, чего я раньше не замечал. Хотя не исключено, что он представлял главным именно себя и следил, чтобы я не озорничал.
Был замечательный, солнечный, ветреный майский день, и я решил доставить нам удовольствие, сделав круг на лодке по Серпантину. Догго бесстрашно вскочил на борт и, устроившись на носу и положив лапы на планшир, взирал на воду, как с палубы юта капитан. Подергивал задними лапами и поскуливал всякий раз, когда мы проплывали мимо уток. Вряд ли ему нравилось сознавать, что им, как другими собаками, владеют низменные инстинкты.
Вчера вечером чуть не сорвался мой воскресный обед с сестрой. В тот момент, когда она открыла дверь своего дома, мне захотелось повернуться и уйти.
– Боже, собака! – воскликнула Эмма.
Я люблю сестру. Разумеется, люблю. Когда разошлись мама с папой, Эмма заменила мне их. Просто я уже пять лет не видел ту сестру, которая бы задушила меня в объятиях и отпустила бы шутку по поводу того, какое дрянное красное вино я принес. Эмма почему-то решила, что теперь в ее жизни все должно быть «так, а не иначе». Явление брата с собакой – непредвиденный раздражающий фактор, деталь, какую сестра пыталась вписать в представление о том, как она проведет следующие несколько часов.
– Не беспокойся, он уже почти научился проситься на улицу.
– Дэн!
– Шучу.
У Эммы с Данканом было двое детей. Мило, вечно хныкающий карапуз-двухлетка, спал наверху. Шестилетняя Алиса играла на пианино в кухне-столовой в подвальном этаже. Она-то и была причиной, почему я согласился на этот обед.
– Кто там так ужасно шумит? Ах, это ты! – Она увидела меня на лестнице. – Дядя Дэн! – Девочка свалила стул, перепрыгнула через него и обхватила меня за пояс.
– Что ты мне плинес?
– Принес, – поправила Эмма.
– Почему ты решила, что я тебе что-то плинес?
– Потому что ты всегда плиносишь. Ты мой крестный! – На лестнице появился Догго, и девочка изумленно распахнула глаза. – Ты плинес мне собаку?
– Принес, – повторила Эмма. – Это собака дяди Дэна.
– Его зовут Догго, если ты не предложишь кличку получше.
Маленькое личико Алисы посерьезнело. Она долго думала и наконец произнесла:
– Хорошая кличка.
Я сделал вид, будто испугался.
– Ой! – похлопал себя по карману джинсов и с удивленной миной достал пакетик. – Что это у меня такое?
– Мне! Мне! – закричала Алиса.
Это было серебряное ожерелье.
– Символ мира, – объяснил я.
– Мира?
– Потому что в мире очень много войн и убийств.
– Ты еще ей покажи фотографии насилия в Интернете, – усмехнулась Эмма.
– Хорошее, – расцвела Алиса. – Надень на меня.
Данкан находился в саду и махал над мангалом куском картонки.
– Проклятый уголь совсем отсырел. Всю зиму пролежал в сарае. Рад тебя видеть. – Он прервал процесс махания, чтобы пожать мне руку.
Данкан хороший малый, из тех, кого хочется иметь рядом в окопе, парень, кому можно было бы сказать: «Данкан, старина, капитан спрашивает, не сгонял бы я по-быстрому в разведку на ничейную землю, а у меня жутко болит голова». И он бы пошел за тебя, вернулся невредимым и, не исключено, заодно заработал бы медаль. Данкан совершенно не похож на прежних партнеров Эммы, слабаков, которые, когда я был юнцом, учили меня ругаться, курить и слушать Боба Дилана.
– Я расстроился, узнав о вас с Кларой, – смущенно произнес он. – Поставил бы пять к одному, что вы не сойдете с дистанции.
Данкан всегда любил делать ставки. Смотрел на жизнь, просчитывая шансы. Но больше не играл – Эмма не разрешала. Разве что на работе, где занимается торговлей облигациями итальянского банка.
– Может, все еще образуется?
– Вряд ли.
Я действительно так считал. Пару недель изнывал от жалости к себе – был сбит с толку, чувствовал себя уязвленным, даже жаждал мести. Но не стал одним из тех жалких идиотов, которые разжигают в себе ненависть к людям, решившим от них избавиться.
– Сорвалась с места? – Взгляд Данкана стал задумчивым. – Ты не знаешь, куда она делась?
– Нет.
Он снова начал махать картонкой.
– А мне она нравилась.
– Правда?
– Точно. По большей части.
– Ее бы непременно тронуло, знай она, что нравилась тебе по большей части.
Данкан всегда смеялся, как плохой актер по заказу, и теперь сдавленно проквакал:
– Ха-ха-ха. Не могу утверждать, что с ней всегда было просто.
Это он так вежливо выражался, а имел в виду, что порой Клара совершенно слетала с катушек.
Я пришел первым, но был не единственным гостем. Ждали еще семейную пару Хьюго и Люсинду, с которыми я уже несколько раз встречался, и Фрэн – приглашенную для меня девушку, работавшую в банке Данкана исследователем-аналитиком. Я решил, что ее пригласили для меня, поскольку она одного со мной возраста. Фрэн замкнута, раздражительна, иронична. Она нелицеприятно отозвалась о Догго, пренебрежительно об Ислингтоне, где мы все собрались, и бросала ехидные замечания о родителях, бесконечно бубнящих о своих детях. Вполне достаточно, чтобы оттолкнуть от себя любого через двадцать минут.
Пока Данкан сражался, стараясь не позволить распластанной ноге барашка превратиться в уголь, я смотрел на Фрэн через тиковый стол в саду и удивлялся: почему умной женщине нравится выводить из себя людей? Складывалось впечатление, что она сознательно совершает социальное самоубийство. От этого Фрэн, конечно, кажется исключительно интригующей, но лишь потому, что привлекательна. Не будь у нее такой внешности, сидела бы она у себя дома.
Когда Фрэн прошлась по одержимости среднего класса употреблять в пищу органические продукты, у меня именно это невольно и сорвалось с языка:
– Если бы не твоя внешность, сидела бы ты сейчас дома в полном одиночестве.
– Дэн! – одернула меня Эмма.
– Думаешь, я не знаю? – Фрэн с удивлением взглянула на меня. – А тебе спасибо. Это была первая искренняя фраза, которую я услышала с тех пор, как пришла сюда.
– Жизнь – не только искренность, – буркнул Хьюго.
Фрэн не обратила на него внимания и продолжила сверлить меня взглядом.
– Скажи что-нибудь еще.
– Quid pro quo.[3]
Фрэн опустила очередной ломтик салями в пасть Догго.
– Почему сбежала твоя девушка?
– Так нечестно.
– Ты не оговорил условия, что нельзя задать вопрос.
– Ладно. Потому что я не верю в ангелов.
– Неужели?
– Нет никаких свидетельств, что они существуют.
– Ах, ты эмпирик. Может, ты слеп и не замечаешь этих свидетельств? Пытаешься разглядеть нимбы и крылья, а нужно искать нечто совершенно иное. – Фрэн помолчала и добавила: – Может, ангел – я.
– Отлично замаскировалась, – заметил я.
Она рассмеялась.
У Данкана был прекрасный винный погреб, и по мере убывания кларета Эмма все больше раскрепощалась. Да и Фрэн тоже. Она еще продолжала держать позу: «Смотрите на меня: я ваш личный мизантроп», но была достаточно умна и понимала, что перегибать палку невежливо. Даже рассказала милый анекдот про ежа и садовую метлу, от которого все покатились со смеху.
Я понес тарелки в кухню и оказался наедине с Эммой, посыпавшей домашний шоколадный торт сахарной пудрой.
– Извини за Фрэн. Бог знает, что это Данкану пришло в голову.
– Она мне нравится.
– В таком случае ты еще хуже, чем я о тебе думала, – усмехнулась сестра.
Я стянул из вазы малину.
– Не смей! – прикрикнула на меня Эмма.
– Это всего лишь малина.
– Знала же, что надо было купить еще одну корзинку на фермерском рынке.
Вот уж не думал, что услышу нечто подобное от сестры.
– Два раза «Отче наш» и два раза «Аве Мария» все искупят, – отозвался я.
Мы, некогда католики, отошли от церкви и шутить такими вещами нам позволяется. Когда Эмма спросила про работу, я ответил правду: здорово, что могу снова что-то делать, функционировать, зарабатывать на жизнь.
– И кто теперь обрядился в одежды Толстого Трева? Ах, извини, я должна была сказать «в его халат».
– Некто Эди. Сокращенное от Эдит.
Сестра бросила на меня понимающий взгляд.
– Интересно. Какого же возраста?
– Двадцать пять.
– Красивая?
– Вроде того.
– Колись.
Я начал описывать Эди, потом вспомнил, что у меня есть в телефоне ее фото, которое я сделал сразу после того, как мы закончили передвигать в кабинете мебель. Она позировала в середине комнаты, широко улыбалась и, взмахнув рукой, изображала привлекающую внимание публики ведущую: «Полюбуйтесь!»
– Тут не «вроде того» – очень даже эффектная. Стерва.
«Вот тебя и прорвало, – подумал я. – Дождались».
Объяснил, что у Эди есть парень, Дуглас, и они вместе уже целую вечность – с тех пор, как познакомились в Кембриджском университете.
– В Кембриджском? Ты ей рассказал, что пытался туда поступить и провалился?
– Да.
– А то, что я тоже туда поступала и тоже провалилась?
– К слову не пришлось.
– Университетские связи длятся недолго.
Я объяснил ей, что есть Дуглас или нет Дугласа – не имеет значения. От одной мысли, что живу и работаю с одной и той же женщиной, у меня мороз по коже. Весь день с ней, а потом и ночь с ней? С ума сойдешь.
– Через неделю полез бы на стену – только бы найти лазейку и удрать. Я же себя знаю.
– Я тебя тоже знаю. Сразу изменишься, как только влюбишься в нее.
– Прости, забыл: старшие сестры все знают лучше. – И я стянул еще одну ягоду.
Когда я уходил, Алиса отвела меня в сторону и попросила не забыть, что у нее скоро день рождения. А затем задала вопрос, на который, по ее мнению, способен ответить только крестный отец. Ей хотелось узнать, правда ли, что церковные колокольни имеют такую форму, потому что они ракеты и уносят умерших на небеса? Я обнял ее и сказал, что она самая догадливая из всех крестниц в мире.
Подвезти нас было некому – Хьюго и Люсинда жили на севере, за Сток-Невингтоном, – и мы с Фрэн и Догго зашагали в сторону Аппер-стрит, рассчитывая там взять такси. Последние пару недель я жил каким-то единым порывом – словно бы лишился тела и воспарил над происходящим. Резкие суждения Фрэн вернули меня на землю, не оставляя места для парений.
– Когда Данкан пригласил меня на воскресный ленч, я чуть не расхохоталась.
– Почему? – удивился я.
– Догго понимает. Правда, Догго? – Пес поднял голову. – Вот видишь.
– Он съел с твоей ладони килограмм мяса. Чего же ему на тебя не посмотреть?
Фрэн одобрительно хмыкнула.
– Так почему ты чуть не расхохоталась?
– Потому что Данкан знает, каким я могу быть кошмаром.
– Это проявление мазохизма?
– Или садизма.
– Даже так?
– Перестань, мы оба понимаем, почему меня пригласили.
– Ты слишком самонадеянна. Может, это меня пригласили для тебя.
– Господи, – вздохнула Фрэн. – А все моя проклятая самовлюбленность. Для тебя? Такое мне и в голову не приходило.
Она жила неподалеку от Эрлс-Корт, так что был смысл взять одно такси на двоих и хотя бы часть пути проехать вместе. Мы с Догго вышли у Марбл-Арч, и Фрэн отмахнулась от моей десятки, предложенной в качестве доли за проезд.
– Не будь смешным. Достаточно того, что я смешна.
– Что так?
Фрэн закатила глаза.
– Напряги голову.
– Теперь только этим и буду заниматься.
– Так-то лучше. – Когда она хотела, у нее получалась потрясающая улыбка. – Но мне хочется побить тебя.
– За что?
– Без понятия. Буду обсуждать данный вопрос со своим психиатром.
Но это было не последнее, что она мне сказала.
– Недавно я поступила кое с кем так же, как твоя девушка с тобой. Не думай, что ей сейчас очень хорошо, потому что это не так.
Глава девятая
Идея принадлежала Миган, и она пришла ей в голову в самое неподходящее время.
Патрик начинает рекламную кампанию «KP&G» в пятницу днем, и это означает, что мы с Эди к вечеру среды должны разобраться с текстом, потому что Джошу и Эрику из дизайнерского отдела потребуется день, чтобы что-то соорудить. Над нашими головами повис на ниточке дамоклов меч. Самое последнее, что нам требовалось в этот момент, – соревнование в масштабе агентства за лучшее имя для Догго.
Когда Миган пошла напролом, я сообразил, что недооценил ее желания увидеть наше поражение и крах.
– Ну же, ребята, это будет интересно. – Она стояла в нашем кабинете и раздражающе чирикала на своем австралийском, чтобы мы полнее прочувствовали себя допотопными англичашками-иммигрантами. Я так и не разобрался, участвовал в этом Сет или нет.
– Да, – протянул он от двери с выражением человека, который согласен, что надо куда-то двигаться, только вот непонятно куда.
Меня больше всего разозлило, что против нас использовали Догго, но, как кто-то выразился, это распахивало дверь во дворец новых возможностей.
– Хорошо, – согласился я, поднимаясь. – Догго, будем придумывать тебе новое имя.
Я почувствовал на себе взгляд Эди. Она смотрела на меня так, будто я окончательно спятил. Пес же, как и следовало ожидать, и ухом не повел на диване.
– Подтолкните-ка его, – предложил я Миган как можно невиннее, делая вид, что выключаю компьютер.
Она хлопнула в ладоши.
– Пошли, Догго!
Он не отозвался, и Миган попыталась приподнять его. Тут-то все и произошло.
– Он меня укусил! – завопила, отскакивая, Миган.
– Догго! Догго плохой! – Я осмотрел руку пострадавшей. – Немного прихватил зубами, и все. Не до крови.
– Немного? – Она пронзила пса взглядом. – Маленькое дерьмецо!
– Может, сейчас не время? – Я подпустил фальшивой любезности, и Миган не могла заподозрить, что я точно знал, чего она добивалась. Как ей было реагировать? Она недовольно проворчала что-то и ушла, уведя с собой Сета.
Я плюхнулся на диван рядом с псом и сунул ему собачью шоколадку.
– Это неправильно, – прокомментировала Эди.
– Что именно?
– Он поймет, что получил награду за то, что укусил Миган.
– Вы так считаете?
Когда вторая шоколадка скрылась в алчущей пасти Догго, Эди произнесла:
– Не знала, что вы злой.
– Самозащита, ваша честь. Она первая начала.
Это игра без правил. Если озарение приходит, то не важно откуда. К сожалению, сейчас оно никак не приходило.
Мы с Эди пережевывали все снова и снова. Некоторые идеи были неплохими, но ни одна не дотягивала до уровня. Даже Ральф, твердо веривший в нашу способность справиться с задачей, начал сомневаться. Он собрал у себя в кабинете «военный совет».
– Знаю, сколько ни щелкай кнутом, результата не будет.
– Но вы все-таки пошевелитесь, навострите свои чертовы лыжи, – добавил Тристан, вроде как пошутил.
Никто не сомневался, что фотографии работали отлично. Загадочные, привлекающие взгляд, слегка эротичные. Их успех целиком принадлежал Эди. Снимки взяли не из какой-нибудь фототеки. Постановщиком съемки являлась она, фотографировала она. У нее был набит глаз на такие вещи. Я подобным качеством не обладал, но в других научился замечать. Эди каким-то образом сумела придать сексуальность лосьону для полоскания рта. И что еще важнее, связать ассоциациями рекламируемый продукт с самым распространенным удовольствием – поцелуем. Есть люди, которым не нравится целоваться? Разве что монахини не особенные любительницы, но это не тот рынок, на какой направлена наша реклама.
А вот слогана не хватало. Лучшим из того, что предлагалось, оставался: «Не надо! Не понравится!» Он неплохо сочетался с чувственным образом, обыгрывая мысль, что как только человек прополощет рот рекламируемым продуктом, в нем взыграют необузданные желания. Однако Патрик ощущал в нем нарочитую кичливость, навязчивость, как в классическом призыве фирмы «Найки»: «Попробуй! Понравится!» Тристан твердо верил, что слоган должен содержать название продукта. И поскольку был боссом, его слово являлось законом. Нам на все оставалось сорок восемь часов.
Я в дефолтной позиции, когда поджимает время, становлюсь беззаботно оптимистичным, а Эди бьется со стрессом лоб в лоб и с диким звериным криком гнет его к земле. Я понимаю, что некоторым так легче, и сознаю, что моя выдержка бесит тех, кто ведет себя по-другому.
– Ради бога, Дэн!
– Что?
– Может, хватит играть в судоку на вашем чертовом айфоне?
– Ш-ш-ш…
Я играл в Сети с кем-то, кто называл себя Мадам Баттерфляй, и загадал: если выиграю у нее (хотя «она» могла вполне оказаться волосатым болгарским механиком, таков уж современный мир), у нас с Эди все сладится – мы придумаем потрясающие слова и всех победим. Вероятно, существовали иные пути добиться успеха, но я устроил себе такое испытание и хотел побороться.
В последнюю минуту Мадам Баттерфляй все-таки вырвала у меня победу.
– Проклятие!
– Что такое?
– Я ей продул.
– Кому?
– Мадам Баттерфляй.
Эди покачала головой.
– Я начинаю понимать, почему Толстый Трев спятил.
Мы только познакомились и продолжали приглядываться друг к другу, но Эди мне уже нравилась. Смышленая, забавная, честолюбивая, трудоспособная. Это, конечно, не все ее качества. Было в ней нечто еще – трудноопределимое. То, как Эди заполняла пространство, в котором находилась. В ней чувствовалась уравновешенность, ленивая грациозность, спокойное достоинство. Делить с ней кабинет было все равно что сидеть у корней высокого дерева (а с Толстым Тревом я ощущал себя так, словно толкусь перед сценой в мош-пите во время концерта группы трэш-метал).
Эди расцвечивала мой рабочий день. Я предвкушал, как увижусь с ней утром, и чувствовал опустошенность, когда вечером мы расставались у станции метро «Оксфорд-серкус»: она садилась на линию «Виктория» и ехала на юг в Пимлико, а мы с Догго залезали в двадцать третий автобус и возвращались на Ледбрук-гроув.
Мадам Баттерфляй предложила еще сыграть, но я выключил телефон и повернулся к Эди:
– Пошли отсюда. Нам необходима перемена обстановки.
Удивляюсь, как многие этого не понимают. Я вот о чем: зачем часами толкаться в очередях и платить приличные деньги, чтобы прогуляться по выставке и взглянуть – да, согласен – на последнее, что предлагают Королевская академия искусств или Галерея Тейт, в то время как лучшие произведения мирового искусства можно бесплатно посмотреть в крупнейших аукционных домах? На ваш выбор «Кристи», «Сотби», «Бонамс» – все они проводят сеансы продаж на любой вкус – от ценителей древнеегипетского искусства до современного китайского. Моя любимая тема – европейская послевоенная живопись, хотя картины старых мастеров меня тоже привлекают.
Главные торги, на какие газеты откликаются крупными заголовками, – это импрессионисты и современное искусство. Именно здесь тратятся бешеные деньги. В прошлом году «Сотби» продал в Нью-Йорке пастельный рисунок Эдварда Мунка «Крик» за семьдесят четыре миллиона фунтов. Незадолго до аукциона я серьезно подумывал сесть в самолет и лететь в США. Понимал, что картина, долго находившаяся после написания в частных руках, скорее всего снова исчезнет в личной коллекции (что и случилось на самом деле). Но на короткое время она была доступна для обозрения – нужно было только свернуть с улицы и постоять перед ней. Теперь это позади, и я сомневаюсь, что при моей жизни рисунок вновь объявится. В прошлый раз он скрылся из виду более чем на сто лет.
Так обстоит дело с аукционами: соприкасаешься с красотой любого рода, но эти встречи мимолетны, преходящи и никогда не повторяются, словно на улице бросилась в глаза эффектная женщина и прошла мимо.
Я ничего не сказал Эди, когда привел ее в аукционный дом «Кристи» на Кинг-стрит. К нам наперехват двинулся мужчина в черной униформе.
– Извините, сэр, мы пускаем только с собаками-поводырями.
– Это пес психической гигиены. – Я уже пару раз употреблял эту формулу в автобусах и всегда произносил тоном то ли трейнспоттера,[4] то ли компьютерного фаната.
– Пес психической гигиены? – Служитель посмотрел на Эди, та ответила ему ласковой улыбкой. – Хорошо, – кивнул он. – Проходите.
Торг был масштабным, наверное, самым впечатляющим из всех, что я видел. Я знал, чего ждать, поскольку сверился в Интернете с каталогом. Среди сорока лотов были три Ренуара, пять Пикассо, два Матисса, Ван Гог и бронза Альберто Джакометти. Ключевые лоты, как ни странно, разочаровывали. По каталогу трудно представить, как выглядит произведение искусства. Напротив, пейзаж Пьера Боннара порадовал: на экране компьютера он казался плоским и невыразительным, а здесь мерцал жаром средиземноморского дня. Я почти услышал цикад.
Перед картинами Ван Гога мне всегда становится немного грустно. Дело не в его безумной гениальности или безвременной смерти от пули, пущенной собственной рукой. А в понимании, что он сошел в могилу, не сознавая, какое исключительное влияние оказал на мир. Лишь несколько современников знали, что он провидец, пророк.
На торги выставили написанное маслом небольшое полотно, изображающее приют для душевнобольных в Арле – местечке на юге Франции, где художник закончил жизнь. Это бушующее торжество голубого, фиолетового и оранжевого предполагали продать за сумму от десяти до двенадцати миллионов фунтов. Абсурдные деньги, если вспомнить, что при жизни художник мог едва заработать на то, чтобы прокормиться.
Эди, в которой, как я уже понял, жил дух противоречия, не соглашалась, однако в ее контраргументах чувствовалось нечто игривое: мол, когда все уже сказано и сделано, от нас остается лишь куча костей и доброе имя. Наверное, Ван Гог понимал это и рассудил, что лучше умереть на вершине гениальности, чем человеком, победившим свою депрессию и еще сорок лет рисовавшим посредственность.
– Как Штеффи Граф. Ушла на вершине славы. Я лучшая, спасибо и прощайте.
– Может, подобное решение ей подсказало глубокое знание творчества Ван Гога?
– Если это все, что вы можете сказать, то победа в споре за мной.
– В каком споре? Ван Гог убил себя не для того, чтобы увековечить свое имя.
– Откуда вам знать? Может, именно для этого.
Эди явно разбиралась в искусстве, но ей нравилось показывать, что она относится к своей эрудиции не слишком серьезно. Эди выросла в образованной, читающей семье и была единственной дочерью композитора-отца, который также занимался музыкальной журналистикой, и матери гончара и археолога-любителя. Когда Эди была моложе, родители постоянно водили ее на выставки и концерты. Вот такой же и Джей: его приучали к культуре с раннего возраста, он впитывал ее, можно сказать, сквозь поры. Я втайне завидовал им. Нам с Эммой, когда мы росли, ничего такого не давали.
– Мой отец из придерживающихся левых взглядов ученых старой школы, – объяснил я. – Он считает музыку и искусство буржуазной мишурой. Хотя сейчас, наверное, не так категорично.
– А мать? – спросила Эди.
– Отец такой человек, что для собственного блага ему лучше не возражать.
Я не собирался распространяться о своем детстве. Хотел, чтобы мы оказались перед великими произведениями искусства, потому что рядом с такими полотнами собственные слабые способности к творчеству получают импульс в нужном направлении. Возникает ощущение перспективы и прозрачности. А иногда в голову приходит мысль, как решить какую-нибудь проблему.
Но сегодня не получалось. Во всяком случае, не сразу. До того момента, когда мы возвращались по Пиккадилли в агентство, и я не предложил все-таки оставить в качестве слогана «Не надо! Не понравится!».
– Я бы не стала, – покачала головой Эди. – Это звучит как предупреждение минздрава.