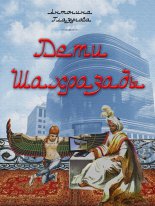Цветаева без глянца Фокин Павел

«МНЕ дело — изМЕНа»
Личность Марины Цветаевой настолько широка, богата и противоречива, что охватить ее в немногих словах совершенно немыслимо!
Константин Родзевич
Знала же она, считавшая восемнадцатый век своим, родным, смертную формулу «слово и дело» — обвинение в государственной измене, оговор, равный приговору!
Знала и то, что в веке двадцатом, в котором была обречена жить, слово «измена» вновь обретет кровавый смысл.
И о роковых исходах любовных измен — во все времена — знала. Измена — у людей, для людей — гнев, презрение, ненависть. Застенок и плаха. Позор и проклятие на все времена.
И с вызовом писала: «мне дело — измена». С вызовом подписывала: «мне имя — Марина».
Мол, не трудитесь выслеживать, доносить, шпионить, МНЕ — нечего скрывать, МНЕ не от кого скрываться. Всё о себе САМА написала. Всё о себе САМА рассказала. Ни слова, ни дела не утаила.
- Вскрыла жилы: неостановимо,
- Невосстановимо хлещет жизнь.
Была особой породы: не «из камня» и не «из глины» сотворена. И даже — не «из плоти». Как «бренная пена морская». Из воздуха и воды — не воздух и не вода. Из волны и скалы — не волна и не скала. На границе стихий — в столкновении стихий. Столкновение стихий. Вот только что взлетевшая на гребень волны, игривая и бурлящая, — и уже оседающая кружевом на песке, покорно и бездвижно. Гибнущая в момент рождения и воскресающая в новом ударе прибоя — «серебрясь и сверкая». Сиюминутная и вечная, изменчивая и неизменная — Психея. Живая Душа.
И ее «измена» — из другого словаря. Вне истории. Вне политики. Вне страстей.
Ее «изМЕНа» — романтизированный, поэтически очищенный и ограненный вариант прозаического, бледного и вялого, почти механического «изменения». Уверенной рукой мастера вызволила, вызвала из гусеницы повседневного слова волшебную, переливающуюся оттенками смысла бабочку поэзии.
Ее «измена» — непрерывный полет Души. Неустанное движение Духа. Неутомимое Творчество. Преодоление. Обновление. Чудо. Измена-Преображение. Измена-Жизнь. Неизбывное материнство. «Высокая» измена — в которой и тени предательства нет, где только — самоотдача. Измена-Подвиг. Измена-Дар.
- Подставляйте миски и тарелки!
- Всякая тарелка будет — мелкой,
- Миска — плоской, через край — и мимо —
- В землю черную, питать тростник.
- Невозвратно, неостановимо,
- Невосстановимо хлещет стих.
«Я не люблю жизни как таковой, для меня она начинает значить, т. е. обретать смысл и вес — только преображенная, т. е. — в искусстве. Если бы меня взяли за океан — в рай — и запретили писать, я бы отказалась от океана и рая. Мне вещь сама по себе не нужна». «Мне нет дела до себя. Меня — если уж по чести — просто нет». Отречение — резкое, непоправимое, до конца. И оправдания от других — не надо.
- Проста моя осанка,
- Нищ мой домашний кров.
- Ведь я островитянка
- С далеких островов!
- Живу — никто не нужен!
- Взошел — ночей не сплю.
- Согреть чужому ужин —
- Жилье свое спалю.
- Взглянул — так и знакомый.
- Взошел — так и живи.
- Просты наши законы:
- Написаны в крови.
Считала: «Тело в любви не цель, а средство». Также и в творчестве, ибо любовь — и есть творчество. И творчество — любовь. Она всегда понимала себя не как цель, а как средство — творчества, любви, души. И пользовалась им (собой) на полноту: радовалась и страдала, томилась и ликовала, рыдала и пела, любила, негодовала — жила. И всех звала с собой — жить:
«Мое завещание детям:
— «Господа! Живите с большой буквы!» (Моя мать перед смертью сказала: «Живите по правде, дети, — по правде живите!» — Как туманно! — Правда! — Я никогда не употребляю этого слова. — Правда! — Как скудно — нищё — не завлекательно! — «Живите под музыку» — или — «Живите, как перед Смертью» — или — просто: — «Живите!»»
Гедонизм? Ничего нет более противного Марининому призыву — жить! Гедонизм — торжество плоти — бездушен. Гедонизм — апофеоз потребления — бесплоден. Гедонизм — имитация жизни — «гроб и надгробные плиты»!
Жить, для Марины, — быть надобной. Быть средством для другого. Который сам — встречное средство. Она — оклик, он — отзыв. Вместе — жизнь.
- Луну заманим с неба
- В ладонь — коли мила!
- Ну а ушел — как не был,
- И я — как не была.
Оклик без отзыва — стих. Но и в стихе — жизнь. Усиленная и умноженная лирическим напором.
- Гляжу на след ножовый:
- Успеет ли зажить
- До первого чужого,
- Который скажет: пить.
«Лирическое стихотворение: построенный и тут же разрушенный мир. Сколько стихов в книге — столько взрывов, пожаров, обвалов: ПУСТЫРЕЙ. Лирическое стихотворение — катастрофа. Не началось и уже сбылось (кончилось). Жесточайшая саморастрава. Лирикой — утешаться! Отравляться лирикой — как водой (чистейшей), которой не напился, хлебом — не наелся, ртом — не нацеловался и т. д…
Из лирического стихотворения я выхожу разбитой».
Но:
- Дробясь о гранитные ваши колена,
- Я с каждой волной — воскресаю!
- Да здравствует пена — веселая пена —
- Высокая пена морская!
Биография Марины Цветаевой сегодня известна в мельчайших деталях. Если и есть пробелы, то — несущественные. Во всяком случае главные эпизоды прописаны с небывалой тщательностью. До жеста, взгляда, вздоха. Родными, современниками, исследователями. Самой Цветаевой — обильно и ярко фиксировавшей события и думы в записных книжках, тетрадях, письмах, в стихах.
Зачем?
По детальности отображения в письменных документах биография Цветаевой может сравниться (несомненно, уступая) лишь с последними годами жизни Льва Толстого. Даже в усеченном — утраченном — виде цветаевский архив огромен. И все равно каждая новая публикация вызывает непременный интерес. От судьбы Марины не оторваться, как не оторваться от ее стихов, которых — много! — очень много!! — чересчур много!!! — и все равно недостаточно.
Почему?
Биография Цветаевой разрублена топором Русской Революции на две равные половины. Они зеркально отражаются друг в друге. До излома жизнь шла естественным чередом, со своими радостями и заботами, удачами и потерями — «в руце Божией». После — всё перевернулось, начался сплошной «дьяволов водевиль». Революция лишила всего: России, культурной среды, привычного уклада жизни, дома, мужа, дочери. Оставила только Слово. И — Дело: писать, свидетельствовать, жить. «Потому что вовсе не: жить и писать, а жить-писать и: писать — жить».
«Слово и дело» Цветаевой стало формулой верности — своей Душе, своему Дару, разорванной в клочья родине. Именно в Революцию услышала она голос народа, вырвавшийся из многовекового подполья — песней, плачем, пьяным смехом, молитвой, причитанием, матерком — вихрем, смерчем, завываньем. Из поглотившего реальность речевого хаоса вылавливала ухом поэта живые слова, возвращала им смысл, спасала их душу. В те дни никто больше так с русским словом не работал. Цветаева одна приняла на себя первый удар языковой стихии — и выстояла. Блок, бесстрашно в нее вошедший во след двенадцати разбойникам-апостолам революции, был истреблен собственной поэмой. Маяковского унес за собой поток агитпропа и новояза. Ахматова — удалилась в скорбное молчание. К Волошину в Коктебель доносились лишь отголоски бури. Гумилев лежал в могиле.
Марину штормило:
«Пока ты поэт, тебе гибели в стихии нет, ибо всё возвращает тебя в стихию стихий: слово.
Пока ты поэт, тебе гибели в стихии нет, ибо не гибель, а возвращение в лоно».
Зимой 1919-го Бальмонт, в те дни душевно сблизившийся с Цветаевой, рассказал ей, как встретил на улице безумную женщину, все время спрашивавшую: «Дяденька, а дяденька, где мой дом?» И сам на грани безумия, в панике бежал.
Реакция Марины была мгновенной, она сразу всё узнала и преобразила: «Бальмонт! Как замечательно! И как всё ясно. — Новая Россия — милиционер у столба смотрит в огонь — Москва, которая не знает, где ее дом — и Вы, Поэт…
И Москва спрашивает дорогу у Поэта…»
Несколько лет спустя, Бальмонт, уже в эмиграции, вспомнит этот эпизод в эссе «Где мой дом?» и — художественно довершит его:
«Увидев меня, Марина всплеснула руками и воскликнула: «Братик, что с вами?»
Я рассказал ей подробно о встрече. Лицо Марины сделалось торжественным, а глаза ее стали смотреть как будто внутрь самих себя.
— Братик, — сказала она, беря меня за руку. — Она должна была к вам прийти. Ведь это же к вам приходила — Россия».
Старый Поэт немного польстил себе, но и его поразила мистическая минута, когда в одном облике предстала перед ним потерявшая свой дом женщина, Россия и Марина. И лицо ее он увидел «торжественным», а глаза Цветаевой «стали смотреть как будто внутрь самих себя». В те дни не Москва (не только Москва), а именно вся Россия потеряла свой дом — и пути к себе спрашивала — у Поэта.
Бальмонт — испугался и сбежал (укрылся в Кафэ Поэтов). Марина — ответила всей мощью своего дара — всей силой любви.
Восьмилетняя дочь Аля сообщала матери Волошина: «Марина живет как птица: мало времени петь и много поет».
- Каждый стих — дитя любви,
- Нищий незаконнорожденный.
- Первенец — у колеи
- На поклон ветрам положенный.
«Слово и дело» Цветаевой — вера себе, вера судьбе, вера России. Вера дому.
Но: «Где мой дом?»
Из того же Алиного письма: «Мы с ней кочевали по всему дому. Сначала в папиной комнате, в кухне, в своей. Марина с грустью говорит: «Кочевники дома» Теперь изнутри запираемся на замок от кошек, собак, людей. Наверное, наш дом будут рушить…»
«России (звука) нет, есть буквы: СССР», — писала Цветаева в 1928-м. В 1920-м сочувственно занесла в тетрадь где-то услышанную остроту «Р.С.Ф.С.Р. — «Расфуфырка»».
«Не могу же я ехать в глухое, без гласных, в свистящую гущу. Не шучу, от одной мысли душно», — признавалась в 1928-м. В 1920-м — тоже было не до шуток. «Расфуфырка» выдавливала гласные из России, душила своих поэтов, гнала их из дому.
11 мая 1921 года «кочевники дома» стали настоящими кочевниками: Цветаева покинула родину. За восемнадцать лет скитаний она сменила почти три десятка адресов. Германия, Чехия, Франция… Берлин, Прага, Париж… Мокропсы, Вшеноры, Иловище… Ванв, Медон, Кламар… И еще, и еще, и еще…
«Где мой дом?»
«Меня в Россию не пустят: буквы не раздвинутся… В России я поэт без книг, здесь — поэт без читателей. То, что я делаю, никому не нужно».
Но буквы раздвинулись (точнее — их раздвинули — Эфрон, Аля, Мур), чтобы сомкнуться в смертельные тиски, стянуться гибельной петлей.
Еще два года беспрерывных переездов. Москва, Болшево, Москва, Голицыно, Москва…
«Где мой дом?»
Елабуга.
- Пляшущим шагом прошла по земле! — Неба дочь!
- С полным передником роз! — Ни ростка не наруша!
- Знаю, умру на заре! — Ястребиную ночь
- Бог не пошлет по мою лебединую душу!
- Нежной рукой отведя нецелованный крест,
- В щедрое небо рванусь за последним приветом.
- Прорезь зари — и ответной улыбки прорез…
- Я и в предсмертной икоте останусь поэтом!
Феномен Марины Цветаевой, поэта и человека, — в экзистенциальной непримиримости и нераздельности личностной исключительности и исторической типичности, затейливого узора и строгой схемы, волны и камня, в сшибке которых означается неуловимая истина Бытия.
Цветаева лично видела царя и Льва Толстого, Керенского и Блока, общалась с Брюсовым и Бальмонтом, Волошиным и Андреем Белым, Розановым, Вячеславом Ивановым, С. М. Волконским, Львом Шестовым, о. Сергием Булгаковым, с Ахматовой, Мандельштамом, Пастернаком, Маяковским, Есениным, переписывалась с Рильке, дружила с Натальей Гончаровой — какие избранные встречи! Она жила в Москве, Тарусе, Крыму, Нерви, Лозанне, Фрайбурге, Берлине, Праге, Париже, бывала в Петербурге, Генуе, Вене, Мюнхене, Дрездене, Лондоне, Брюсселе — какие избранные места! Для нее текли Ока, Волга, Эльба, Сена, Рейн, Темза, плескали волнами Черное и Средиземное моря, Женевское озеро и Атлантический океан, высились Кара-Даг, Альпы, Шварцвальд, Татры, цвели Коктебель и Лазурный Берег — какие избранные виды! Всё — для полноты биографии.
Ее жизнь явлена нам как некий образец, в котором собралось все самое главное, неизбежное, сущностное той эпохи; в ней, как в кристалле, сошлись лучи всех тревог и ожиданий того грозного, грозового времени — времени великих измен.
Рубеж столетий, Серебряный век, Русско-японская война, Первая мировая, отречение царя, революция, гражданская междуусобица, эмиграция, рождение новой империи Советов, возвращение на родину, Великий Террор, Вторая мировая, эвакуация — сколько событий и потрясений! А рядом, одновременно и параллельно — пропитанное возвышенными идеалами детство, гениальная мать, ее ранняя кончина от чахотки, отец-профессор, поглощенный своим титаническим трудом по созданию небывалого до того Музея, безоглядная любовь и раннее, в 17 лет (!), замужество, муж-дитя, первенец — почти мифологическая Ариадна — дочь-вундеркинд, разлука с мужем, вторая дочь с отстающим развитием и ее голодная смерть в приюте, одночасовые «романы»-очарования и разочарования, воссоединение семьи и медленное угасание супружеской любви, рождение сына — победоносца Георгия, безумная материнская любовь к нему, конфликт с повзрослевшей дочерью и почти разрыв с ней, вновь расставание, разлука и — последняя встреча семьи — перед арестами, расстрелами, гибелью… Сколько усилий и трат! Скитания, лишения, болезни, труд. Всё — для полноты жития.
Судьба Цветаевой — исторический факт колоссальной эстетической цельности и ценности — сюжет Русского романа XX века. Она совершенна, как совершенна судьба Пушкина. И, как судьба Пушкина, она представляет собой верное средство постижения судьбы России.
Павел Фокин
ЛИЧНОСТЬ
Облик
Татьяна Николаевна Кванина (1908–1996), преподаватель русского языка и литературы, жена Н. Я. Москвина:
Я еще не знала, кто передо мною, но ощущение, что вижу человека, к которому слово «незаурядный» применить мало, родилось тут же: это был человек особой, высочайшей породы. За всю мою жизнь и прежде и потом такого ощущения я не испытывала ни от одной встречи [1; 469].
Анастасия Ивановна Цветаева (1894–1993), младшая сестра М. И. Цветаевой, писательница, мемуаристка:
(В 1904 г. — Соcт.). Голубоглазая, с русой косой, горбоносая, с резкими движениями, смехом и выразительной мимикой, она напоминала клоуна [15; 140].
Валерия Ивановна Цветаева (1883–1966), сводная сестра М. И. Цветаевой, дочь И. В. Цветаева от первого брака:
Внешне тяжеловесная, неловкая в детстве, с светлой косичкой, круглым, розовым лицом, с близорукими светлыми глазами, на которых носила долгое время очки, Марина характером была неподатливая, грубовата.
Забегая вперед, скажу, что с возрастом внешность Марины менялась к лучшему, она выросла, выровнялась. 16-ти лет, будучи еще в гимназии, Марина выкрасила волосы в золотой цвет, что очень ей шло, очки носить бросила (несмотря на сильную слепоту) [1; 14].
Валентина Константиновна Перегудова (урожд. Генерозова; 1892–1967), гимназическая подруга М. И. Цветаевой:
Мое знакомство с ней началось в гимназии Ф. Д., где я училась пансионеркой. Когда я была в шестом классе, к нам перешла из другой гимназии Марина, и тоже пансионеркой. <…> Я не могла не замечать сидящую на одной из парт девочку, всегда склонившуюся над книгой или что-то пишущую. Очки, которые она никогда не снимала (она была очень близорука), довольно угрюмое лицо, постоянная углубленность в себя, медленная походка, сутулящаяся фигура делали ее более взрослой, чем она была на самом деле [1; 22].
Татьяна Николаевна Астапова, одноклассница М. И. Цветаевой в гимназии М. Г. Брюхоненко:
Из ее внешнего облика мне особенно запечатлелся нежный, «жемчужный» цвет лица, взгляд близоруких глаз с золотистым отблеском сквозь прищуренные ресницы. Короткие русые волосы мягко ложатся вокруг головы и округлых щек. Но, пожалуй, самым характерным для нее были движения, походка — легкая, неслышная. <…>
Однажды Цветаева, появившись утром в классе, вызвала всеобщее удивление: волосы у нее за один день стали необычного соломенного цвета, и к ним была прикреплена голубая бархатная лента. По-видимому, в ее воображении все это должно было выглядеть иначе. Быть может, тут сыграло какую-то роль название сборника стихов Андрея Белого «Золото в лазури». Ее волосы привлекли внимание, ей задавали вопросы. Вероятно, Цветаевой это надоело, а возможно, эта причуда разонравилась и самой, но только вскоре она остриглась наголо и некоторое время носила черный чепец [1; 43,47].
Анастасия Ивановна Цветаева:
(В 1910 г. — Сост.). Марина в темном платье и в черной шелковой шапочке вроде берета, с черной же оборкой на спрятанных, чуть отрастающих волосах. Уже давно Маринины нечаянно покрашенные волосы стали менять оттенки от желтого и морковного к зеленоватому, и, наконец, Марина обрила голову. По чьему-то совету полагалось ее брить десять раз — тогда могли они завиться. И Марина надела черный шелковый чепец с маленькой оборкой, очень ей не шедший [15; 356].
Анастасия Ивановна Цветаева:
(В 1911 г. — Сост.). Я никогда за всю жизнь не видела такой метаморфозы в наружности человека, какая происходила и произошла в Марине: она становилась красавицей. Все в ней менялось, как только бывает во сне. Кудри вскоре легли кольцами. Глаза стали широкими, вокруг них легла темная тень. Марина, должно быть, еще росла? И худела. Ни в одной иллюстрации к книге сказок я не встретила такого сочетания юношеской и девической красоты. Ее кудри вились еще круче и гуще моих. Я никогда не была красавицей, а Марина была ею лет с девятнадцати до двадцати шести, лет пять-шесть. До разлуки, разрухи, голода [15; 386–387].
Мария Ивановна Кузнецова (литературный псевдоним Гринева; 1895–1966), актриса Камерного театра:
(В 1912 г. — Сост.). Я не спускаю глаз с Марины Цветаевой. Под золотой шапкой волос я вижу овал ее лица, вверху широкий, книзу сужавшийся, вижу тонкий нос с чуть заметной горбинкой и зеленоватые глаза ее, глаза волшебницы [1; 57].
Елизавета Яковлевна Тараховская (1895–1968), поэтесса, переводчица, сестра С. Я. Парнок:
Она была стройна, как юноша, круглолица, светловолоса [2; 66].
Николай Артемьевич Еленев (1894–1957), прозаик, историк искусств, знакомый М. И. Цветаевой по Чехии:
Когда я впервые взглянул на лицо Марины, мне вспомнился мир Ренессанса и песенка, которая, по преданию, принадлежит герцогу Лоренцо Великолепному:
- Quant’e bella giovinezza,
- Ма si fugge tutta via…[1]
Но мне пришлось сосредоточиться, напрячь память, чтобы найти тип лица Цветаевой. Это удалось мне не сразу. Когда же она повернулась, спокойно слушая собеседника, беспокойство умственного усилия мгновенно исчезло: передо мною возник образ пажа на ватиканской фреске «La Messa di Bolsena»[2], с его выразительным профилем. Вместе с тем лицо Цветаевой было моложе, беспечней и одухотвореннее. С ее темно-русыми подстриженными волосами, четким тонким носом, узкими губами, но довольно широким русским овалом. Марина была лишена земной косности. <…>
Форма носа, соразмерная, с легкой горбинкой, превосходно сочеталась с ее высоким, крутым и большим лбом. Но серые глаза были холодны, прозрачны. Эти глаза никогда не знали страха, всего менее мольбы или покорности [1; 260–261].
Елизавета Павловна Кривошапкина (урожд. Редлих; 1897–1988), художник-график:
Внешность Марины была до странности неровной. Иногда она казалась красивой. Хороши были золотистые волосы, прозрачные глаза и горячий, яркий румянец. Но глаза за поблескивающими стеклами пенсне часто смотрели насмешливо и неуловимо. А лицо вдруг тяжелело и становилось бледным и равнодушным [1; 75].
Петр Никанорович Зайцев (1889–1970), писатель: Она была и по внешности — преинтересная! Ее небольшая, стройная фигурка производила впечатление своей строгой очерченностью, воздушной оконтуренностью форм и своей простотой и естественной грацией. Невысокая, стройная, строгая, с тихими глазами, в которых таилась насмешливость, вот-вот готовая вспыхнуть острой эпиграммой [1; 137].
Ариадна Сергеевна Эфрон (Аля) (1912–1975), дочь М. И. Цветаевой:
Моя мать, Марина Ивановна Цветаева, была невелика ростом — 163 см, с фигурой египетского мальчика — широкоплеча, узкобедра, тонка в талии. Юная округлость ее быстро и навсегда сменилась породистой сухопаростью; сухи и узки были ее щиколотки и запястья, легка и быстра походка, легки и стремительны — без резкости — движения. Она смиряла и замедляла их на людях, когда чувствовала, что на нее смотрят или, более того, разглядывают. Тогда жесты ее становились настороженно скупы, однако никогда не скованны.
Строгая, стройная осанка была у нее: даже склоняясь над письменным столом, она хранила «стальную выправку хребта».
Волосы ее, золотисто-каштановые, в молодости вившиеся крупно и мягко, рано начали седеть — и это еще усиливало ощущение света, излучавшегося ее лицом — смугло-бледным, матовым; светлы и немеркнущи были глаза — зеленые, цвета винограда, окаймленные коричневатыми веками. Черты лица и контуры его были точны и четки; никакой расплывчатости, ничего недодуманного мастером, не пройденного резцом, не отшлифованного: нос, тонкий у переносицы, переходил в небольшую горбинку и заканчивался не заостренно, а укороченно, гладкой площадочкой, от которой крыльями расходились подвижные ноздри, казавшийся мягким рот был строго ограничен невидимой линией.
Две вертикальные бороздки разделяли русые брови. Казавшееся завершенным до замкнутости, до статичности, лицо было полно постоянного внутреннего движения, потаенной выразительности, изменчиво и насыщено оттенками, как небо и вода. Но мало кто умел читать в нем [1; 143].
Ольга Елисеевна Колбасина-Чернова (1886–1964), литератор, дочь писателя Е. Я. Колбасина:
(В 1923 г. — Сост.). Вошла молодая женщина — коричневые волосы челкой, матовая светло-коричневая кожа лица, светлые глаза. Стройная, даже как будто неестественно прямая — «стальная выправка хребта», как сказала она в своем стихотворении о князе Сергее Волконском — слова эти подходили именно к ней. Эта прямость, несгибаемость поражала, она придавала некоторую угловатость ее стремительным движениям и некоторую неженственность. Мягкости не было [1; 292].
Вадим Леонидович Андреев (1902–1976), поэт, прозаик, сын писателя Л. Н. Андреева (от первого брака). С 1917 г. в эмиграции. Автор нескольких сборников, публиковался в журналах «Воля России», «Русские записки», «Числа» и др. Во время войны участвовал в движении Сопротивления. В 1946 г. принял советское гражданство:
Когда мы встретились в первый раз в Париже, в 1925 г., я не мог отделаться от двойственного чувства — той Цветаевой, которой я ожидал, — не оказалось: я думал, что она золотоволосая, воздушная, прозрачная — Психея, — и вместо этого встретился с женщиной еще очень молодой — ей тогда было 32–33 года, но поразившей меня своей неженственностью: большие, выразительные, мужские руки, движения резкие и порывистые, голос жесткий и отчетливый. Все было в ней резко и неуютно. Особенно взгляд очень близорукого человека — невидящий. <…> Запомнил челку русых волос, — уже седеющую! — почти всегда обожженную: когда М. И. задумывалась — обычный жест опереться на левую руку, в которой крепко зажата неизменная папироса, большие перстни и серебряные браслеты на смуглых руках [3; 171–172].
Ариадна Сергеевна Эфрон:
Руки ее были не женственные, а мальчишечьи, небольшие, но отнюдь не миниатюрные, крепкие, твердые в рукопожатьи, с хорошо развитыми пальцами, чуть квадратными к концам, с широковатыми, но красивой формы ногтями. Кольца и браслеты составляли неотъемлемую часть этих рук, срослись с ними — так раньше крестьянки сережки носили, вдев их в уши раз и навсегда. Такими — раз и навсегда — были два старинных серебряных браслета, оба литые, выпуклые, один с вкрапленной в него бирюзой, другой гладкий, с вырезанной на нем изумительной летящей птицей, крылья ее простирались от края и до края браслета и обнимали собой всё запястье. Три кольца — обручальное, «уцелевшее на скрижалях», гемма в серебряной оправе — вырезанная на агате голова Гёрмеса в крылатом шлеме, и тяжелый, серебряный же, перстень-печатка, с выгравированным на нем трехмачтовым корабликом и, вокруг кораблика, надписью — тебе моя синпатiя — очевидно, подарок давно исчезнувшего моряка давно исчезнувшей невесте. <…> Были еще кольца, много, они приходили и уходили, но эти три никогда не покидали ее пальцев и ушли только вместе с ней [18; 396].
Франтишек Кубка (1894–1969), чешский писатель, критик, переводчик:
У Марины Цветаевой были красивые руки с тонкими пальцами. Средний палец на правой руке с несмываемым фиолетовым чернильным пятном. Под пятном — затвердение. Марина была упорной труженицей пера [1; 353].
Николай Артемьевич Еленев:
Ее пальцы со следами никотина были довольно коротки, пластически образующей была не длина кисти, но ее ширина. Было ясно, что Марина не ухаживала за своими руками и ногтями. <…> Для меня была и осталась загадочной анатомическая природа Марины: голова ее была одухотворена, как голова мыслителя, выражая сочетание разных веков культур и народностей. Руки же… Такие руки с ненавистью сжигали не только помещичьи усадьбы, но и старый мир [1; 256–266].
Ариадна Викторовна Чернова-Сосинская (1908–1974), автор критических статей, переводчица. Дочь О. Е. Колбасиной-Черновой:
Фотографии не только плохо передают облик Марины Ивановны, но даже очень меняют его. Виден лишь линейный рисунок ее черт, тонкий с горбинкой нос на широкой светлой плоскости лица, сжатый рот, темные глаза, но совершенно теряется особая лепка ее лица, создававшаяся необычной его окраской. Оно было смуглым, зеленоватые глаза казались светлыми в окружавшем их золотисто-коричневом кольце, губы были темными, почти коричневыми от долгого куренья. Пушистые, стриженые волосы с челкой над самыми глазами, золотые в молодости, с годами темнели и мешались с сединой — Марина Ивановна начала седеть очень рано. Во всей ее фигуре, тонкой, но не гибкой, — Марина Ивановна держалась необычайно прямо, и талия ее почти всегда была стянута кожаным поясом — выражалась предельная напряженность всех мускулов, всех жил, всей воли [1; 299].
Вера Леонидовна Андреева (в замужестве Рыжкова; 1911–1986), дочь писателя Л. Н. Андреева, мемуаристка. В 1960 г. вернулась в СССР:
(В 1927 г. — Сост.). Когда я увидела Марину Ивановну на пляже, я в первый раз поняла, как ей идет ее имя — Марина, что значит «морская». Она лежала на песке, опершись на локоть, и, прищурившись, смотрела на море — глаза у нее были того же цвета, что океанские волны, — серо-зелено-голубые и такие же диковато-загадочные и своенравные. Серовато-пепельные волосы удивительно гармонировали с цветом бело-синего, выцветшего на солнце купального костюма. Стройные, худощавые, темно загорелые ее ноги спокойно и легко лежали на бледном песке. Совсем цыганская — худая и нервная — рука вдумчиво и нежно пересыпала сквозь длинные пальцы песок [1; 364].
Вадим Леонидович Андреев:
(В 1938 г. — Сост.). В последний раз я видел Цветаеву незадолго до ее отъезда в Россию. Мне пришлось перед тем с нею не встречаться в течение 2 лет, и когда я пришел к М. И., меня поразило то, как Цветаева постарела, в недолгий, сравнительно, срок. Ее волосы почти совсем поседели, появились морщины на худом лице, обострилась горбинка на носу, но все ее движения стали менее резкими и острыми. В первый раз я увидел в М. И. усталость, и не физическую только, но глубокую, душевную, от которой уже человек не может отдохнуть [3; 176].
Евгений Борисович Тагер (1906–1984), советский литературовед:
(В 1939 г. — Сост). Не изящная хрупкость, а — строгость, очерченность, сила. И удивительная прямизна стана, слегка наклоненного вперед, точно таящего в себе всю стремительность ее натуры. Должен сказать, что ни на одной фотографии тех лет я не узнаю Цветаеву. Это не она. В них нет главного — того очарования отточенности, которая характеризовала всю ее, начиная с речи, поразительно чеканной, зернистой русской речи, афористической, покоряющей и неожиданными парадоксами, и неумолимой логикой, и кончая удивительно тонко обрисованными, точно «вырезанными», чертами ее лица [1, 462].
Ольга Алексеевна Мочалова (1898–1978), поэтесса:
(В 1940 г. — Сост.). Марина Цветаева была тогда худощава, измучена, с лицом бесцветно-серым. Седоватый завиток надо лбом, бледно-голубые глазки, выражение беспокойное и недоброе. Казалось, сейчас кикимора пойдет бочком прыгать, выкинет штучку, оцарапает, кувыркнется [1; 490].
Мария Иосифовна Белкина (1912–2008), писательница, мемуаристка, автор биографического исследования «Скрещение судеб» (о Цветаевой и ее семье):
— Мать чаще всего запоминалась в профиль, — говорила Аля.
Но запоминался и анфас, только анфас был расплывчатым, и лица было как бы больше, чем надо. Профиль — чеканный, острый, подобранный. И если профиль мог говорить о каких-то польских или немецких ее предках, то анфас был всецело от русской ее бабки-попадьи. Разве только глаза, очень северные, может, еще к самим викингам восходящие… Но, оговорюсь, это сугубо мое личное восприятие. Я встретила Марину Ивановну в 1940 году. <…> Волосы коротко стрижены, не седые еще полностью, но утратившие уже свою первоначальную окраску, «светлошерстая», как она сама о себе говорила, а дочери писала: «С вербочкою светлошерстой светлошерстая сама…»
Челки не было, очень редко опускала прядь на лоб, а так — подбирала на правую сторону маленькой заколкой-гребешком. Раньше волосы носила прямые, а тут перманент, что ли, был сделан неудачно, или сами потончали с возрастом, стали завиваться, что очень ее простило, делало еще больше как все, ибо все тогда ходили стриженные с сожженными плохим перманентом, только входившим в моду, волосами, лицо было утомленное, неухоженное, в сухих мелких морщинках. Серо-землистое — «…тот цвет — нецвет — лица, с которым мало вероятия, что уже когда-нибудь расстанусь — до последнего нецвета…» [4; 28,31–32]
Галина Георгиевна Алперс (1901–1994), преподавательница иностранных языков:
(Июль 1941 г. — Соcт.). Хорошо помню ее невысокую фигуру, очень скромно, но корректно одетую в «платье иностранного покроя», как писали в старину, в берете на темных с сильной проседью волосах, всю в коричневых тонах. На руке у нее висела большая коричневая сумка. И сама она казалась коричневой: очень смуглое темное лицо и сухие узловатые, смуглые, нервные руки. Руки говорили о тяжелом постоянном физическом труде. Она носила очки с толстыми сильными стеклами [4; 207].
Зинаида Петровна Кульманова, в 1930–1940-е гг. редактор в Гослитиздате:
(В 1940-е гг. — Сост). Она выглядела старше своих лет, поседевшая, вечно в полинявшем платье (или юбке с кофтой, тоже вылинявшими), в берете (синем или коричневом). На лице — нездоровая желтизна. Весь внешний вид Марины Ивановны характеризовался каким-то страданием, внутренней болью. Было впечатление, что ее внутри что-то жжет. Ее облик излучал боль, боль за близких ей людей [1;495l.
Характер
Павел Григорьевич Антокольский (1896–1978), поэт, драматург, актер и режиссер студии, а затем театра Е. Вахтангова, мемуарист:
Все ее существо горит поэтическим огнем, и он дает знать о себе в первый же час знакомства [1; 86].
Константин Болеславович Родзевич (1895–1988), участник гражданской войны; окончил в Праге юридический факультет Карлова университета. С 1926 г жил во Франции. Герой «Поэмы Горы» и «Поэмы Конца». В записи В. Лосской:
В Марине была жажда жизни, стихийная любовь к природе, она вся была стихийная. Она была полна любви к жизни, и в то же время ее неустройство и невозможность найти полноту в этой жизни иногда звучали пессимистическим отказом от жизни. Но радость жизни не была отвлеченной… [5; 88]
Елизавета Павловна Кривошапкина:
Мне кажется, Марина увлеченно интересовалась всем, а то, что любила, любила горячо. Все было интересно, все было материалом для ее искусства. Себя и свою жизнь она любила наравне с людьми, природой, потому что она и ее жизнь были самым захватывающим материалом для стихов. Она была художником [1; 76].
Ариадна Сергеевна Эфрон:
Цельность ее характера, целостность ее человеческой личности была замешена на противоречиях; ей была присуща двоякость (но отнюдь не двойственность) восприятия и самовыражения; чувств (из жарчайшей глубины души) и — взгляда на (чувства же, людей, события), взгляда до такой степени со стороны, что — как бы с иной планеты. Поразительная памятливость была в ней равна способности к забвению; детская изменчивость равнялась высокой верности, замкнутость — доверчивости, распахнутости; в радость каждой встречи сама закладывала зерно разлуки; и в золе каждой разлуки готова была раздуть уголек для нового костра. Такое бескорыстие в любви — и такая ревность к пеплу сгоревшего… Такое «диссонирующее» равновесие бездн и вершин, такое взаимопритяжение миров и антимиров в ее внутренней вселенной…
И еще: способность постигать сегодняшний день главным образом через и сквозь прошедший (день, век, тысячелетие), всем болевым опытом былого поверяя гадательное грядущее… [1; 239]
Надежда Яковлевна Мандельштам (1899–1980), мемуаристка, жена О. Э. Мандельштама:
Марина Цветаева произвела на меня впечатление абсолютной естественности и сногсшибательного своенравия. <…> Она была с норовом, но это не только свойство характера, а еще жизненная установка [1; 140–141].
Мария Иосифовна Белкина:
Аля говорила, что мать сама себя сделала смолоду, что со свойственной ее натуре решимостью и энергией она начала созидать себя заново, наперекор природе. Она мало ела, изнуряла себя ходьбой. Стремилась придать некую аскетичность своему облику. Стриглась особо, закрывая щеки волосами. Курила запоем, папироса стала неотъемлемым штрихом ее портрета. Очки выбросила. Последний снимок в пенсне относится, должно быть, к двенадцатому году, точная дата на фотографии не указана. Заставляла себя не сутулиться, держаться прямо и не пытаться разглядеть то, что при своей близорукости увидеть не могла [4; 29].
Ариадна Сергеевна Эфрон:
Была действенно добра и щедра: спешила помочь, выручить, спасти — хотя бы подставить плечо; делилась последним, наинасущнейшим, ибо лишним не обладала [1; 144].
Марина Ивановна Цветаева:
Даю я, как все делаю, из какого-то душевного авантюризма — ради улыбки — своей и чужой [12; 42].
Ариадна Сергеевна Эфрон:
Умея давать, умела и брать, не чинясь; долго верила в «круговую поруку добра», в великую, неистребимую человеческую взаимопомощь [1; 144].
Марина Ивановна Цветаева:
Я могу брать только у того кто дает безлично, как решето пропускает воду. Всякий дар лично мне — низвергает (т. е. повергает) меня в прах. (Благодарность.) [11:330]
Ариадна Сергеевна Эфрон:
Беспомощна не была никогда, но всегда — беззащитна.
Снисходительная к чужим, с близких — друзей, детей — требовала как с самой себя: непомерно [1; 144].
Эмилий Львович Миндлин (1900–1981), писатель, мемуарист:
Все свое готова другим отдать. Отнять от себя для нее значило приобрести, обрести, умножить свое богатство. С одним, с последним своим не расстанется до последнего вздоха — с правом на одиночество, единственным своим правом — оставаться наедине с собой, судить не других — себя. К другим была терпимее, чем к себе. Спрос с себя куда строже, чем спрос с другого. Уж на что редкостно свойство ее души — понимать человеческие слабости других! Даже о людях, ей досаждавших, враждебных ей, ни о ком не говорила со злобой. Несла себя по кочковатой дороге жизни, не расплескивая, не растрачивая себя на злобу, на осуждение неправых [1; 116].
Марк Львович Слоним (1894–1976), писатель, литературный критик, редактор журнала «Воля России»:
Она, в сущности, была однолюбом и, несмотря на увлечения и измены, по-настоящему любила одного лишь Сергея Эфрона, ее мужа. <…> А с другими людьми все неизменно рушилось: слишком она была требовательна, слишком «швырялась» друзьями, если они ей чем-либо не угождали, и то возводила монументы, то разбивала их в прах. А некоторых своих знакомых, готовых для нее на все, как-то не замечала — и, быть может, того сама не зная, унижала и отпугивала — холодом и презрительным равнодушием. Но и тех, кто все от нее сносил, она не признавала подлинными друзьями [1; 325].
Наталия Викторовна Резникова (урожд. Чернова; 1903–1992), дочь О. Е. Колбасиной-Черновой от первого брака с художником М. С. Федоровым:
Известно, как она «швырялась людьми» — ее переписка полна задевающими друзей замечаниями. За самоотверженную помощь платила иронической критикой, насмешкой. Но делала она это как бы шаля. И сама называла такие слова поступки «из гнусности», как будто бы действовала не она, а кто-то другой, а она глядела со стороны.
Этими словами она разрешала себе то, чего она иначе не сделала бы. Но словами «Я это сделала из гнусности» все превращала в шалость. Но все это было несерьезно, и я это подчеркиваю <…>, — зла в ее природе не было. Может быть, только игра в зло [1; 382–383].
Майя (Мария) Павловна Кудашева-Роллан (1895–1985), поэтесса, переводчица, жена Р. Романа. В записи В. Лосской:
Она мне рассказывала, что в детстве, в Германии, в одном очень приличном доме она делала пи-пи в пальму, чтобы пальма умерла. Так она выражала свой протест против хозяйки этого дома и ее благоустроенного мещанского быта [5; 38].
Ольга Елисеевна Колбасина-Чернова (1886–1964), писательница, журналистка, жена одного из основателей партии эсеров, министра земледелия Временного правительства, председателя Учредительного собрания В. М. Чернова. В доме Черновых М. И. Цветаева жила первые месяцы своего пребывания в Париже:
Марина не выносила атмосферы благополучия, ее стихией была трагедия — героизма, жертвенности, бедности и гордыни, непревзойденной Марининой гордыни: Я есмь — и я иду наперекор [1; 298].
Григорий Исаакович Альтшуллер (1895–1983), доктор медицины, мемуарист:
Мне запомнился эпизод, который показывает ее резко независимый характер. Однажды жарким летним вечером мы ужинали с группой молодых друзей. Сидевшие за столом дамы сняли туфли, Марина тоже. Под стол забралась маленькая девочка и стала менять местами обувь. Приблизившись к Марине, она поползла дальше, не тронув ее туфель. Когда мы встали из-за стола, то были и смущение, и улыбки, и сердитые замечания. Только Цветаева оставалась сидеть спокойной и невозмутимой. Все посмотрели на нее, и кто-то спросил: «Марина, почему она не переставила ваши туфли?» — «Все очень просто, — ответила Цветаева, показав булавку. — Когда она подползла ко мне в первый раз, я уколола ее булавкой в ногу. Она не сказала ни слова и только посмотрела на меня, а я — на нее, и она поняла, что я могу уколоть еще раз. Больше она не трогала моих туфель». В этом была Марина! [3; 60–61]
Вадим Леонидович Андреев:
Самой большой ее страстью, смертный грех, который владел ею вполне, — была гордость, несокрушимая гордыня. Любимое слово — самоутверждение. И всегда, все — в превосходной степени [3; 173].
Ариадна Сергеевна Эфрон:
При всей своей скромности знала себе цену [1; 146].
Екатерина Николаевна Рейтлингер-Кист (1901–1989), приятельница М. И. Цветаевой, постоянно, с первых дней ее пребывания в Чехии, сопровождала Цветаеву в Праге; в то время студентка строительно-архитектурного отделения Пражского политехнического института:
Редкое сочетание несмелости (почти робости) с необычайной гордостью. Я не могла себе представить, чтобы она возмутилась или рассердилась «по-человечески». Чем больше накал несогласия, тем более вкрадчивое выражение и… убийственный отпор тому, что ей «не по духу», а не по духу ей было почти все в то время [1; 287].
Франтишек Кубка:
Ее манеры отличались женственной гордостью. Но надменности в ней не было, хоть она и знала, кто она такая: большой поэт [1; 353].
Марина Ивановна Цветаева. Из письма В. Н. Буниной. Кламар, 20 ноября 1933 г.:
Честолюбия? Не «мало», а никакого. Пустое место, нет, — все места заполнены иным. Всё льстит моему сердцу, ничто — моему самолюбию. Да, по-моему, честолюбия и нет: есть властолюбие (Наполеон), а, еще выше, le divin orgueil[3] (мое слово — и мое чувство), т. е. окончательное уединение, упокоение.
И вот, замечаю, что ненавижу всё, что — любие: самолюбие, честолюбие, властолюбие, сластолюбие, человеколюбие — всякое по-иному, но всё — равно. Люблю любовь, Вера, а не любие. (Даже боголюбия не выношу: сразу религиозно-философские собрания, где всё, что угодно, кроме Бога и любви.) [9; 261–262]
Ольга Елисеевна Колбасина-Чернова:
Ее противоречия в оценке искусства вытекают из ее отношения к злу, она явно к нему влечется, но Зла в ней нет. Она способна злиться — и еще как! — способна быть несправедливой, но зла как такового в ее природе нет. Не оно прельщает ее. Она часто говорит о своем детстве. Ей читали басни, которые она толковала по-своему. Она соглашалась с матерью, что ягненок кроткий, невинный страдалец. «Но и волк хороший», — прибавляет она к негодованию матери. Волк ей нравится потому, что он страшен и ест глупого ягненка.
Зла в ней не было, но ей было необходимо его присутствие. Марина любила, и как-то смаковала даже, — с азартом и вызовом рассказывать мне сказки, собранные Афанасьевым, — страшные, потусторонние, бездушной жестокости. Мать ненавидит свою дочь и вредит ей. Приходит с того света разрушить покой и жизнь дочери. Таковы упыри, обреченные на преступление. Зло обольщает, зло дает равновесие [1; 297].
Татьяна Николаевна Астапова:
Она могла, если захочет, как магнит притягивать к себе людей и, думается, легко могла и оттолкнуть [1:50].
Ариадна Сергеевна Эфрон:
Общительная, гостеприимная, охотно завязывала знакомства, менее охотно развязывала их. Обществу «правильных людей» предпочитала окружение тех, кого принято считать чудаками. Да и сама слыла чудачкой.
В дружбе и во вражде была всегда пристрастна и не всегда последовательна. Заповедь «не сотвори себе кумира» нарушала постоянно.
Считалась с юностью, чтила старость [1; 145].
Наталия Викторовна Резникова:
Не надо забывать о ее романтическом культе героев. <…> При ее пренебрежении к смиренной прозаической человеческой жизни, быту, как она говорила, Марина Ивановна всегда готова была стать на сторону обездоленных — и в творчестве, и в жизни.
Марина Цветаева была благородной и всегда была на стороне побежденных, а не победителей [1; 383].
Марк Львович Слоним:
Еще одна черта, ее знали все друзья МИ. Она себя называла «защитником потерянных дел» и настаивала, что поэт всегда должен быть с побежденными. Истинного вождя она отождествляла с Дон Кихотом («Конь — хром, Меч — ржав, Плащ — стар, Стан — прям»). Отсюда ее гимны белому движению после его разгрома и большая (очевидно, погибшая) поэма о гибели царской семьи — несмотря на то, что никаких подлинно монархических идей у нее не было, как и вообще не было политических верований [1; 321].
Елена Александровна Извольская (1897–1975), литератор, переводчица:
Она мало кого ненавидела, никому не завидовала, перед поэтическим или художественным талантом других — преклонялась. Любила также обыкновенных, простых людей [1; 402].
Ариадна Сергеевна Эфрон:
К людям труда относилась — неизменно — с глубоким уважением собрата; праздность, паразитизм, потребительство были органически противны ей, равно как расхлябанность, лень и пустозвонство [1; 146].
Зинаида Алексеевна Шаховская (1906–2001), писательница, поэтесса, журналистка:
Марина Цветаева была вольнолюбица и по существу демократка. Помню, в Брюсселе, идя с ней в зал, где было ее выступление, мы столкнулись с двумя рабочими, несшими какие-то ящики, и сейчас же, сторонясь и отстраняя меня, уступая дорогу, Марина Цветаева громко, несколько нарочито-программно сказала: «Дорогу труду!» Но несмотря на народность свою, а может быть именно из-за нее, Марина Цветаева никогда не попыталась лягнуть демократическим копытом поверженных мира сего, на падших не наступала — уважая их несчастье и то, что в истории с ними связано, пример этому — ее статья «Открытие музея» [1; 427].
Ариадна Сергеевна Эфрон:
Была человеком слова, человеком действия, человеком долга [1; 146].
Зинаида Алексеевна Шаховская:
О чем бы она ни писала, ко всему относилась серьезно, юмора не знала, собственно, и я не помню, чтобы я когда-нибудь смеялась вместе с нею [1; 427].
Марина Ивановна Цветаева. Из письма А. А. Тесковой. Париж, Ванв, 20 января 1936 г.:
Мне хорошо только со старыми людьми — и вещами. Из молодости люблю только молодую листву и траву. Сейчас — культ молодости. В мое время молодость себя стеснялась. Сейчас: «мне 20 лет — кланяйся в ноги!»
А я не кланяюсь — п. ч. это — кумир. На глиняных ногах, п. ч. завтра 20-летнему будет сорок лет, как мне — вчера — было двадцать.
Хвастаться титулом — хвастаться состоянием — хвастаться молодостью. Но первое и второе хоть — если не твоя — то чужая заслуга! — Хоть чей-то — труд. Там — кичиться чужим титулом, здесь — обыкновенным ходом вещей, вне человека лежащим, то же самое, что гордиться — солнечным днем. Помимо всего — мне с молодыми скучно — п. ч. им с собой скучно: оттого непрерывно и развлекаются… [8; 432]
Надежда Даниловна Городецкая (1903–1985), прозаик, профессор литературы, в 1930-е годы сотрудник парижской газеты «Возрождение». Из интервью с М. И. Цветаевой:
— Я действительно не выношу развлечений, — говорит М. И., пряча папиросы в сумочку. — Такая на меня бешеная скука нападает. Думаю: сколько бы дома можно сделать — и написать, и стирать, и штопать. Не то что я такая хорошая хозяйка, а просто у меня руки рабочие. Увлечься, вовлечься — да. «Развлечься» — нет [1; 407].
Ариадна Сергеевна Эфрон: