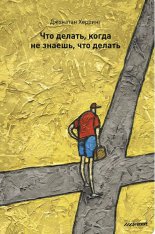Сияние Мадзантини Маргарет

– Еще какая!
Прошла зима, последняя школьная зима. Моя собака сбежала – домработница оставила дверь открытой. Я отчаянно искал ее повсюду несколько дней, но потом сдался. Я боялся, что она погибла. Я-то знал, что мальчишки из соседних дворов обожают мучить животных. Однажды я видел, как сын механика тащил завязанный пакет, наполненный водой, в котором отчаянно барахтался обреченный кот.
Мы бросали на дорогу пакеты с водой, забрасывали прохожих яйцами. В честь начала каникул ребята устроили вечеринку в гараже. Не знаю отчего, но мне было грустно. Теперь я осознавал, что я из тех, на кого не действуют законы физики, – такие люди легко парят в воздухе, игнорируя силу притяжения, ничто не в силах удержать их на земле. Они выдергивают шнур из розетки, и через секунду все кончено. Пока я стоял в метро и ждал поезда, я вдруг испугался, что брошусь под колеса, и отскочил от края платформы. Я чувствовал, что хожу по краю. Так ведет себя пес, сбитый с толку множеством запахов, когда уже не знает, где еще ему задрать лапу, только бы заглушить след чужого присутствия на своей территории. Я помылся, надел лучшее, что у меня было: красную футболку и выбеленную замшевую куртку. Я так напился, что скоро уже чувствовал себя скользкой змеей. Полчаса я колбасился под рок, мне нравилось танцевать без пары, придумывать новые движения. Опьяневший, оглохший, я устроил настоящий спектакль. На несколько секунд я выхватывал из толпы какую-нибудь девицу, кружил ее и тут же отпускал. Мн нравилось разыгрывать этот спектакль: я в главной роли – и я же зритель. Все остальные значили для меня не больше, чем отражение в зеркале.
Костантино в тот вечер выглядел стариком. На нем был блейзер в стиле Пеппино Ди Капри. Пару раз он промелькнул передо мной – потоптался с какой-то девицей под скучный медляк. Хотя он едва шевелился, чувство ритма у него присутствовало: он медленно переносил вес с одной ноги на другую и двигал в такт ягодицами. Потом он курил, шутил с ребятами.
– Дашь закурить?
Я присел рядом и закурил. Я был весь потный, глаза остекленели, упился в стельку. Стараясь избавиться от ощущения, что челюсти свело, я то открывал, то закрывал рот.
Мимо прошла Дельфина. Она взъерошила мне волосы, обхватила мою голову и, притянув к себе, поцеловала:
– Эй, ты как?
– Кошмар.
Она уселась мне на колени, взяла мой стакан. Она мне даже нравилась. Отчаяние и добросердечие, которые читались на ее лице, задевали за живое. Я видел, как она танцует, как тянет вверх голые, точно зимние ветви, руки. Я погладил ее по плечу. Рука скользнула под бретельку лифчика, и вот уже я покрывал поцелуями белоснежную кожу с голубоватыми венками.
Костантино словно бы ничего не заметил. Погруженный в раздумья, он сидел, уставившись в стакан. Кто знает, быть может, он был уже при смерти, точно огромная рыба, выброшенная волнами на переполненный купальщиками пляж. Из тех, что сбились с пути, засмотревшись на морские анемоны, и подошли слишком близко к берегу, влекомые вспышками света, а когда захотели вернуться назад, было уже слишком поздно. Их поглотила тишина и темнота, а вокруг отдавалось лишь эхо далеких и незнакомых звуков.
У Костантино подрагивала нога, а он не обращал на это внимания. Она была совсем рядом с моей. Такое с ним часто случалось, даже на уроке, это пугало и раздражало.
Я резко отпустил бретельку, хоть и понимал, что сделаю девушке больно. Она дернулась, по коже пробежала дрожь. Ей нравилась эта игра, хождение по краю ласки и боли. Она открыла рот и нацелилась на мое ухо, но мне совсем не понравилась мысль, что меня собираются укусить за самое больное место. Я сжал ее узкую талию, провел пальцем по позвоночнику, откинул с плеча волосы, коснулся языком родинки на плече. Кто знает, что думали те, кто смотрел на нас в эти мгновения, – наверное, воображали, что между нами вспыхнет бурное чувство. Но в том-то и дело, что мне нравилось лишь возбуждать партнершу, зайти дальше я не был готов. Нога Костантино выбивала бешеный ритм, – казалось, он и его нога существуют совершенно отдельно друг от друга.
Я скинул Дельфину с коленей, хлопнул ее по заду, взял бокал, кинул ему: «Еще увидимся», встал и бросился в самую чащу тел.
Костантино смотрел на это сплетение тел и жестов так, будто бы он был бесконечно далек от того, что происходит вокруг. Ни дать ни взять рыба, которая видит перед собой ночной пляж и далекие огни и слишком поздно понимает, что моря больше нет, что слой воды под брюхом слишком тонок.
Я смотрел на его ногу, которая дергалась в ритме танца, выдавая его чувства, его детские страхи. Я протянул руку, положил ему на колено и с силой сжал:
– Прекрати!
Я сжимал пальцы все сильнее, чувствуя под ладонью его напряженные мышцы.
– Стоп, хватит!
Я ощутил, как его мышцы постепенно расслабились под моей рукой, точно круп прирученной лошади. Я провел рукой по его ноге, чуть касаясь пальцами. Вздохнул, как будто хотел что-то сказать, но забыл, что именно.
Мне хотелось крикнуть: «Да что там! Вот увидишь, все будет у нас хорошо. Мы станем мужчинами, мы будем уверенными и сильными, похожими на своих предков: я буду похож на отца, ты – на своих родных, и страдания больше не будет. Жизнь разведет нас, и, когда мы случайно встретимся, мы ударим друг друга по плечу, точно двоюродные братья, и спросим: «Ну как дела, дружище? Видишь, у меня все наладилось, я в порядке, я не покончил с собой».
Костантино положил свою руку на мою.
Мы немного посидели, глядя в никуда, – расплывчатый черно-белый снимок из давних времен. По телику показывали регби. Мы краем глаза следили за игрой. Все мое тело стало рукою.
Я отбросил волосы назад – этот жест всегда нравился девчонкам. Потом заправил прядку за ухо, зная, что через секунду она снова окажется на прежнем месте. Мы пристально всматривались в окружающий мир внимательными, глубоко посаженными глазами – глазами собаки.
– Бедняги, – сказал он.
– Кто?
– Все эти.
Он засмеялся и кивнул в сторону ребят. Потом погладил мою руку и сжал ее:
– Послушай, Гвидо…
Мое дурацкое имя, сорвавшееся с его губ, показалось мне звучным и красивым.
– Знаешь, ты мне нравишься…
Внутри у меня все горело, на меня накатило счастье. Но я молчал, выжидал, надеялся, что мысли немного прояснятся. Его рука вспотела, я это чувствовал. Он чего-то ждал, но я молчал. Он повернулся ко мне и посмотрел мне прямо в глаза, его лицо было слишком близко.
– Давай выйдем на минутку.
– И куда пойдем?
– Куда скажешь.
Я посмотрел на него. В его взгляде было что-то новое, глаза горели и словно молили о чем-то. Казалось, он сдался: обезоруженный, беззащитный, он стоял передо мной. Я испугался.
– Послушай, я не из таких, – сказал я.
Он улыбнулся, губы его увлажнились, глаза горели.
– Таких – каких?
Мимо нас прошел Робертино, я поймал на себе его двусмысленный взгляд. Я кивнул в сторону худой, подергивающейся под музыку задницы. Он был такой отвратительный, мерзкий.
– Таких, как этот.
А что еще мне было делать? После той ночи я ни о чем другом и думать не мог. Постоянно представлял себе навалившихся друг на друга парней. И вспоминал того голого мужика на пляже, который манил меня к себе.
Я резко отодвинулся и обхватил руками колени. Я слышал, как Костантино пытается сдержать икоту. Я обвился плющом вокруг собственного тела, переплетя пальцы, точно не знал, что делать с руками.
Год назад он мне подрочил, и я тогда кончил, а он проявил такую прыть, точно был заправской шлюхой. И я позволил ему это сделать. Я лежал с закрытыми глазами и позволял руке, которой он сотни раз заботливо поправлял на моих глазах черную велосипедную цепь, хозяйничать в моих штанах. Я не мог об этом не думать. Каждый раз, когда я трогал свой член, каждый раз, хотя я изо всех сил старался остановить это воспоминание… оно возвращалось снова и снова. За этот год я действительно его возненавидел, и моя ненависть обрела четкие формы. Порой случается, что слова, которые мы прокручиваем в голове, вырываются наружу и принимают ясные очертания.
– Слушай, я не гей, – произнес я.
Наконец-то я сказал это слово. Глаза Костантино ничего не выражали, но затем на дне зрачков мелькнула вспышка, отголосок какого-то безумия. Я почувствовал, как во мне разливается волна жестокой радости. Я ждал этого взгляда. Я и представить себе не мог, насколько мы с ним похожи; этот взгляд объединил нас. Не я ли все эти месяцы боялся сойти с ума? Костантино смотрел на меня так же, как на парня в бассейне, которого он боднул головой в живот и скинул в воду. Его раздуло от бешенства и злости. Я приготовился к удару. Весь год я мечтал с ним подраться.
Он быстро поднял кулак и по очереди потер глаза, пытаясь остановить набежавшие слезы. Я увидел лицо самоубийцы, своего двойника. Я уловил на его лице отпечаток смерти.
Однажды мы видели, как из реки выловили мертвеца. Мы долго стояли на берегу, вокруг толпился народ, останавливались машины, люди выходили поглазеть, вокруг надувных лодок речной полиции образовалась толпа. Полицейские поднимали труп из реки так, словно поймали огромную рыбу. Мы могли разглядеть голые ноги, голубовато-мраморный живот, объеденное рыбами лицо.
Возможно, глядя на меня, Костантино вспомнил о том мертвеце.
– Мне нравятся девушки, – сказал я.
Мог ли я тогда представить, сколько всего таилось во мне…
– Знаю.
Да что он мог обо мне знать, когда я сам о себе ничего не знал! Ничегошеньки! Он был бесконечно далек от меня, в его лице сквозило одиночество: печальный, выловленный из реки труп. Он безмолвно плыл по течению. Я тронул его за плечо. Он не пошевелился. Он был уничтожен, подавлен. Жаль, что нельзя повернуть время вспять, что нельзя снова почувствовать его горячую руку в моей. Почему я не пошел с ним, как он просил? Что бы такого случилось? Неужели было бы хуже, чем теперь? Я глубоко вздохнул и ощутил каждую частичку своего тела. Я почувствовал, как от меня оторвалось нечто важное, без чего невозможно жить дальше. Костантино закурил и улыбнулся:
– Мне тоже нравятся девушки, коли так.
На уроках он вел себя как прежде: отстраненно, вежливо; если у нас и возникал какой разговор, то только по пустякам. У него на губе выскочил герпес – огромный страшный цветок. Он заклеивал его пластырем. Должно быть, ему было больно – иногда я видел, как его рот словно перекашивало от крика. Он с трудом его сдерживал. Еще у него появилась новая манера вздыхать, от который он не избавился до конца жизни: казалось, что у него медленно сводит челюсти и ему тяжело дышать. Мне хотелось извиниться, но он словно и думать забыл о том разговоре. Он больше не оборачивался, не смотрел на меня. Когда меня вызывали к доске, он даже не поднимал головы и продолжал что-то корябать в своем дневнике.
Учеба подходила к концу: пронеслись пять прокуренных, заезженных лет. На улице стояла жуткая жара, все ходили в майках, футболках.
Теперь все говорили только об экзаменах, о том, что предстояло сдавать. Ребята писали дипломы и сбивались в стайки, чтобы вместе готовиться. Некоторые вели себя так, словно уже поступили в университет. Одним словом, мы были готовы расстаться. Кончилось время битых стекол, пророщенных во влажной марле семян, прошли времена, когда мы пели на мессах и бегали до бассейна под проливным дождем, прятали руку, запущенную в штаны, под партой, потели в спортивной форме. Когда-нибудь мы скажем: «О молодость, молодость, чудесное было время!» Через месяц каждый из нас пойдет своей дорогой.
Дядя пытался настроить меня на будущую профессию: «Если кто-то осмелится притащить мне подделку, клянусь, что этой самой картиной я проломлю ему голову! А если подделка окажется хороша и я не смогу ее опознать… Тогда не важно! Тогда плевать, что это подделка! Тогда я готов подтвердить, что это истинный Вермеер!»
Я сидел на террасе неподалеку от дяди и смотрел на летнее розовеющее вечернее небо, в котором носились безумные птицы. Он что, намекает, что мне стоит заняться подделкой живописи?
– В нашем мире нет ничего настоящего, Гвидо. Ничего нового не придумаешь. Бери от чужой жизни лучшее и воплощай в своей.
– И ты распишешься, что это оригинал?
– Само собой. Но моя подпись окажется подделкой.
– И никаких угрызений совести?
– Разумеется, нет.
Он рассмеялся резким, циничным смехом – его ум был таким же, как смех: острым и циничным. Казалось, смех дяди Дзено раздавался из пустого колодца.
– Видишь вон тех птиц? Они тоже не настоящие. Вокруг нас – сплошной обман.
У Костантино появилась постоянная девушка. Некая Розанна. Она возникла точно из ниоткуда. Они познакомились, пока мы готовились к экзаменам, она была из другого района. Не уродка, но и не красавица. И уж точно не похожа на парня: пышные формы, томный взгляд – когда такая девушка идет по улице, она ступает медленно, точно ее придавливает к земле какая-то невидимая загадочная ноша. Костантино поджидал ее у подъезда, нажимал кнопку автоматического освещения, и они вместе спускались в его каморку. Туда, откуда доносились звуки телевизора и воркование голубей, устраивавшихся на ночь за оконной решеткой.
Она сразу стала своей в семье консьержей. Здоровалась с матерью Костантино, пробовала ужин, шутила с сестрой, целовала в щеку будущего свекра, и все это с таким видом, как будто свадьба – дело решенное. Жеманничала и крутила молодыми пышными бедрами. Она любила провоцировать – молодым женщинам всегда нравится кокетничать с пожилым свекром, которому они рано или поздно начнут колоть лекарства. Настанет день, когда Розанна все возьмет в свои руки. Эта семья станет без нее немыслима, они не смогут обходиться без ее навязчивой заботы. Так будет, хотя она едва переступила порог их дома. Ей нравилась мысль, что старики должны уступать место молодым, что мир остается прежним и старые простыни, покрытые птом умирающих стариков, можно отстирать, чтобы они еще послужили молодым любовникам. Так было всегда, и эта девушка спокойно принимала жизнь такой, какая она есть. Когда в выходные они с Костантино гуляли в центре, Розанна пользовалась любыми предлогами, чтобы помедлить у витрин мебельных магазинов. Костантино ждал и тоже невольно смотрел на витрину. Ей было не важно, что, едва их чувства окрепнут, она заполнит чужой дом ненужным хламом и вскоре ее собственная жизнь окажется такой же ненужной, как и все остальное. Они с Костантино вместе всего несколько дней, но семья уже ее полюбила. Розанна жила в пригороде, неподалеку от Тусколаны, ее мать работала медсестрой в больнице Святого Духа. Она курила и при этом умудрялась одновременно жевать жвачку. Они познакомились в больничном дворе, когда Костантино навещал отца (тому сделали небольшую операцию на почках), а Розанна пила кофе из пластикового стаканчика, поджидая, когда у матери закончится смена. Теперь она у него как дома. Все сидят за столом и едят, на старой выцветшей скатерти расставлены тарелки. Вместе. Потом садятся перед телевизором и смотрят сериалы. Отец выкуривает последнюю сигарету, сестра переодевается в пижаму и бродит по дому в тапочках с кошачьими мордами. Розанна кладет голову на плечо своему парню и поглядывает на него оценивающим взглядом: тело, джинсы, руки, волосы, темнеющие в вырезе футболки. Она им гордится.
Однажды вечером я увидел, как они целовались. Она придерживала руками его голову, и в этом было что-то требовательное, насильственное. Она точно впивалась в его рот. Я почувствовал отвращение. Мне показалось, что они специально меня поджидали.
Костантино заметил меня и представил нас. Она слабо сжала мою руку – так смотрит ягненок, замысливший слопать волка. Точнее, он его уже слопал, и теперь волчья туша переваривается в желудке под белой пушистой шерсткой.
– А, так ты и есть знаменитый Гвидо!
Костантино улыбнулся, он снова стал прежним: кротким и безмятежным, как будто между нами никогда ничего не было. Просто подурачились, потусовались, а теперь, когда у него появилась женщина, он распрощался со всеми мужскими радостями, остепенился. Розанна обняла его за талию, а он посмотрел на нее довольным и в то же время небрежным взглядом. Так, словно хотел убежать. Он похорошел: плечи расправились, обозначилась талия. Я в шутку ударил его в плечо:
– Что ты там наговорил обо мне?
Я еще раз толкнул его, и мы оба согнулись от взрыва беззаботного смеха. Розанна тоже засмеялась, откинула волосы. Я посмотрел на нее, отпустил несколько комплиментов и одарил ее самой привлекательной из своих улыбок. Мне хотелось произвести впечатление. Казалось, дело выгорело. Я должен был показать ей, кто здесь главный. Ведь мы – старые друзья, а она – конфетный фантик, который сегодня есть, а завтра нет, так что пусть знает свое место.
Розанна показалась мне порядочной стервой. Она стояла совсем рядом, но смотрела на меня точно издалека, оценивала. Я откинул за ухо свой фирменный завиток.
– Ты ухо проколол?
Костантино протянул было руку к моему уху, но потом опустил ее, а я утвердительно кивнул.
– Круто.
Розанна презрительно фыркнула:
– А мне не нравится, когда парень прокалывает уши.
C тех самых пор между нами возникло взаимное недоверие, которое со временем только усиливалось. Теперь она не стеснялась нести при мне всякую чушь, откидывать волосы, звенеть браслетами и вертеть своей грузной задницей.
– Ты ее трахаешь?
Я спросил это ни с того ни с сего. Мы спускались по лестнице, я приобнял его за плечо. Он улыбнулся и покачал головой:
– Ладно, кончай это.
– Что, не дает пока? – Я похлопал его по бритой козлиной макушке. – Так чем вы там занимаетесь? Сосет у тебя, что ли? Или зажимает между сиськами?
– Заткнись!
Он разозлился.
– Да адно, я пошутил.
Но потом я еще раз заговорил об этом при всех, когда мы торчали у каменной ограды:
– Внимание, парни, слушай сюда!
Посыпались сочувственные похлопывания по плечу, пошлые шутки, в честь влюбленного Костантино хор голосов затянул песню Ивана Грациани: «Ты такая шлюха – хуже не бывает. При виде тебя дружка раздувает…»
За экзамены я получил низший проходной бал: шестьдесят из ста. Слава богу, отделался. Я решил ничего не устраивать. Мне просто хотелось сидеть в одиночестве на террасе, пить пиво, курить и смотреть на грязные звезды. Девушки ко мне так и липли, я подвозил на скутере то одну, то другую. Теперь я знал, что нужно делать, чтобы девушка потеряла голову. Они разбивались об меня, как мотыльки о стекло автомобиля, пялились, как сторож маяка на темные воды. Принюхивались к моим рукам. Должно быть, от меня исходил запах их счастья. Иногда я и сам воображал, что влюбился. Но я понимал, что я не такой, как все, – слишком уж холоден, слишком задумчив. Я смотрел на то, что делаю, словно через толстое стекло. И видел, что могу пройти по подвешенному над бездной канату, так что ни одна нормальная женщина не последует за мной.
И зачем только я связался с Элеонорой? Я и думать о ней не думал, для меня она была призраком из подвала, и только. Мне было неприятно от мысли, что у Костантино есть сестра, что, когда на улице льет дождь, они сидят в будке консьержа и режутся в карты.
За последние годы она похорошела, вытянулась: узкая талия, пышная грудь. Я заметил ее у барной стойки неподалеку от дома: она сидела в вонючей забегаловке, куда я изредка заскакивал купить молока. Она вела себя раскованно, точно была там частой гостьей, потягивала кофе и курила, взгромоздившись на металлический стул. Перед ней лежала книга в синей обложке. Я остановился, чтобы прочесть название.
– Знаешь его?
Выпендрежница. Сидит в сраной забегаловке, куда и солнце-то не заглядывает, ноги в тонких колготках покрылись мурашками, а строит из себя юную интеллектуалку в кофейне на Монмартре! Тут, где по тротуарам летает мусор и на стене надпись: «Здесь мы теряем время».
– Кофе будешь?
Почему бы и нет? К черту потерянное время. Я ставлю на столик пакет молока и заказываю сок. Она говорит, что ей нравится глава, когда Сиддхартха возвращается к старому паромщику и становится его учеником. Это предлог, чтобы поговорить о себе. Она совсем не похожа на брата, лицом скорее напоминает отца: плоский нос, впрочем довольно милый. Я думаю о Говинде, лучшем друге Сиддхартхи, который все бросил и последовал за ним, потому что любил его больше собственной жизни. Скромный и преданный, он готов был всю жизнь провести среди лесов, нищенствовать, питаться червями. Это из-за него я сижу теперь с Элеонорой, до которой мне и дела-то нет.
Я расплачиваюсь, беру свой пакет:
– Пока, увидимся.
Раньше мы почти никогда не встречались, а теперь я вижу ее каждый день. Совершенно ясно, что она поджидает меня специально, знает, когда я выхожу и когда возвращаюсь домой. Наконец я все-таки сдаюсь. Она ждет меня у лифта, на ней курточка из кожзама, лицо испуганное, волосы влажные, помертвелые. Сидит на ступеньке и курит.
– Привет.
– Ты меня напугал.
– С чего бы?
Элеонора бросает на меня умоляющий взгляд. Я выпускаю из рук шлем, делаю вид, что он упал случайно, и не успеваю нагнуться, как она уже повисает на мне. У нее бешеное сердце и странный характер. На мое лицо обрушивается град колючих поцелуев. От Элеоноры пахнет подмокшей мукой и чем-то возбуждающим. Она хватает меня за волосы, притягивает к пышной груди. Мне уже давно нравятся плоскогрудые девчонки. Я быстро выбиваюсь из сил. Ослабь она хватку, я бы выскользнул у нее из рук, словно мокрая рыба, но мы зажаты в темном углу, где кончается мраморная лестница. Ее разгоряченное тело кажется мне слишком крупным, она наваливается на меня: шумное дыхание, липкая кожа. И это его сестра. Мне до нее нет ни малейшего дела – пусть берет что хочет и оставит меня в покое. Я вспоминаю, что, когда мы были маленькими, ее часто оставляли во дворе с соседской малышней. Она строила карапузов в шеренгу и изображала из себя училку.
Я дернул ее за волосы, просунул язык меж приоткрытых губ, обнажил пышную грудь, погладил холодный живот. Почувствовав нежную кожу, я с трудом сообразил, что на ней чулки с подвязками. Девчонки в лицее такие не носили, и я впервые столкнулся с подвязками, впервые прикоснулся к оголенным бедрам. Элеонора была всего на три года старше меня, но я всегда видел в ней женщину. Я запутался в подвязках, они смущали меня, и за этим смущением скрывалась печаль и какая-то тайна. Мне стало грустно. Элеонора тяжело дышала, запрокинув голову:
– Иди ко мне, иди сюда!
Должно быть, Элеонора любила смотреть эротику, – без сомнения, она пыталась изобразить сцену из пошлого фильма. Я тоже любил кино, правда немного другое. Но я все же старался не ударить в грязь лицом, бросаясь в пламя ее жадных поцелуев. Мне хотелось закричать, рассмеяться, позвать кого-нибудь, чтобы можно было заценить со стороны всю нелепость этой сцены. Я был точно дырявый шланг в опытных женских руках. Мне казалось, что вот-вот придет Костантино, я представлял себе, как он возникнет из темноты, и эта мысль огорчала меня точно так же, как и чулки с подвязками. Скоро я думал уже только о нем: мысль струилась по телу, точно горячая лава, пока я пытался стянуть с Элеоноры трусики. Вдруг она неожиданно вскрикнула:
– Хватит, перестань!
Ее ноги напряглись, точно у эпилептика, но мне уже хотелось ее по-настоящему трахнуть. Ей удалось выскользнуть из-под меня. Извиваясь, как угорь, она вырвалась, прикрывая руками грудь:
– Ты что, сдурел совсем?
Элеонора креветкой попятилась назад, к выходу. Откашлявшись, она поправила волосы и бросила в мою сторону добродетельный дружеский взгляд. В ней не осталось ничего от похотливой сучки, какой она была всего несколько секунд назад, и уж точно не было ничего общего с девушкой, философствующей за барной стойкой. Так, должно быть, выглядит порноактриса сразу после съемок, когда приходит время привести себя в порядок. Элеонора зажгла сигарету. Вот теперь-то она стала настоящей апулийской девушкой, за плечами которой тысячелетия зажигательной тарантеллы.
«Ненавижу женщин, ненавижу притворство, – подумал я. – Если я когда-нибудь полюблю, надеюсь, моя женщина будет другой. У нее не будет ничего общего с такими девицами. Это будет инопланетная девушка с мальчишеской фигурой, прибывшая на Землю только для того, чтобы меня спасти».
– Ты знаешь, у меня еще не было секса, – сказала Элеонора.
Я иду навстречу своей судьбе. Сколько таких шагов еще впереди?
Каждый раз при мысли о пережитой в подъезде сцене я чувствовал отвращение и страх, вспоминал выражение наивного девичьего лица, нелепую фигуру, которой Элеонора пыталась соблазнить меня, потопив в море ужасных плотских помыслов. Да что мне до твоей девственности? Какое мне дело до этой страшной хлюпающей дыры, когда вся моя жизнь – сплошная пустыня, потрескавшаяся, выжженная глина вместо плодородной земли? Ничто так не пугает меня, как мысль о чьей-то девственности. Я вдруг совершенно четко это понял. При одной только мысли о том, что нужно пробиться сквозь эту отвратительную плеву, я становился импотентом. Я вспоминал Вольтера, думал о Кандиде: о его бессмысленных, осторожных рассуждениях. Думал о целомудренной хитрой девице, представлял, как по ее лицу текут слезы и капли дождя. Сцена из плохого романа.
В субботу мы вместе отправились в центр – гулять. Он с Розанной, я с Элеонорой. Нелепая четверка, смешнее не придумаешь. Мы пошли на площадь Навона, где стоял гам, где было полно пьяных туристов, уличных художников и игроков в карты. Быстро стемнело, девчонки нелепо шутили. В какой-то момент мне показалось, что все обойдется, – не так уж плохо, когда позади идут две девицы, готовые отдать за тебя жизнь.
Элеонора забрасывала меня записками, подстерегала повсюду. Она хотела подарить мне себя, старалась остаться со мной наедине. Я мог бы извлечь из этого определенную выгоду. Наглая, пропахшая бедностью, источавшая сексуальную агрессию – такие всегда нравились парням в кашемировых свитерах. Она позвонила в нашу дверь, потому что знала, что дома никого нет.
– Как у вас хорошо, я никогда сюда не заходила.
«Врет и не краснеет», – подумал я.
Она выглянула из окна и посмотрела вниз, в сторону своего подвала. Потом повалилась ко мне на кровать:
– Иди сюда.
Ее волосы рассыпались по моей подушке огромным черным веером. Хороша, что тут скажешь. И готова отдаться, но только вот я для этого не гожусь. Для меня это все равно что смерть. Я попытался увести разговор в сторону:
– Я столько раз хотел покончить с собой!
– Да ладно! – не поверила она.
Я перечислил все виды и способы самоубийства, о которых думал долгие годы. Потом предложил выпить колы. Элеонора разглядывала нашу квартиру, увешанную картинами и хранившую следы когда-то весьма обеспеченной жизни, и не знала, верить мне или нет, смеяться или плакать. Я закинул ноги на стол и рыгнул.
– Рано или поздно я все-таки это сделаю! – гордо заявил я.
Я схватил кухонные ножницы и воткнул их в стол, прямо между пальцами. Обычный спектакль, но я всегда умел произвести впечатление. Я включился в игру и уже чувствовал себя актером, разыгрывающим гениальную сцену самоубийства, этаким Гарольдом из фильма «Гарольд и Мод».
– Ты это нарочно? – Элеонора безнадежно озиралась по сторонам. – Как жаль…
Она говорила вполне искренне – ей было жаль, что в такой большой и светлой квартире живет такой идиот, как я. Она взяла с полки одну из книг отца, пролистала несколько страниц, посмотрела на страшные фотографии кожных болезней. Издатели на них не поскупились. На огромном развороте красовался розовый гриб эритемы.
– О боже, какая гадость!
– Это книга отца.
– Понятно.
– Ты что, правда девственница?
Она посмотрела на меня жалобным взглядом коровы, которую тащат на бойню.
Врунья. Надо было завалить ее и всадить хорошенько. Но она только отсосала у меня и ушла.
Не знаю, что там она сказала брату, только вечером он ждал меня у подъезда, усевшись на багажнике припаркованного автомобиля. По его лицу катились капли пота, тело под майкой тоже взмокло. Он схватил меня за руку:
– Что у тебя с моей сестрой?
– Тебе лучше знать.
– Ты что себе позволяешь?
– Ничего!
Мы повздорили, принялись оскорблять друг друга, но я чувствовал его неуверенность. Мне показалось, что он злится понарошку, не всерьез. На самом деле ему хотелось что-то доказать, с кем-то схватиться, продемонстрировать своей никчемной семье, подглядывающей за нами из-за прикрытых занавесок за грязной решеткой, что он чего-то стоит. Само собой, дело тут было не в чести. Просто ему нравилось изображать из себя мужественного защитника.
– Ладно, проехали.
Нас связывала своя история. И к чести она не имела ни малейшего отношения. Она переродилась в некое чувство, которое испытывали мы оба: странное притяжение, которое только отталкивало нас друг от друга.
– Мне нет никакого дела до твоей сестры.
Его суровый вид вызывал во мне нежность, и одновременно я с трудом сдерживал смех, представляя, до чего же мы нелепо выглядим. Я вдруг ощутил, что возбуждаюсь. В глубине души я был рад этому недоразумению, этому неожиданному позору. Я развел руками. Я чувствовал себя виноватым за то, что единственный раз позволил у себя отсосать.
– Ну ладно, прости.
Я улыбнулся, но Костантино всерьез завелся:
– Ты кем себя возомнил? Кем возомнил?
Теперь он выглядел увереннее, в глазах загорелась ненависть, жестокость. Казалось, что вдруг овладевшие им мысли, гнев, злоба распирают его изнутри. Он принялся орать на меня. Тогда и я стал серьезным:
– Какого черта тебе от меня надо?
Он схватил меня за футболку так, что ткань затрещала, потом рванул на себя. Он хлюпал носом, кричал, брызгая мне в лицо слюной и потом:
– Ты воспользовался, воспользовался нами! Что за дерьмовая семья!
– При чем тут моя семья, придурок?
– Что вы о себе возомнили? У нас тоже есть свое достоинство, у нас есть достоинство!
– Да кто претендует на ваше достоинство?
Он толкнул меня так, что я отлетел к стене.
– Эй, не распускай руки, руки не распускай.
Я чувствовал, что он давно хотел ударить меня, во мне поднималась волна ненависти, я осмелел:
– Ну приложил ее немного, и что с того?
– Я тебя прикончу!
Я давно мечтал с ним подраться.
– Она сама трахнуться хотела.
Я оказался проворней его. Все было прямо как тогда, в бассейне, только теперь я оказался в роли Костантино. Я пригнулся и впервые в жизни боднул головой что есть силы, попав прямо в лицо противнику. Резкая боль отозвалась во всем теле, а из носа у Костантино хлынула кровь. Его удар не заставил себя ждать – тут же я почувствовал, что мой рот наполнился кровью.
– В вашей семье все любят трахаться, – сказал я.
Он схватил меня за горло и повалил на землю. Я видел, что он не осознает, что делает, что ему ничего не стоит меня задушить. Но я был этому только рад, по мне разливалось счастье – абсолютное, совершенное и абсурдное. Я видел, как он бесится от злобы, как у него идет кровь. Наши запахи перемешались, стали одним целым: ароматом, который рождается из самых недр существа, точно вода из скалы. Он плюнул мне в лицо, и я приоткрыл глаза. Я надеялся, что он меня убьет. Мне не хотелось думать о будущем.
—
Следующий год был полон неожиданностей. Мама перестала спать по ночам. Она вставала и бродила по дому, точно запертый в клетке зверь. Я шел за ней, брал ее за руку, но она ничего не чувствовала, словно рука, которую я держал в своей, ей не принадлежала. Днем она в изнеможении падала в кресло и засыпала.
В детстве я все время страдал от одиночества. Рано утром мама всегда была уже одета и идеально накрашена, она отдавала последние указания прислуге и выбегала из дому с такой скоростью, точно спасалась от пожара. А для меня часы тянулись бесконечно. Я представлял себе, чем она занимается, когда уходит из дома. Когда я выползал из своего укрытия, мир казался мне каким-то болотом, я жил лишь надеждой снова ее увидеть. Когда я гулял в парке, когда залезал в деревянный домик, когда вылезал из него, я постоянно думал о ней. Я думал о ней как об особенной матери, не похожей на серую безликую массу других матерей. Она казалась мне возвышенной и прекрасной, самой лучшей на свете, ее красота была для меня сродни красоте дикой природы.
Ни за что на свете я не променял бы Джорджетту на одну из этих раскрасневшихся, сердитых или ласковых матерей. И хотя я был несчастным ребенком, я знал, что мне повезло больше остальных. Я никогда не осуждал ее. Для меня она была богиней, а богини не опускаются на колени, чтобы подтереть нос собственным детям. То, что она не хочет тратить свое драгоценное время на скучные повседневные дела, было для меня совершенно естественным. Я не сомневался в том, что она летает слишком высоко, и меня, как и отца, переполняло чувство преданности и благоговения. Я жил у подножия алтаря, у священного жертвенника, на котором горело пламя обещаний. Я озарялся радостью при мысли, что могу отразить хоть луч ее сияния. И когда теперь я думаю о том, как странно я себя вел в те годы, я понимаю, что так я пытался найти дорогу к ней, пробудить интерес к себе.
Единственное, о чем я мечтал, – это походить на нее. Когда я немного подрос, я научился ее провоцировать, и, если я видел, что она злится и одновременно с тем раздосадована, узнавая во мне свои недостатки, я ликовал. Я знал, что ее сердце нужно завоевать, что она ничего не спускает. Я снова и снова разглядывал ее выпуклый и гладкий живот и такой же лоб на единственной фотографии, где она снялась беременной. Мне было нужно удостовериться, что эта женщина действительно меня родила. Часто меня посещали сомнения, что я действительно ее сын, что меня не купили в каком-нибудь магазине ненужных детей. Я никогда не ждал от нее сочувствия, даже в самые трудные моменты жизни. Она была полна сострадания и часто помогала нуждающимся, но я-то понимал, как трепещет ее сердце, как восстает ее ум против этих ограниченных, ничего собой не представляющих людей, которые изо всех сил стараются вызвать к себе жалость и завидуют чужому благополучию. Она не верила в Бога, не переносила запаха беженцев, не терпела трусости. Она была чиста и одинока, и другие матери ее ненавидели, на дух не выносили. Холодная звезда в раскаленном небе.
И вот вдруг она все чаще стала появляться дома, стала такой хрупкой и даже беспомощной. Сначала я не обратил на это внимания: я был слишком занят своими делами. Придя домой, я заставал ее там: босые ноги, расплывшийся макияж. Ее прекрасная фигура казалась слегка помятой. Она болтала ногой, закинув ее на подлокотник кресла, на груди – раскрытая книга, взгляд устремлен куда-то в бесконечную даль. Я привык любить ее издали, и сейчас ее присутствие казалось мне таким важным и в то же время таким ничтожным. Она перестала быть богиней и стала человеком, а потому мне трудно было поверить, что это все та же Джорджетта.
Она все чаще и чаще сидела дома, пока я наконец не привык к тому, что, вернувшись, найду ее спящей на диване в гостиной. Поначалу я думал, что она просто устала, что это возраст берет свое, что ей нужно передохнуть, поднабраться энергии, а потом она снова бросится миру навстречу. Не знаю точно, что именно я думал. Я растерялся. Иногда она шла за мной, стучалась в дверь моей комнаты и какое-то время стояла, прислонившись к стене, заложив руки за спину, мрачно глядя прямо перед собой набухшими покрасневшими глазами. Усталый, рассеянный взгляд.
Казалось, она погружена в какие-то мысли, которые тянут ее за собой, точно колеса по пыльной дороге. Она была со мной, но в то же время где-то далеко-далеко. Ее присутствие было странным, иногда даже пугающим. Она силилась улыбнуться, но я чувствовал, что она пытается справиться с собой, что долгое дневное сидение в кресле оставляет в ее душе отпечаток каких-то теней, борьба с которыми заранее обречена.
– Можно мне посидеть на твоей кровати, Гвидо?
От такой несправедливости хотелось кричать.
Она подгибала ноги, ее легкое тело ложилось в мою кровать: притягательная, сексуальная женщина. Она лежала на той самой кровати, где я так часто думал о ней. Лежала с сомкнутыми глазами, ее приоткрытые губы слегка подрагивали. Но я держался. Я сидел у ног моей спящей красавицы. Ей было жарко, она покрывалась испариной. Где найти веер? Я обмахивал ее своей тетрадью.
Она всегда была очень худенькой, почти бестелесной. Когда-то через донорскую кровь ей передалась скрытая форма гепатита. И вдруг через столько лет печень перестала справляться, перестала очищать кровь. Ей назначили безбелковую диету и посоветовали постоянно держать кишечник пустым. Потом ей прокололи курс интерферона – препарата, который куда более подходит для кобылы, чем для хрупкой женщины.
Ее дневная летаргия под вечер переходила в странную активность. Отец варил по ночам кофе, а она выливала все в раковину и кричала, что хочет побыть одна, что ему завтра идти на работу. Я слышал, как она устраивает кавардак в своей комнате, стучит дверцами шкафов, вываливает вещи. А потом она хлопала дверью и быстро бежала по двору, спотыкаясь на высоких каблуках. Никто не знал, куда она шла и как проводила время. Может быть, она отправлялась гулять вокруг своих любимых зданий, барочных церквей с огромными решетчатыми двориками, бродила в пустынном, светящемся в темноте городе.
Однажды ночью я выскочил из дому вслед за ней. Я видел, как она вошла в бар, как вышла из него, как шла вдоль стены до следующего бара и как наконец вскочила в ночной автобус. Дверцы закрылись, прищемив подол ее пальто. Я немного пробежал за автобусом и заметил, что ее лицо исказилось злобой, когда она попыталась высвободить зажатый краешек. Не знаю, можно ли было назвать это гримасой безумия, но тогда я понял, что она изменилась, и эта перемена произошла мгновенно – так налетевший град разбивает стекло теплицы, крушит горшки, срывает листья.
Наверное, моя мать всегда пила. Когда я подрос и начал злоупотреблять алкоголем, мне кое-что вспомнилось. Когда я был пьян, я чувствовал, как во мне просыпается та же самая боль. Я вспомнил запах дыхания, когда она возвращалась домой и подходила к моей кроватке, чтобы поцеловать на ночь, наклонялась и шептала какие-то нежные слова, как всякая мать.
Дефицит оксида азота отравлял ее организм и уносил сознание. Однажды ее нашли на улице – она потерялась. Она сидела неподалеку от дома, но ключей у нее не было. В одной футболке, без колгот, голые ноги в каких-то пятнах и синяках. Не знаю, где и сколько она бродила. Ее нашел Джино, она у него стриглась. Он возвращался с овощного рынка и вдруг увидел маму у гаража. Он узнал в ней синьору, которой недавно делал прическу, взял под руку и отвел домой.
Я как раз возвращался из университета. Записался на факультет политологии. Это был случайный выбор, сделанный, чтобы от меня отстали на ближайшие четыре года. Мне хотелось закутаться в плаценту. Мать сидела в будке консьержа, завернутая в одеяло. В руке у нее был апельсин. Я часто вспоминал ее с апельсином в руке. Ей дал его парикмахер – нелепый жест из тех, что делают, когда больше ничего не приходит в голову. Чтобы вернуться к реальности.
Мать Костантино приходила к нам делать матери уколы. Она быстрым шагом поднималась по лестнице, от нее по-прежнему пахло хлоркой. «Добрый день, синьора, как себя чувствуете?»
Моя мать встречала ее стоя. Она облокачивалась на книжную полку, приспускала колготки, на ее лице не было никакого выражения. Потом консьержка поднималась в квартиру к дяде. Теперь она сама носила ему еду: Костантино призвали в армию. Он побрился, сел на поезд и отбыл с рюкзаком за плечами. Мог бы и подождать. Ведь он записался в сельскохозяйственный институт и уже сдал экзамены за первый семестр. Но он сбежал. Я до сих пор не сдал ни одного экзамена, но меня освободили от армии. У меня обнаружили патологию яичек, тестикулярный перекрут.
В тот день я решил поговорить с отцом. Мне крайне редко приходилось бывать у него в клинике, я заходил туда всего пару раз, сам не знаю, как я там оказался. Я спрыгнул с мотоцикла и вошел в новомодную цементную коробку с затемненными стеклами – дом, где находилась приемная отца. Дверь была не заперта, пациенты только что разошлись. Я направился прямо к его кабинету.
Все случилось буквально за пару секунд. Ровно столько мне потребовалось, чтобы все осознать. Так перемещаются солнечные системы: секунда – и вот уже позади миллионы километров. Ты несешься в вихре раскаленных звезд и не веришь, что действительно это видел. Но твое тело говорит, что именно так все и было. Мальчишка идет по коридору в кабинет отца, чтобы спросить совета. День как день, ничего особенного.
За эти годы я ни разу не приходил к нему, и вот теперь придется сесть по другую сторону стола, словно я один из пациентов. Я хочу увидеть его в халате, я знаю, что в своих кругах он чего-то стоит. С ним считаются коллеги. Но не ты. Ты с ним никогда не считался. Пришла пора попробовать. Для начала можно попросить, чтобы он посмотрел родинку под мышкой, которая не дает тебе покоя. Отец возьмет лупу, подойдет поближе – безобидное темное пятнышко увеличится в несколько раз.
Он скажет: «Все в порядке, Гвидо».
Ты поправишь футболку, вы посмотрите друг другу в глаза. Ты просто хочешь поговорить с ним о матери. Вы никогда о ней не говорили. Обычно отцу приходится говорить об альбумине или билирубине, о циррозе, об энцефалопатии. Подходящие слова у него всегда найдутся. Вот только у тебя нет ни одного. Тебе хочется плакать. Ты представляешь, как отец стоит у окна со сцепленными за спиной руками, левая лежит на правой, на его худом теле длинный халат. Он смотрит на тебя покрасневшими глазами.
Но на деле все выходит совсем не так. Он не стоит, а сидит.
Мгновение, и твое тело – пещера, в которую залетает ледяной ветер. Сам не зная почему, ты вспоминаешь летний кинотеатр под открытым небом. Ты чувствуешь резкую горячую боль в паху. Никто тебя и пальцем не тронул. Но ты ощущаешь, что над тобой надругались, ты смотришь со стороны, как над тобой вершится насилие, вся жизнь проходит перед тобой, точно на огромном экране. Ты видишь себя ребенком, этот ребенок неуверенно делает первые шаги. Молодая прекрасная Джорджетта смеется и помогает тебе помахать папе ручкой, а папа снимает вас на камеру.
Когда женщина оборачивается, ты ее узнаёшь. Ты видишь контур ее профиля, тебе достаточно полувзгляда. Но она не обращается в пепел, а вспыхивает огнем. Должно быть, она всего лишь наклонилась, чтобы что-то поднять и положить на стол. Отец держал ее за талию с таким же выражением лица, с каким отдавал команды старому лабрадору Викки. На старой пленке запечатлены кадры из прошлой жизни: отец отдает команду, и собака несет ему теннисный мячик.
Но теперь я точно сам снимал все на пленку, я смотрел на эту сцену глазами Джорджетты, и то, что я видел, обращало все пережитое в прах.
Должно быть, они были несчастливы вместе. Моя мать любила большие, пульсирующие жизнью города. Она была прекрасна, а Альберто нельзя было назвать привлекательным мужчиной. Но он был хорош в постели и держал себя в форме, летом лазил по горам. Он был из тех, кто, прежде чем старость окончательно вступит в свои права, непременно захочет прыгнуть с парашютом. Но хотя прошло столько лет и я вспоминаю об этом скромном застенчивом человеке много хорошего, я все же не могу понять: почему нельзя было просто немного подождать? Как ему было не стыдно? И почему сама жизнь сделала меня свидетелем этого позорного скандала, которого так легко было избежать? Всего через два месяца он стал бы вдовцом, и тогда мне не в чем было бы его обвинить. Я сам бы попросил его не запираться в четырех стенах, начать новую жизнь. Ему было пятьдесят три. Но все случилось так, как случилось, и я его возненавидел. Вся жизнь нашей семьи предстала для меня сплошной обжигающей ложью.
Элеонора обернулась и пошла мне навстречу с тем самым выражением лица, к которому я с детства привык, – так смотрит летяшая птица, которая хочет передохнуть в каком-нибудь уютном местечке на земле.
– Привет!
Под расстегнутым халатом виднелось короткое платье.
Я даже забыл, что она работает у отца. На этом настояла моя мать после того, как секретарша отца уволилась. Так, значит, дочь консьержа. Она выросла на глазах у моей матери. Джорджетта всегда делала ей подарки на день рождения и на Новый год, ей хотелось дать девочке шанс. И вот девочка его получила.
Отец резко вскочил, нелепо взмахнув руками, точно карабинер на дороге. Но Элеонора казалась совершенно спокойной. Она прошла мимо меня так, словно ничего не произошло. Старательная девочка, она уже давно все знала, давно ждала подходящего момента. Давным-давно засела в засаде.