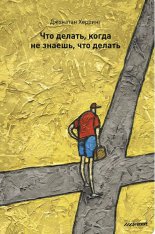Сияние Мадзантини Маргарет

Домой я вернулся, точно истекающий кровью загнанный зверь, который вот-вот рухнет на землю. Я пронесся мимо будки консьержа, еле дыша от злости. За окошком мелькнули красноватые болезненные глаза матери Элеоноры, отвратительные заношенные брюки ее отца. Его лицо, покрытое псориазными бляшками, его красный нос, его беловатый лоб… дурные жадные люди. Они травили мышей и чистили уборные. Они использовали мою семью, пренебрегли добротой моей матери, сыграли на моей подростковой неопытности, сделали из моего отца троянского коня, в котором пряталась эта подлая девица в чулках с подвязками, девица в пушистых наушниках, которая когда-то так вызывающе и угрюмо на меня пялилась. Эти двое, брат и сестра, хотели выкарабкаться из своего убогого подвала по трупам моих родителей. Только боль могла хоть как-то приглушить мою ненависть.
Настало лето. Я возвращался домой после игры в теннис. Джорджетта заперла дверь изнутри и оставила ключ в замке. Я попробовал открыть, долго звонил в звонок. Потом я стоял и ждал, когда рабочий вскроет дверь. Запах его пота наводил на меня ужас не меньше, чем звук работающего перфоратора. Он долго возился, но я не сдвинулся с места. Впервые в жизни я мечтал о том, чтобы звук никогда не смолкал, чтобы он стал единственным на земле. Может быть, у нее очередной срыв. Я тешил себя надеждой. В последнее время я стал ее тюремщиком и вел себя отвратительно. Я был не в состоянии видеть ее такой, смотреть в затуманенные глаза. Принять ее в таком состоянии означало разрушить прежний идеальный образ. Ей велели следить за тем, чтобы кишечник был пустым, и она безумно боялась этих белесых болезненных испражнений. Ее живот и ноги отекли, за растянутой, как резина, кожей скрывалось с детства знакомое выражение ее лица. А за дверью на меня набрасывалась темнота. В этом бесконечном коридоре, словно в тюрьме, слышалось лишь беспокойное дыхание заключенных, которые прятались за закрытыми дверями. То был мой собственный разум, который искал, куда бы укрыться.
Шум утих, мы вошли в квартиру. Я погрузился в пустоту. Звук, беспокоивший меня все эти годы, утих в ту самую минуту, когда выпал дверной замок и гул перфоратора затих. Теперь мне казалось, что я понимал, что это был за звук. Я предчувствовал его задолго до этого дня. То был звук призывающей меня боли.
Я подошел к стиральной машинке и увидел мамины ноги. Я сел в коридоре перед дверью в ванную, где лежало ее тело, не выпуская из рук ракетку. Я смотрел на эту картину сквозь натянутые струны ракетки.
В тот день мусорщики устроили забастовку – в летнем воздухе витал отвратительный запах гниющих нечистот. Контейнеры переполнились, вокруг валялись мусорные мешки, разодранные бездомными кошками. Я все был готов отдать, лишь бы снова стало чисто, лишь бы проехали поливалки и вымыли улицы. Я думал о содержимом мешков: сгнившие виноградины, яичная скорлупа, разваренные макароны, помятая бумага, срезанный с мяса жир, остатки прогорклого масла.
Матери я ничего не сказал. Я думал, что впереди у нас еще много времени.
Я поднялся в квартиру дяди. Мы с ним давно не говорили. Мне было нелегко переваривать его язвительные уроки жизни, я устал от интеллектуальных ловушек, которые он расставлял на каждом шагу. Его клейкая паутина обматывала меня с головы до ног, и я не мог пошевелиться. Он сидел на террасе в веревочном кресле и тоже смотрел на кучи мусора.
– Джорджетта мертва. Моя мать умерла.
Он бессильно уронил руки, раскрыл рот и сидел так какое-то время, позабыв о том, что нужно дышать. Он не двигался, только его холодный взгляд блуждал по сторонам. Наконец его глаза остановились где-то наверху, на мгновение в них промелькнули тени бегущих по небу облаков.
Я позвонил тете Эуджении, она вызвала такси, и вот уже высокие и потрепанные жизнью супруги предстали передо мною, точно могильщики. Впервые в жизни я восхитился родственниками отца, которые так тихо и спокойно справились со всеми формальностями. Никакого шума, два-три необходимых звонка, и только-то. Они старались не оставлять меня одного. Тетя сама решила одеть Джорджетту, ей не хотелось, чтобы это делали посторонние. Так я впервые увидел нижнее белье матери. А еще я увидел, как окоченело ее тело. Его было тяжело передвигать, вдеть руки в рукава оказалось нелегкой задачей. Участие в этом процессе многому меня научило, я понял, что такое смерть. Мы потеряли счет времени, взмокли, но продолжали бороться с этим упрямым, восставшим против нас телом. Мы трясли его, тянули в разные стороны, и все же пуговицы на спине не удалось до конца застегнуть, а колготки были натянуты кое-как. Из ее рта показалась белая отравленная слюна. Я увидел, как постепенно ее тело обращается в мрамор, опухоль спадает, словно ее засосало куда-то внутрь. Я был рядом с мамой до последней минуты, лежал на подушке и смотрел на ее лицо, на скулы, обтянутые холодной кожей, точно облегающей тканью. Гроб пронесли по двору.
На гражданской панихиде в душной комнате собралось совсем немного людей. Середина августа, это понятно. Священника не пригласили. Те, что пришли, сидели с красным лицом и обмахивались распечатанной фотографией Джорджетты, которую им вручали при входе, – это была идея отца.
После коротких аплодисментов я повернулся и пошел за гробом. Мы вышли из темной комнаты в свет двора, и, когда я переступил порог, мне показалось, что я ослеп. В просвете двери я увидел силуэт, словно вырезанный лучами солнца. Это был Костантино. Он стоял, наклонив голову и широко расставив ноги.
Когда я подошел, он заплакал. Я не плакал. На мне были черные очки, какие носят актеры. Мы обнялись. Гроб отправился в крематорий, а мы остались стоять там, где стояли.
Мы шли по улице, нещадно палило солнце. Я никогда не видел Константино в форме. В ней он казался выше, грудь расправилась. Ему дали увольнительную на день, и он взял билет на ночной поезд. Его шея вспотела. Мы сели на бортик фонтана, воды в нем не было. Вокруг статуи тянулись предупредительные ленты. Я рассказал, как все произошло. «На вид ты спокоен», – заметил он. Так оно и было. Я озирался по сторонам сквозь темные стекла и ничего не видел. Мне было плевать, что происходит вокруг. «Как сам?» – спросил я. Он признался, что сначала пришлось нелегко, дедовщину еще никто не отменял, а в армии полно фанатиков.
– Эти уроды отняли у тебя год жизни.
– Все равно я доволен, что пошел.
– Ты изменился.
Он улыбнулся:
– А тебя отмазали.
Я рассказал ему про тестикулярный перекрут, про то, что одно яичко иногда выходит из мошонки.
– Вечно к тебе цепляется всякая дрянь.
– Зато в ушах больше не звенит.
Потом заговорил про рабочего с перфоратором, рассказал про то, как он вскрыл дверь, как я нашел тело. И про то, что сразу вслед за этим на меня обрушилась тишина. Я все еще не выплакал свое горе и понял, что дрожу. Так мы и сидели у фонтана, ничего не делая. Я был босиком, он – в солдатских ботинках. Костантино обливался потом, но и не думал расстегнуть хоть одну пуговицу. Мы перешли площадь, купили холодного пива и вернулись к фонтану. Я сказал, что потерял интерес к жизни и готов стать хоть бродягой, скитаться по миру босиком, как тот немецкий парень у замка Святого Ангела. Он тоже сказал, что не хочет возвращаться домой. Там, где он служил, росли яблоневые сады и повсюду витал запах яблок. Его так и подмывало присоединиться к тем, кто их собирал, уснуть в шалаше с другими парнями, жить одним днем. Я вернулся в бар, купил бутылку виски. Солнце вовсю палило, и бритая голова Костантино блестела, пот тек и тек по вискам. Я приложился к бутылке, намереваясь напиться в память о матери. Костантино пытался меня образумить. Я развалился на земле и изображал, что плыву.
– Пойдем на море.
У него еще было несколько часов. Мы взгромоздились на скутер, притормозили у подъезда. Он забежал домой и вернулся через несколько минут в синей футболке и с большим рюкзаком за спиной.
Я потерял ботинки, рубашка была обвязана вокруг талии, на голой груди развевался галстук. Из-за жары улица казалась голой пустыней, в которой не было ни души: параллельная реальность, да и только. Цикады гудели, точно самолеты, идущие на посадку. Я ехал куда глаза глядят, точно бедуин в пустыне, вел как попало, несся, не чувствуя ног, касаясь голыми ступнями раскаленного асфальта. Мы несколько раз чуть не упали. Костантино закричал: «Какого черта ты творишь!» – а потом рассмеялся, и мы снова мчались вперед, как две цикады, а мотор пел свою песню под нашими задницами.
Мы выехали на пляж там, где кончались сосны, и сразу же полезли в море. Я качался на волнах вверх-вниз, точно подстреленный. Костантино плавал гораздо лучше меня. Он сразу заплыл далеко, его руки, которыми он зачерпывал в гребке воду, виднелись где-то у горизонта.
Потом мы встретились на пляже и снова прыгнули в воду. Плавок у нас не было, трусы срывало волнами.
– До скольки ты можешь остаться?
– До шести утра.
– Поедем обратно?
– Пожалуй.
– Хотя бы душ примешь.
Но меня уже развезло, и я заснул, лежа на животе, уткнувшись носом в песок. Когда я проснулся, Костантино уже поставил палатку. Я пошел в сторону призрака прошлого.
– Помнишь ее? – спросил он.
На секунду мне стало так грустно, точно я увидел покойника. Я помнил многое и в то же время как будто ничего. В этой палатке я мечтал о том, чему не суждено было сбыться.
– Я еще ни разу ею не пользовался.
– Ни разу?
– Честное слово.
Было все еще жарко, но уже не так, как днем. Солнце откатилось к горизонту – устало за долгий день. Вдалеке показалось несколько птиц. Они держали курс к устью реки, голодными черными гроздьями падали вниз и врезались во вздымающиеся гребешки волн. Таким мне запомнился этот день за миг до того, что случилось потом: голодные птицы на фоне заката. Я наклонился, чтобы залезть в палатку. Все это уже с нами было, это случилось давным-давно. Так что поздно храбриться.
Я разлегся внутри и вдыхал запах затхлой ткани, которую не разворачивали вот уже десять лет, рассматривал молнии, складки на стенках. Канадская кемпинговая палатка снаружи была синей, изнутри – оранжевой. Огненный купол нависал надо мною огромным небосводом. Я чувствовал себя младенцем: в парусиновом животе было хорошо и спокойно. Я вытянул руки и коснулся стенок, теперь я был гораздо больше, чем в детстве.
Ахеец стоял неподалеку, точно облепленная песком статуя, безволосая голова – шлем, детское выражение лица. Он стоял снаружи, не решаясь войти. Я сам позвал его:
– Залезай.
– Можно?
Он наклонился и проскользнул внутрь, ко мне. Мы немного полежали рядом. Я поднялся и закрыл дверь на молнию, потом снова лег. Я крепко держал его за потную от жары руку. Он сам собрал палатку, значит понимал, что делает.
Повисла гнетущая тишина, и в голове у меня было пусто, теперь мне все было по плечу.
Я чуть повернул голову, и мы посмотрели друг на друга другими глазами: чистыми, совершенными. Потом я протянул руку и погладил его по лицу, мы поцеловались. Наша слюна смешалась, мы ощутили теплоту наших ртов, свежесть зубов, я чувствовал, как движется его язык. Он был спокойнее меня, и я тоже замедлился. Все было именно так, как и должно быть. Я почувствовал себя в безопасности: точно длинный тоннель протянулся прямо к центру моего «я» и увлек за собой все тело. Он поглотил окружающий мир и меня самого, и все встало на свои места. Не знаю, как мы осмелились зайти дальше, но оказалось, что это несложно. Его шея, точно крепкая шея лошади, свободной от наездника и сбруи, напряглась, как согнутый хлыст, словно его самого ударили хлыстом. Он раскрыл рот. Мне никогда не приходилось видеть такого большого рта, из него вырвался безмолвный неудержимый крик. Он придерживал мою голову рукой, его лоб ударялся о мой лоб, он смеялся и плакал, звал меня по имени и повторял «любимый, любимый». И я понял, что этого уже не изменить, что ничто на свете не сравнится с этим мгновением. Я и представить себе не мог, что он такой нежный и такой страстный.
И мы дошли до конца. Пошли против природы. Хотелось бы мне знать, что такое эта природа, эти звезды, эти деревья, шепот земли, прозрачные воды… Природа – это дух, который живет в тебе и делает так, что ты по собственной воле перешагиваешь через себя и через все границы, какие только есть в этом мире.
Можно сказать, что это и было природой, нашей природой, которая прорвалась сквозь преграды и нашла самое прекрасное и безопасное выражение. Мы обрели самих себя и друг друга. Как будто бы ветер сотворил новый мир, пригнул его к земле и постепенно подарил ему новые формы. Костантино не хотел, чтобы так вышло, да и я не хотел. По крайней мере, так я считал. Но что я мог знать? И жизнь, и его желания оказались слишком противоречивы. Мягко были отброшены его одежды, разбитые рыцарские доспехи. Простые, дешевые мальчиковые вещи. Он был крупным, я – худеньким. Он – из бедной семьи, я же сын обеспеченных и в то же время жалких людей. Он посмотрел на меня, и, глядя в его глаза, я ощутил, что он падает в пропасть, как будто в его взгляде соединились тысячи жизней: жизни погибших солдат, монахов, убийц, святых отшельников. Все они смотрели на меня его глазами.
– Я люблю тебя, – прошептал я.
– Я тоже тебя люблю и всегда любил.
Не веря самим себе, мы приподнялись под нашим оранжевым небом и, как крестьяне на нивах, склонились и собрали манну в ослепительных лучах.
Когда мы вылезли из палатки, пляж показался нам незнакомой планетой. Я почувствовал, что наконец стал собой, точно меня собрали из кусочков в единое целое. Мы искупались в море. Смеркалось. Наши ноги – тонкие и нежные, едва родившиеся на свет зверьки. Вода баюкала нас, наши тела доверились волнам, море стало нашей вселенной.
Потом мы молча застыли у берега в пене прибоя, погрузив руки в мерно набегающие и откатывающиеся назад волны. Эти минуты, казалось, протянутся вечность, потому что все исчезало, чтобы снова вернуться на круги своя. Волны обмывали, очищали наши зарытые в песок руки. Песок был жизнью, что впервые показалась из воды и выбралась на берег: она протекала у нас сквозь пальцы.
– Теперь мы стали собой.
– Да, мы – это мы.
Потом мы молчали, смотрели друг на друга и улыбались. Если ты занимался любовью, то не влюбиться уже невозможно, ведь тело – это берег души. Под нашими плечами был девственный песок, и мы перешагнули его невинность. Мы смотрели на следы наших ног, на отпечатки ладоней и пальцев на песочных дюнах. Они казались нам лунными кратерами.
Мы не строили никаких планов, но пора было торопиться: Костантино мог опоздать на поезд, что грозило бы ему взысканием, его могли лишить увольнительных. Он надел форму прямо на пляже, споткнувшись, зачерпнул ботинком песок. Мы сложили палатку и засунули ее в рюкзак. Потом помчались назад. В глаза летела мошкара и бил свет фонарей, мы неслись по трамвайным рельсам, скутер резко кренился. Бензина почти не осталось, а все заправки были закрыты. Скутер пыхтел и кряхтел, мы еле-еле добрались до того места, куда упиралась улица Национале, Костантино спрыгнул с сиденья и помчался в сторону вокзала. Он быстро пропал из виду. Я вернулся домой босиком, толкая скутер. Кровать в комнате матери все еще была застлана смятым пледом, на котором лежало ее тело перед тем, как его унесли. Я лег на это место, стараясь уместиться четко в контуры ее тела, схватил подушку, зажал ее между ног и заснул на боку блаженным сном.
—
Когда я приехал, меня переполняли надежды. Путь оказался долгим, но вокруг была красота. В поезде я читал. Иногда, отрываясь от книги, я поглядывал в окно на сменявшие одна другую картины: сначала свет, потом туман над долинами. Старые поселки, переезды, мосты – все они казались волшебным подводным миром. «Хорошее всегда ясно и определенно, дурное всегда размыто и бесформенно», – повторял я про себя только что прочтенную фразу. Она выплыла из книги, отделившись от страницы, словно ключ, оторвавшийся от общей связки, и мне казалось, что это говорится о нас, о нем, о чем-то бесконечном и близком, о том, что пора открыть дверь в неизведанное. Это Костантино придал мне форму, сделал меня лучше, человечнее. Он подарил мне надежду.
Не об этом ли мы мечтали? Убежать от повседневности, смыть с себя грязь сомнений, зажить новой жизнью далеко-далеко. И я верил, что эта поездка – первый шаг, первый глоток будущего, которое нас ожидает. Запах поезда, новые люди заходят на разных станциях… Особенно много их было на последних остановках, уже после Местре. Это второстепенная дорога, рельсы бегут вдоль полей, заросших высокой травой, в вагоне сидят укутанные в платки женщины, измазанные чернилами студенты, работники железной дороги, направляющиеся на другие станции, к другим поездам. Они выходят на маленьких станциях, которые вдруг возникают посреди пустых полей, закрывают за собой двери, пинают железный зад паровоза. Несколько раз я поднимался с места, чтобы помочь то девушке, то старику: закидывал их сумки на багажную полку над головой других пассажиров. Старый поезд, обшарпанные станции вдоль путей – все это словно бы хранило отпечаток другого, отжившего мира.
Недалеко от меня примостилась женщина, у нее в сумке сидела живая курица. Курица не шевелилась, свесив красный гребешок, – просто копия своей хозяйки. Все это напомнило мне картины фламандских мастеров. Постепенно я отвлекся. Я смотрел по сторонам, и внезапно мне почудилось, что это я в каком-то порыве схватился за краски и, как заправский художник, безрезультатно ищу жизненной правды. Это я косым штрихом намечаю подводный пейзаж, на фоне которого выделяются резкие контуры – фигуры моих попутчиков. Они казались мне неслучайными, их словно нарочно подобрал для полотна какой-нибудь знаменитый художник, Брейгель или кто-то похожий. Я вдыхал запах краски, я видел прилипшую к их башмакам грязь, чувствовал влагу стихии, бушевавшей за окном. Там мелкие капли дождя боролись с порывами ветра. Я с волнением осознавал, что я – самый ничтожный из всех. Я впервые чувствовал столь глубокую, столь явственную гармонию с окружающим миром.
Поезд шел по старым тонким, как ленточки, рельсам. Он вгрызался в горы, петлял меж нескончаемых нависших скал. Вдалеке виднелись малюсенькие горные деревушки, дома напоминали отколовшиеся от горы и скатившиеся вниз камни. И все это принадлежало мне. Все это пело в моем сердце, свободно билось в моей груди. Меня охватила счастливая дрожь – дрожь новорожденного, зашедшегося в первом смехе, когда каждая клеточка тела ликует от нового ощущения. Поезд то останавливался, то трогался снова. Я развернул бумагу, съел бутерброд. Я до сих пор помню его вкус: помню тот пропитавшийся маслом хлеб, помню, как откусывал огромными кусками, потому что успел проголодаться. Поезд шел высоко в горах, а я находился на пике собственной жизни: молодость и высота вскружили мне голову. Казалось, я обезумел от радости, кровь наполнилась кислородом, в голове отдавался стук сердца. Я пошел в уборную и принялся мастурбировать, глядя широко раскрытыми глазами в сторону гор, туда, на светящуюся вершину, окутанную тишиной. Вдалеке до сих пор можно было различить траншеи времен Первой мировой.
Я вышел на станции. Вокруг меня, точно гипсовые, вздымались горы. Я направился в сторону большого и мрачного здания казармы, которое заприметил с первого взгляда. Потоптался в холодном, словно морозильная камера, зале. В будке тихонько переговаривались и подшучивали друг над другом двое дежурных. Они были настроены дружелюбно, но я посмотрел на них новым, застенчивым и робким взглядом. Мне еще не приходилось вот так смотреть на парней.
В последнем письме я признался ему во всем.
Я знаю, что в мире двух одинаковых людей не бывает, а это значит, что мы с тобой ни на кого не похожи. Теперь ты далеко, что за несправедливость! С кем мне поговорить? За дверью я слышу шаги отца. Недавно он заглянул ко мне в комнату, но я послал его подальше. Ночью мне одиноко, без тебя этот город омертвел, время тянется, бесполезное, бесконечное, и я не надеюсь, что мне полегчает. Вчера ночью какие-то парни подожгли мусорный бак. Впервые я наблюдал такое бешенство, такую силу: они пинали его что было мочи, пытались опрокинуть! Их свирепая злоба явилась для меня настоящим чудом. Мне так хотелось, чтобы ее огонь поглотил все вокруг! Мне казалось, что бензин повсюду, даже в реке, и я мечтал, чтобы она вспыхнула. А потом хлынул ливень. Река разлилась, вода под мостами вышла из берегов, увлекая за собой баржи и причалы. Перевернутые лодки неслись в сторону моря, посреди неудержимых, точно подводные ключи, потоков воды. А теперь все покрыто слоем грязи, город выглядит младенцем в сероватой плаценте. И мне страшно. Не знаю, хватит ли у меня сил тебя дождаться. Наша палатка пропала. Когда-то мы хотели совершить кругосветное путешествие, ты помнишь? Г.
Я подписывался первой буквой имени, старался избегать мужского рода. Боялся, что письмо могут прочесть. Хоть казарма и не тюрьма, но суть одна и та же – наводящее ужас здание, обнесенное колючей проволокой.
Я с трепетом ждал его писем. Они хоть как-то скрашивали мысль о разделяющих нас километрах. Марка с почтовым штемпелем и помятый почтальоном конверт были мне дороже всего на свете. Казалось, я живу в прошлом тысячелетии, когда на свете еще существовали герои, когда каждая весточка была пропитана кровью. Я внюхивался в тонкие конверты. В этих длинных письмах он писал мне о полных мелочей, ничем не примечательных буднях. «Паек так себе, но есть можно. Теперь я умею ползать по-пластунски. Я научился стрелять». Он и вправду казался туповатым солдатом, у которого была далекая благая цель, не имевшая ни малейшего отношения к его собственной жизни. Его пугала моя настойчивость. Но чего ему было бояться? Того, что я пришлю ему фотографию своего возбужденного члена с припиской «С любовью, Гвидо»? Когда он звонил из одной и той же телефонной кабины, я слышал, как гулко и слишком уж быстро проваливаются в автомат жетоны. Я укорял его за холодные письма, на что он мрачно отвечал, что не умеет писать так же цветисто, как я. Я представлял себе, как он стирает белье, как сидит на раскладушке и ест печенье, как ему на брюки сыплются крошки, думал о его бритой макушке. Я брал тонкие страницы и смотрел на них против света, и тогда они начинали светиться, а слова смешивались. Оставалась лишь тонкая вязь синих узоров, искусное кружево его почерка. Я старался разглядеть за этим узором другое письмо, более нежное, более страстное, написанное невидимыми чернилами. Я искал очертания букв, которых не разобрал бы никто, кроме меня. Я старался прочесть то, другое письмо.
Сидя в зале ожидания, я думал об отце, о том, что бы он сказал, начни я разговор на эту тему. Я представлял себе, какое у него сделается лицо, когда я скажу о том, что люблю мужчину. Не всех, а его одного, единственного. Моего мальчика. Моего нежного, доброго, отважного друга. Моего Говинду.
Думаю, он бы просто не поверил. Ведь у меня были девушки, и многие из них заходили ко мне в комнату, а я запирал дверь на ключ и включал музыку на полную катушку. Он бы только рассмеялся: «Ну и шуточки у тебя, Гвидо!» Я был совсем не похож на тех, кому нравятся мужчины. Я никогда не отличался застенчивостью, не трогал мамины вещи, не был слишком впечатлительным. Видишь, папа, дети консьержа заняли наши сердца, привыкшие к горю и одиночеству!
Костантино был на дежурстве, так что мне пришлось прождать целый час, если не больше. Я в одиночестве гулял под портиками аккуратного, надраенного до блеска провинциального городка. На площади раскинулись прилавки рождественской ярмарки, в тумане витал запах жженого сахара и сосисок на гриле. Вдалеке, за крышами австро-венгерских дворцов, точно горы дутого хрусталя, виднелись вершины Альп. Над улицами были развешены разноцветные лампочки, гирлянды целующихся ангелочков, звездочки. Я останавливался у маленьких, украшенных к празднику витрин, заглядывал в окна парфюмерных магазинов, разглядывал магазинчики, где продавали снаряжение для альпинистов, дубленки и непродуваемые куртки. Все эти вещи словно свидетельствовали о том, что где-то есть другая жизнь, в которой тепло и можно укрыться от ветра и холода. Я потер руки, согрел дыханием краешек шарфа. Меня переполняла радость, – казалось, от соприкосновения с блестящей изморозью горного воздуха моя душа очистилась. И хотя нам пришлось так долго страдать, теперь все это останется в прошлом. Мы больше не будем бежать от себя, не будем мучить друг друга, – по крайней мере, я точно не буду. Мне хотелось сказать ему об этом.
Среди этих чудесных улочек, украшенных мерцающими в тумане огоньками, дрожащими, точно пламя свечей, с которыми служки шествуют вокруг алтаря, мне вмиг стало все ясно и очевидно. Нам нужно бежать из этого дряхлого города, затянувшегося петлей вокруг шеи. Кем я мнил себя все эти годы? Ничтожный, нелепый персонаж, бесталанный хвастун. Но теперь все будет иначе. Костантино разом прояснил мне все. Моя грудь вздымалась так, словно я был только что сотворенным ангелом. Туман опускался все ниже и ниже, он завис в конце улицы в проеме каменной арки, которая теперь казалась вратами в другой мир. «Ворота в рай», – подумал я.
Я очутился в туманной лагуне. Выложенная внахлест каменная мостовая образовывала длинные полосы-меридианы, и казалось, что они движутся, кружатся вокруг романского собора, словно волны. Я прошел вдоль паперти и толкнул боковую дверь. За ней на меня, как всегда неожиданно, обрушилась глубина церковного чрева: центральный неф, огромные колонны, приподнятый амвон. Лестница вела вниз, в крипту.
Там была капелла, от пола до потолка заполненная человеческими костями, вдоль стен – витрины с черепами. Я кинул монетку, взял свечку и воткнул ее в железный свечник рядом с такими же, но уже догоревшими свечами. Длинный белесый ряд оплывших свечей, которые никто не позаботился убрать. Я стоял и смотрел, как воск стекает по свече, и думал о тех душах, которые перешли в мир иной, и о том, что все мы когда-нибудь последуем за ними. Когда-нибудь эта бессмысленная борьба закончится. Я думал и о том, что кому-то легко исполнить свое предназначение и они быстро достигают цели, другим же суждено вечно сомневаться и умереть с чувством горечи и разочарования… Мы – только мелкие штрихи на огромной картине. Чтобы закончить ее, требуются десятки поколений, и только тогда она заблестит во всей своей красоте. Я вспомнил маму, ее благородные черты, и мне почудилось, что она обернулась и окликнула меня. Я решил продать ее драгоценности и показал их ювелиру из еврейского квартала. Особенно ценным оказалось одно кольцо, которое Джорджетта никогда не снимала, – с огромным рубином кровавого цвета. И когда в детстве я смотрел на этот камень, мне казалось, что я чувствую, как бьется мамино сердце. Вырученных денег вполне бы хватило нам с Костантино, пока мы будем потихоньку искать работу.
В восковом мареве свечей – человеческих душ я видел милое мамино лицо, она приободряла меня. И впервые после пережитой потери, с которой я так и не смирился, я понял, что она оставила в моем сердце неожиданный след и что мне передалась мамина смелость.
Я посмотрел на часы, еще немного побродил по городу, охваченный трепетным ожиданием встречи. Я чувствовал каждую клеточку своего тела, каждую мышцу, каждую вену, ощущал, как легко приподнимается пятка, как под тканью носка и под кожей движется белоснежная кость.
Пора было идти за Костантино. Скоро в этой комнате со стеклянной будкой, которую я уже успел рассмотреть, возникнет любимое лицо. По дороге я заметил подвальчик, маленькую забегаловку с деревянными столиками, застланными бумажными скатертями. За одним из них сидели два старика, перед ними стояла бутылка. Я прижался носом к стеклу, стараясь разглядеть что-нибудь еще. Мы могли бы пойти туда, расположиться за столиком под старинной гравюрой, заказать сыр и бутылку вина. Но вдруг Костантино устал и хочет поспать?.. Тогда мы сразу пойдем в гостиницу, я уложу его в кровать, положу его голову к себе на грудь и стану ждать. К чему спешка? Спешить больше некуда, подождем до завтра. Нам нужно о многом поговорить. Он прислал мне бледную фотографию, сделанную в автоматической кабинке. На ней у него вытаращенные, как у заключенного, глаза, тугой форменный воротник впивается в шею. Я часами смотрел на нее и прижимал к груди. Я вдруг почувствовал, что задыхаюсь под тяжестью собственной жизни, в которой чересчур много озлобленных и болтливых людей. Мне нужно было поскорее увидеть Костантино. Увидеть его приплюснутый нос, подбородок, шрамы на лбу, посмотреть в его большие добрые глаза и постараться понять, что он хочет сказать, хочет ли он быть со мной. Я силился припомнить его черты – и не мог. Быть может, с образом мамы произошло что-то подобное? Я знал, так всегда бывает: случайные лица отпечатываются в памяти неизгладимо и навсегда, а лица любимых вдруг расплываются и становятся неразличимы.
Я вернулся к огромному зданию казармы, окинул взглядом решетки на узких окнах, в некоторых горел свет, другие были темны. Где оно, его окно? По телефону он сказал, что в комнате с ним живут еще пятеро: трое с Сардинии, один из Анконы и сицилиец.
Я снова вернулся в комнату, где полагалось ждать. Постовой уже сменился, за стеклянной перегородкой стоял теперь другой солдат и заполнял какой-то журнал. Я купил Костантино подарок: толстый шерстяной свитер, связанный в две нити. Я долго проторчал в дорогом магазине. Милая продавщица средних лет, встав на лесенку, опустошала полки. Она разворачивала один свитер за другим, но я сразу нацелился на тот, что был на манекене в витрине. Теперь я не мог дождаться, когда вручу ему свой подарок. Мне хотелось увидеть, как мягкая шерсть обовьется вокруг его шеи, обтянет спину.
Ждать пришлось довольно долго. Я прижимал к себе пакет со свитером и чувствовал себя матерью заключенного, дожидающейся часа свидания. Парень на вахте спросил, кого я жду. Я назвал сначала фамилию, потом имя, как в школе:
– Керубини Костантино.
Керубини Костантино. Пока я произносил это имя, я чувствовал, как его звук разливается по мне, проникает в меня, как тело падает в глубокую, точно колодец, яму и отзвук отражается от стен бесконечным и гулким эхом. Керубини Костантино. Имя, которое я презирал, над которым смеялся. Имя, которое в этот зимний вечер стало для меня всем. Словно железный крюк, который альпинист вбивает в гранитную скалу.
– Ты его брат?
– Нет, просто друг.
Это слово показалось мне таким жалким и лживым. Я начал прохаживаться взад-вперед, насвистывая итальянский гимн. Парень сказал, что свистеть запрещено. Я занервничал. Снял резинку с запястья, собрал волосы в хвост. Шмыгнул носом. Парень смотрел прямо на меня:
– А ты служил?
– Меня не взяли.
– Почему?
– Я шизофреник.
Рядом со мной сидели две девицы и болтали. По меховому воротнику одной из них рассыпались длинные, приятно пахнущие волосы. Другая – щуплая, в легком, не по сезону, плаще, постоянно растирала себе предплечья. Они поздоровались со мной, вышли покурить, потом вернулись. Видно, что им-то не впервой ждать в этой комнате, что они торчат здесь постоянно. Очевидно, метят кому-то в жены.
Я сидел неподалеку от будущих женушек и прижимал к себе красивый бумажный пакет со свитером. На мне была косуха и джинсы, почему-то вдруг стало смешно. Я чувствовал себя светлым ангелом, преодолевшим убогие границы мира, который делится на женщин и мужчин, примерных дамочек и тупых солдафонов, словно в нашей жизни все разложено по полочкам.
Костантино вышел в компании других солдат. Я вскочил и помахал ему. Он слегка улыбнулся, быстро осмотрелся. Он сильно похудел, щеки запали и слегка потемнели. Он наклонился, чтобы расписаться. Ручка выпала у него из рук, он поднял ее, поставил подпись. Я не шевелился, меня пронзило насквозь.
– Привет.
Он быстро обнял меня одной рукой, потом представил остальным. Я вполне дружески поздоровался, даже немного пошутил:
– Ну и холодрыга же здесь!
– В казарме и того хуже.
Смеясь, мы вышли на улицу.
Девица в плаще зря времени не теряла: она набросилась на своего жениха, он прижал ее к себе, и они стали целоваться. Другой солдат обнимал девицу в пальто с облезлым лисьим воротником. Она была намного ниже его, и потому ему приходилось сгибаться в три погибели. Мы молча смотрели на две пары спин. Слившиеся тела: крупное, мускулистое, сулящее уют и защиту и маленькое, взгромоздившееся на каблуки и распустившее перышки тельце, пытающееся завлечь самца.
Мое тело под курткой сжалось. Я надушился сандаловой водой, которая так нравилась Костантино. Он повернулся ко мне и сказал: «Пошли, Гвидо!» – и вот уже его дыхание повисло облачком в холодном воздухе.
За нами увязался третий: единственный парень, у кого не было девушки, сицилиец. Он был низкорослый и трещал без умолку, рассказывая одну историю за другой. От него уже веяло той грустью, которая обрушится на него, едва он останется один. Я смотрел на руку Костантино: она болталась, как сломанная лапа. Мне до смерти хотелось к ней прикоснуться, сжать ее. Сицилиец нырнул в бар, чтобы купить сигарет, а мы рванули на площадь.
Туман сгущался, казалось, что огни фонарей загораются на небе из ничего, без всяких проводов и столбов. Я шел за ним и слышал его дыхание, чувствовал желанный и близкий запах. Я взял его за руку, он не отдернул ее, а крепко сжал мою ладонь. Некоторое время мы шли вот так, в молочном тумане. Закованный в форму, он тянул меня за собой, точно полицейский, который тащит в участок напуганного воришку. Оказавшись в безопасности, мы обнялись – было уже невмоготу. Безопасным местом оказались наглухо задраенные металлические рольставни в первом же переулке. Я почувствовал, как где-то под ребрами колотится его сердце, как нежны его губы. Мы прижимались друг к другу, точно упавшие мешки с мукой, ни на секунду не отрываясь, стараясь вдохнуть как можно глубже. Мы прислонились к ставне, – железо загрохотало. Я повис у него на шее и замер, а он гладил меня по голове:
– Гвидо, Гвидо…
Звук моего имени, произнесенный его хриплым глубоким голосом, рожденный где-то в недрах живота и вырвавшийся наружу, минуя горло, был самым прекрасным звуком на свете. Он придавал мне мужества, разливался во мне и определял меня самого, дарил мне место и время, очерчивал контуры моего «я».
Под звуки рождественских песен, что доносились с площади, мы ласкали друг друга в жадных и ненасытных объятиях, точно хищные звери в брачном танце среди тумана. Совсем рядом люди спешили за подарками: магазины закрывались. Я накинулся на Костантино, схватил его берет и кинул на булыжную мостовую. Показалась его бритая макушка.
– Черт возьми, берет снимать запрещено!
Он наклонился, чтобы его поднять, но я снова подхватил его.
– Если начальство увидит, меня отправят в казарму и заставят драить сортир.
Я надел берет. Я подумал, что военный берет должен смотреться неплохо с моими волосами. Костантино замер и закачался, словно внезапно потерял равновесие. Тогда я почувствовал, что он все еще любит меня.
– Что?
– Ты самый красивый парень на свете.
Мы купили сладкой ваты, подождали, пока она немного не остынет, и принялись отрывать сладкие пушистые хвостики. Перепачканные ватой, мы шли и хохотали, а прозрачные невесомые кусочки мгновенно таяли во рту. Мимолетный и сладкий обман, как это было похоже на любовь! Пригоршня сахара, изменившаяся, чтобы раздуться в манящее сахарное облако, исчезающее при соприкосновении с горячим телом, точно зыбкие мечты влюбленного.
Мы остановились и посмотрели на горы, которые нависли над нами, грозные и печальные – разбухшие губки. В этих горах погибли многие. В сумерках скалы светились фосфорическим светом, среди них затерялись кости погибших солдат. В вышине извивались тропы, на вершинах стояли кресты, в скалах торчали заброшенные хижины. На какую-то секунду мы увидели их, в разреженном воздухе зазвенела песнь альпийских стрелков, мы различили звук их шагов, потому что наши души стали почти прозрачны. Это были призраки мальчиков, скитающихся в снежных горах и жалобно зовущих матерей. Мальчиков, погибших на Первой мировой, в последней войне старого мира, положившей начало миру новому.
Мария Бергамас, мать погибшего солдата, от имени остальных матерей выбрала один из одиннадцати гробов, выставленных в ряд в церкви города Аквилея. Лежавшего в нем солдата решено было с почетом похоронить вместо ее сына в память о тех, кто остался лежать в горах и лесах. Неизвестного солдата торжественно доставили в Вечный город и захоронили в Алтаре Отечества. Перед ним всегда стоит почетный караул. Это одна из самых печальных и романтических историй, которая стерлась из памяти современного человека. Те, что стоят на карауле у Алтаря Отечества, возможно, никогда ее не слышали. Но Костантино знал эту давнюю трогательную повесть в малейших подробностях. И теперь рассказывал ее мне в приливе патриотизма. Его широкая грудь вздувалась под формой, четкий профиль вырисовывался на фоне неба, как профиль статуи. Теперь я вспомнил, что история всегда ему нравилась, этот предмет давался ему как никакой другой. Наверное, потому, что для знания истории достаточно крепкой памяти. А мне история всегда казалась скучным предметом, бездонным сосудом, переполненным насилием и страданием. Он же помнил все даты, знал диспозицию войск в той или иной битве. Вот и теперь, в грубой военной форме с нашивками и звездочками, в военном берете, он ощущал себя частью Истории. Я жалел его: он казался мне таким наивным, совсем непохожим на меня. За это я его и любил. Он был частью иного, лучшего мира, который исчез задолго до того, как мы родились, где каждый умел отличить добро от зла. Костантино воплощал добро, в его взгляде читалась детская гордость: вот почему он был мне так дорог.
Подвальчик закрывался. Хозяин, в бордовом переднике, с виноватым видом принялся нас выпроваживать: приближалось Рождество. Мы купили сыра, хлеба, бутылку вина и ушли.
Вокруг каменной арки, что стояла во внутреннем дворике маленького уютного пансиона, летом обвивался пышный виноград, теперь же она была покрыта тонкими засохшими ветвями, похожими на паутину. Мы подождали, пока нам выдадут ключ, положили паспорта на стойку. Невысокий хозяин в потертом халате включил свет у темной лестницы и проводил нас до комнаты по узким чистым ступенькам. Мы закрыли дверь. Впервые в жизни мы находились одни в комнате с огромной кроватью. Я боялся, что что-то пойдет не так. Мы никогда не были близки и откровенны друг с другом. «Быть может, так будет всегда», – подумал я. Ведь мы мужчины, это наша судьба. Но нам хотелось быть другими, не такими, как все. Хотелось заявить о том, что мы верны своему желанию.
Я всегда был смелее, из нас двоих именно я был без тормозов. Но в этой комнате все изменилось. Я подумал, что мне придется быть женщиной. Потом решил, что будет наоборот. А потом сказал себе, что, если все будет продолжаться, мы придумаем какой-нибудь романтический ритуал, но не тот, какому следуют верующие в церкви, а свой. Чтобы все движения были продуманны и выверены – так птицы взмахивают крыльями, направляясь на юг, подчиняясь голосу инстинкта. А что же ожидает нас? Я скинул рубашку, свитер, расстегнул пуговицы. Торс оголил за какие-то секунды – одно движение рук, и вот уже мои вещи валяются на полу. Это все, что я сделал. Потом я сел на кровать и почувствовал, что замерзаю. От холода мои соски затвердели, словно лесные орехи. Я был не из тех, кому нравилось раздеваться на людях, но мне хотелось показаться ему обнаженным. Понять, нравлюсь ли я ему, как прежде. У меня не было теплых грудей, я не знал женских хитростей, не умел краситься. Я чувствовал, как становлюсь все меньше и меньше. Зато у меня были длинные, как у ангела, волосы. Это все, что я мог ему предложить. Я сидел на кровати и ждал, когда он подойдет.
Мы смотрели друг на друга, и оба думали об одном: это первая гостиница, а за ней будут еще. Это первый шаг на длинном пути испытаний.
Его аккуратно сложенная форма оказалась на стуле. Он разделся прямо передо мной, методично, точно портной, соединил штанины, осторожно сложил на стуле на против нас защитного цвета форму. Он оказался еще нетерпеливей, чем я. Я смотрел на него, не веря своим глазам. Я и подумать не мог, что в нем таится такая страсть. Исчерпав меня до конца, он снова стал прежним, обычным голым мужчиной. Сел и закурил.
Мы развернули свитер, и я подумал, что он еще никогда не получал таких подарков. Я увидел, как его голова вынырнула из красного шерстяного ворота, в точности так, как я недавно себе представлял. Мы поели прямо на кровати, допили вино и стали играть, как два солдата-срочника. Он носился за мной с бутылкой, а я с криками убегал, запрыгивал на кровать и спрыгивал. Еще немного, и после такого погрома нас совершенно точно выставили бы из степенного пансиона.
Мы вышли на улицу.
Перед нами возвышалась романская церковь. Туман сгустился, и ночной пейзаж выглядел абсолютно нездешним, волшебно-лунным. На паперти толпились опаздывающие на ночную службу прихожане, укутанные дети, молодые пары, старики и старушки. Казалось, они возникали из ниоткуда, выплывали из-за невидимого горизонта – молочно-белые фигуры, выстроившиеся в ряд в ожидании Страшного суда.
Костантино снял берет, обмакнул пальцы в святую воду и перекрестился. Меня родители не крестили. Но мне не хватало только самого факта крещения, все остальное во мне уже было. Я чувствовал себя совершенно нагим и беззащитным. Мне оставалось жить здесь, на земле, трудясь во прахе и тлене собственного сознания. Крещение как шаг к свободе с детства казалось мне слишком простым путем. Не крестив меня, мои родители словно передали мне свое представление об окружающем мире, на который смотрели с холодным превосходством, они сразу возложили на меня ответственность за собственную жизнь и за то, что в ней происходит. Однажды, незадолго до маминой смерти, я брел в сторону Борго Пио вне себя от боли. Я заглянул в одну из лавочек, где торгуют церковной утварью, религиозной литературой, статуэтками Богоматери, и купил там дешевые четки. Ночью я обмотал пластмассовыми бусинами посиневшие и холодные пальцы моей госпожи. Она сжала руку, четки исчезли. Провалившись в безумный сон, стуча зубами, Джорджетта принялась молиться, и я поразился тому, что она все еще помнит слова молитв, которые произносила в далеком детстве, но ни разу не повторяла с тех пор, как выросла.
Мы постояли у входа. Сколько себя помню, я всегда садился в церкви поближе к выходу. Отсюда фигуры священников у алтаря казались размытыми в дымке благовоний, а звук их голосов отдавался далеким рокотом. Меня притягивал церковный обряд и та надежда на утешение, которую получали верующие. Но в то же время, движимый гордостью и переполненный сознанием своих недостатков, я всегда готов был подняться и уйти. Мы сели на скамью, не собираясь задерживаться. Служба началась. Дети в белых одеждах потянулись вперед, а хор запел праздничную молитву. За органом сидела монахиня с маленьким обезьяньим личиком. Церковь была переполнена: нас согревало дыхание паствы Христовой, от прихожан веяло сытостью рождественского ужина, из кадила вырывались облака фимиама. Я положил голову на плечо Костантино, нащупал в кармане его руку и сжал. С нами сидела бледная старушка, укутанная в каракулевую шубу, словно в саван.
Прочли отрывок из Евангелия про ясли и Младенца, рожденного от Небесного Отца. Младенца согревало теплое дыхание животных. Старая как мир история, но казалось, что Костантино вот-вот расплачется. Наверное, он переборщил с выпивкой и теперь казался подавленным, погруженным в какие-то мрачные мысли. Он испытывал чувство вины за греховность собственной плоти. В пламени рождественских свечей сгорали и мы, далекие от внешнего мира. Как хорошо, как удивительно было стоять среди незнакомых людей, смотреть в их строгие лица. Такие лица у всех, кто живет в горах. Здесь мы были чужими, так что ни у кого не было причин любить нас или ненавидеть. Мы – влюбленные, усталые, запутавшиеся мужчины. Мы – содомиты, голубые. Мы – тело, скрученное болью. Костантино шевелил губами и, как ребенок, напевал вслед за остальными: «Воспойте Господу, вся земля, прииди, Господи, если любишь меня».
Священник возгласил: «Мир вам», и, согласно обряду, мы обменялись рукопожатиями со стоявшими вокруг. Можно подумать, эти милые люди приветствовали нас, как новобрачных.
Мы отстояли службу и потянулись в сторону придела, где установили вертеп с Младенцем Иисусом. Вслед за детьми, вслед за старушкой, укутанной в каракулевую шубу. Потом спустились к братской могиле. Костантино преклонил колена и зашептал молитву. Я просто стоял и считал выставленные черепа, но быстро устал: их было слишком много.
На улице свирепствовал ветер.
Костантино шел медленно – он задыхался, и его тело рассекало воздух, точно острый нож. Мы пересекли привокзальную площадь. Казалось, ветер вот-вот поднимет и закружит нас, сорвет наши одежды. Я замерз.
Бар у вокзала оказался закрыт, на земле под дверью спали двое: мужчина и женщина. Мы прошли совсем рядом. Тела, завернувшиеся в грязные спальные мешки, походили на трупы.
Мы остановились возле той самой кабинки, где Костантино сфотографировался для меня в форме. Присели на скамейку, обнялись в ожидании вспышки.
Дверь в зал ожидания была сломана и непрерывно хлопала о стену, в зале гулял ветер. Я держал фотографии в руке и дул, чтобы краска подсохла. «Я плохо вышел», – сказал Костантино, но это было не так.
Он оглядывался по сторонам, словно чего-то боялся, засунул в карманы сжатые кулаки. Я различал их сквозь грубую ткань гимнастерки. Мужские и в то же время детские кулаки. Он стоял в зале ожидания для пассажиров второго класса и, опустив голову, молчал, погруженный в мрачные думы. Возможно, его смутило или оскорбило то, что между нами произошло, и он не хотел посвящать меня в свои мысли.
Нет, не об этом мы мечтали, если у нас вообще когда-нибудь были общие мечты. Кто знает, думал ли он о жизни со мной. Возможно, думал, но не понимал, как это осуществить.
Он задумался, вытащил сигарету и засунул ее в рот обратным концом, ругнулся, сплюнул табак. Я тоже взял сигарету, зажег, засунул меж сомкнутых губ. Потом на несколько секунд задержал дым и медленно выпустил ему прямо в лицо. Он открыл рот, напряг скулы и снова стал похож на задыхающуюся рыбу.
Он никогда бы не осмелился показаться на глаза матери и отцу, причинить им такую боль. Они уважали традиции.
Когда я думаю об этом теперь, мне кажется, что, будь я тогда сильнее, останься я в том зале, развались на земле, как двое в спальных мешках, не сбеги я тогда, все было бы иначе. Мне надо было стоять напротив казармы и ждать день за днем, в стужу и зной, но дождаться, пока он не примет решение. Мы выросли вместе, но вместо того, чтобы объединить, это сделало нас лишь слабее и жестче. Мы не доверяли самим себе и друг другу.
Кто сказал, что мужчины ничего не боятся? Мужество приходит с годами, с пережитыми ошибками, с каждым шагом пройденного пути. Тогда я еще на что-то надеялся. Нам было по двадцать лет – вся жизнь еще впереди! Костантино был человеком из моего детства, из жизни, которая, закончившись, должна была остаться позади. С другой стороны, в те годы я был уверен, что никогда не поздно вернуться назад. Мы ведь могли остаться хорошими друзьями. Друзьями, которые узнали друг друга чуть больше, и только.
Я рассказал ему о Лондоне. Сказал, что, когда он закончит службу, он мог бы поехать в Англию и мы бы поселились вместе в свободном и полном амбиций городе. Там мы могли бы быть собой. Но пока я говорил, мой пыл понемногу угасал, и я отвлекся. Я думал, что по-прежнему обращаюсь к нему, но оказалось, что я говорю сам с собой и слабый звук моего голоса не может вырваться изо рта. А хлопающая дверь словно твердила: «Давай закругляйся, поднимай свою задницу и проваливай».
Я сказал ему и о том, что у меня осталось мамино кольцо, что денег хватит надолго:
– Этих денег хватит на двоих!
– Я не твоя содержанка!
Он стоял, одетый в военную форму, замкнутый, напряженный, потерянный, плотно сжав ноги, точно испуганная девочка. Я не хотел походить на него, не хотел взваливать на себя груз чужой печали. Кровь предков тянула его назад, звала в мир униженных и оскорбленных, и ее зов был сильнее моего. Я уже сомневался, что готов взвалить на себя груз чужого тела, осененного благодатью крещения и переполненного чувством вины. Мне даже показалось, что Костантино подурнел.
– В чем дело?
– Ни в чем.
Я смотрел на его бритую макушку, на очертания черепа. Мне так хотелось обнять его, поцеловать, прижать к себе. Но гораздо проще было злиться и исходить желчью. Душу охватили уныние и пронизывающий холод. Двое мужчин, стоящие посреди убогого провинциального вокзала, связанные лишь темной страстью, ненормальным желанием.
Еще недавно, в той самой комнате, горячий запах наших тел мешался с дыханием животных, с запахом навоза и хлева, я думал об этом и возбуждался. Но через несколько секунд, когда мы, словно падшие ангелы, в изнеможении лежали на кровати, этот запах показался мне отвратительным и тошнотворным, точно запах гнилой застоявшейся воды. Я бросился под душ. Я чувствовал отвращение к самому себе и к тому, что еще недавно меня так возбуждало. Я жаждал унижения, хотел, чтобы все увидели, насколько я жалок. И Костантино хотел того же не меньше, чем я.
Я снова подумал о том, что все это так на меня не похоже, что он нарочно втянул меня в эту историю. Лишь часть меня – часть, где поселилась боль, отвечала на его зов. Он так легко и незаметно проник в тайник моей души. Я перестал себя уважать. Разумеется, он ничем не мог мне помочь. С ним я не стал бы ни мужественнее, ни взрослее, наши слабости окрепли бы еще больше, я стал бы его пленником. Мы так бы и трахали друг друга, стараясь заглушить боль.
Мы подошли к платформе. Костантино молчал и мрачнел – очевидно, опасался какой-нибудь выходки с моей стороны. В гостинице он набросил на телевизор полотенце, словно боялся, что с экрана за нами следят невидимые глаза. В форме он выглядел сурово и сдержанно, – казалось, он слился с новым образом. Он шел вперед гордой и чопорной походкой. Наверное, ему даже нравилось, что жизнь подчинена какому-то навязанному извне распорядку. Последние минуты прощания… В его глазах я заметил страх. Он боялся, что я разрушу эту новую жизнь, которая вполне его устраивала.
– Ты мне не веришь? – спросил я.
– Я только тебе и верю.
Его беспомощное тело не выходило у меня из головы. Он напоминал теленка, едва появившегося на свет. Мне хотелось сорвать с него берет и бросить на рельсы. Хотелось увидеть, как по нему промчится локомотив.
Перед тем как расстаться, мы поделили фотографии, и я заключил моего бравого солдата в крепкие мужские объятия. Я видел, как он уходил: ни разу не обернулся. Через какую-то секунду его уже не было видно.
Когда поезд миновал горный тоннель, я почувствовал, что у меня словно камень с души свалился: стремительно сорвался с горы – туда, где бежали длинные рельсы. Я дотронулся до груди, и мне показалось, что я вот-вот умру.
В душе зияла страшная пустота, огромный белый кратер на месте упавшего камня. И вот эта пустота, которую я так старательно хоронил в себе, теперь рвалась наружу, стремясь обрести форму и цвет, уцепиться за стену и вскарабкаться вверх диким свободным побегом. В этом бурном пробеле, проросшем из пустоты, я прозревал будущее.
—
Лондонская жизнь закрутила меня, я стал другим. Здесь я нашел все, о чем мечтал. Открытый, безумный город. В нем легко затеряться и дышать спокойно, но при этом каждый день приносит что-то новое, так что будь готов. Я никогда еще не видел столько людей, столько национальностей в одном городе. Я ощущал энергию оказавшихся здесь чужаков, испытывающих то же нетерпение, что и я. Я поселился в дешевом отеле в Кэмдене. Наверное, в купе поезда было просторней, чем в моей комнатушке. Частенько я спал даже не раздеваясь. На этаже находились общий душ, туалеты и паршивая столовка.
Я долго гулял по кварталу Сохо, удивлялся нелепому дизайну местных баров и заведений, разглядывал странноватых посетителей, бродил по рынкам, где продавали все, что угодно: от индийских конопляных чупа-чупсов и попперсов до антиквариата. Я стал завсегдатаем крохотных баров на набережной Темзы, где заказывал жареную рыбу, пристроившись на скамье рядом с сомнительными типами. Я читал при свете ламп засаленных забегаловок, пропахнувших пивом и древесиной, пока не наступало время уборки, и тогда девчонка-официантка принималась поднимать стулья. Когда начинало смеркаться, подтягивалась основная публика: затянутые галстуками джентльмены и юркие дамочки, заглянувшие в бар перед тем, как ехать домой.
Через полгода меня было не узнать: вельветовый пиджак с заплатами, широкий берет, грубая английская речь с примесью сленга, на каком говорят во время дебатов в Гайд-парке. Маргарет Тэтчер получила тогда свой первый мандат, уличные крикуны надрывали глотки, а молодежь реагировала на убогость социальной политики яркими шмотками, собственноручно пошитыми на швейной машинке, белеными лицами и льющейся из синтезатора музыкой.
Я устроился в бар на работу и часто вступал в разговоры с нашими завсегдатаями. Меня приглашали в гости: мне никогда больше не приходилось видеть таких странных квартир. На полу ванной лежали огромные медвежьи шкуры, на полках – китайские безделушки, кровати подвешивались на стены, точно планеты на небосвод. Амфетамин здесь продавали, как витамины.
Я подружился со студентами-искусствоведами из школы Святого Мартина. Они открыли мне новый мир: спектакли Ли Бовери, японские комиксы, в которых попадались даже намеки на Боттичелли. В те годы повсюду крутили «Like a Virgin». То было время расцвета всевозможных субкультур, гомосексуализма и кожаных прикидов. Человеческие тела превращались в ходячие скульптуры и свидетельствовали об экспериментах, которые ставили над собой все, кому не лень. Участвуя в этом бесконечном карнавале, можно было исследовать собственные наваждения, высвободить эмоции. Такое ощущение, что ты мог стать кем угодно, отказаться от единственного, навязанного предрассудками «я». Я ходил по краю пропасти. В любой момент я мог поскользнуться и очутиться в чужой постели с любым из актеров этого спектакля. Но я отшатнулся и кинулся прочь. Этот хоровод безумцев подтолкнул меня к женщинам.
Благодаря Мирне, которая работала преподавателем йоги, и Пегги, из агентства недвижимости, я познал женское тело и стал причастен его глубокому и неповторимому наслаждению. Я научился легонько касаться языком женского уха, сплетать пальцы с хрупкими девичьими пальчиками, двигаться губами по нежной коже вдоль позвоночника. Я познал наслаждение и понял, что если не спешить, то можно уподобиться Богу. Глядя в женские глаза, я пришел к выводу, что английские мужчины не представляют собой ничего особенного. Чтобы сдерживаться во время секса, им приходилось предварительно напиваться. Я же мог потерпеть и постепенно понял, что терпение для женщины – это главное. В терпении проявляется материнский инстинкт: матери терпят, когда младенцы сосут их грудь, играют с нею, целуют… Я научился не стесняться себя и спокойно ходил нагишом по чужой квартире, варил кофе и почесывал яйца, пока моя девушка сидела в офисе где-нибудь в Сити или работала в забегаловке, где подторговывали наркотой. Я прожигал жизнь в барах, принимал наркотики, ходил на спектакли и концерты андерграунда. Работал обычно ночью, а до обеда спал. В воскресенье я, с распухшей головой, несся в Гайд-парк, куда подтягивались такие же бледные юнцы, чудом пережившие чудовищную субботнюю попойку.
Я сменил уже пять съемных квартир. В последней моим соседом оказался норвежец по имени Кнут. Его сексуальная ориентация меня не смущала. Я часто слышал по вечерам, как он, шатаясь, вваливался в квартиру c очередным дружком. Потом раздавался грохот, а вслед за ним ругательства и причитания. Единственное, чего я боялся, так это того, что завяжется драка и кто-нибудь опрокинет мою новую аудиосистему. Я регулярно закупал продукты, но холодильник неизменно пустовал: гости Кнута уминали все подчистую. Дошло до того, что я стал прятать вещи и брюзжал, как старая дева, из-за грязи в сортире и прочих мелочей.
Изредка Кнут брал на себя заботы по хозяйству (он действительно отлично готовил и, вообще-то, был отличным парнем), и тогда мы болтали и спорили на разные темы до глубокой ночи. Он рассказал мне о детстве. Его мать была учительницей музыки, а бабушка прославилась как первая женщина-пилот из Норвегии. Вскоре под мостом Блэкфрайарз обнаружили труп Роберто Кальви, с кирпичами в карманах[3]. Кнута привлекали международные заговоры и интриги банка Ватикана. Рим казался ему загадочным и невероятным, ведь в нем находился священный Ватикан, где бродили люди в туниках и все было пропитано тайной.
Я никогда не рассказывал ему о своем прошлом. Ни разу не произнес имени Костантино. Так что он не подозревал о моей тайне. Однажды вечером (из колонок как раз доносилась песня Джимми Сомервиля) он попытался поцеловать меня и ухватил за задницу. Я как раз стоял у плиты и напоминал заботливую женушку. Я резко одернул его, и больше такого не повторялось. Кнут был идеальным другом: заботливым, умным, немного взбалмошным, но при этом вполне нормальным. Глядя на него, я узнал, как жестоки бывают друг с другом мужчины, как партнер оказывается ненужной игрушкой, как унижают некрасивых парней, превращая их в забаву на одну ночь.
Все отношения возникают тогда, когда мы чувствуем, что нам чего-то не хватает. Мы приносим себя в жертву тому, кто отлично заполнит собой зияющую мучительную пустоту у нас внутри. Постепенно предмет любви начинает манипулировать тобой, хозяйничать в твоей пустоте, причиняя радость или боль. И если отношения строят мужчины – ощущение пустоты бесконечно, ее просто невозможно заполнить. Еще никогда мне не приходилось видеть таких страданий. Очертя голову Кнут бросался в самые страшные истории и, даря новому подонку букет цветов, до конца верил, что все будет хорошо. Он был компьютерным гением, закончил Кембридж. Он придумывал совершенно невероятные вещи и даже не думал о том, чтобы заработать на них. Словом, истинный художник. Он не спал по ночам, а утром быстро принимал душ, варил кофе литрами, залезал в узкий синий костюм и без зонта под проливным дождем направлялся в сторону японской компании, где и работал.
Он-то и привел меня в то самое место. Если не ошибаюсь, это был мой день рождения, мне исполнялось двадцать три года. Мы отправились на улицу красных фонарей, неподалеку от Сохо, туда, где тусовались проститутки и их немногословные клиенты, а в витринах красовались фаллоимитаторы и хлысты. Мы прошли в дверь, обитую вельветом. Мне никогда не приходилось видеть такого унизительного и отталкивающего зрелища. Оно слишком далеко выходило за пределы гомосексуальных фантазий. Лжеполицейские, фассбиндеровский Керель, вертящий голым задом, и другие актеры разводили ягодицы, демонстрировали сфинктер и изображали половой акт.
Кнут и его приятели были здесь постоянными клиентами; не смущаясь, они засовывали купюры стриптизерам в трусы, высовывали языки и причмокивали.
А над ними развевался светящийся занавес с изображением флага ее величества королевы. Из-за патриотичного занавеса быстро появлялись стриптизеры самых разных национальностей и так же быстро исчезали с другой стороны. Эти ребята зарабатывали себе на жизнь, – быть может, они оплачивали этими деньгами учебу или отсылали их далеким покинутым семьям, завязшим в бывших английских колониях.
Кнут и его приятели разбрелись по комнатушкам, где действо продолжилось уже в другой обстановке. Но прежде чем уйти, Кнут улыбнулся и положил руку мне на плечо:
– Попробуй, может, понравится. Вот увидишь – все это не так уж и мерзко.
Я подождал, пока они не исчезнут в норках, где сцепятся в эротическом танце. Потом еще немного постоял, но, так как я не давал денег и не хлопал в ладоши, псевдоматросы очень быстро от меня отстали. Я вышел на улицу, прислонился к двери магазина и принялся мастурбировать. Это был один из самых унизительных моментов в моей жизни. Чьи-то голоса раздавались всего в нескольких метрах от темного угла, в который я забился, а я вспоминал о той ночи, когда Костантино склонился и впервые поцеловал меня. Тогда я почувствовал, что принадлежу ему раз и навсегда и что я готов за него умереть, точно жертвенный агнец.
Постепенно я стал разочаровываться в лондонской жизни. Она уже не казалась мне такой блестящей, погода была ужасной, повсюду сплошные туристы, двухэтажные красные автобусы надоели, везде витал запах специй и прогорклого масла. В недрах общества, поросшего мхом традиционализма, царили крайности, переходящие в полный беспредел. Караул у королевского дворца продолжал сменяться, потешные и глупые живые марионетки продолжали маршировать, извечные газетчики напротив Музея восковых фигур продолжали кричать… Кольцевая дорога и бесконечная нищета. Вся эта показная свобода несла в себе отголоски социальной обездоленности. В Брикстоне чернокожие эмигранты, взбешенные введением налогов на избирательное право, избили, а затем подожгли куклу, изображающую «железную леди». Еще вчера такие интересные и разносторонние, сегодня лондонцы уже не казались мне такими открытыми, от них повеяло лицемерием. Бисексуалы и наркоманы ровно к завтраку заявлялись в дома своих степенных бабушек, где на окнах висели клетки с неизменными канарейками.
Между тем я познакомился с Радией, девушкой арабского происхождения. Это была первая история любви, что-то значившая для меня. Радия стала той женщиной, с которой мне впервые захотелось остаться. Она была очень красива, изящная, хрупкая и в то же время подтянутая, спортивная, волосы собраны в хвост, глубокий взгляд. Она работала в организации Юнисеф. Радия была умна и образованна, независима, но в ней светилась какая-то давняя печаль, из-за которой она в один миг могла вдруг обидеться и закрыться. Она напоминала молодую, но крепкую сосенку.
Мне показалось, что она влюбилась в меня, потому что я сразу почувствовал ее заботу. Она стала первой женщиной, которой я готовил теплую грелку, чтобы ослабить боль в дни месячного цикла, первой женщиной, которой я с нетерпением дожидался по вечерам. Я спускался по ступенькам ей навстречу, и мы обнимались прямо на лестнице. Не знаю, была ли это любовь, но я хотел, чтобы Радия была рядом. Мне нравилось, когда на ее губах вспыхивала улыбка, но, если я грустил, она исчезала и уголки полных губ мгновенно опадали, точно мертвый шмель. Она стала первой женщиной после мамы, которая что-то для меня значила. Наша сексуальная жизнь была страстной, но, может быть, излишне наполненной взаимным уважением. Я обожал Радию, целовал ее ноги, волосы на красивом лобке, боготворил четкие, точеные линии ее тела. «Цветок Аллаха», – шептал я ей.
Однажды ночью, когда я вдруг почувствовал себя совершенно обезоруженным, я рассказал ей о Костантино. Всего несколько слов, но она все поняла. Она происходила из страны, где отношения между мужчинами были обычным делом, несмотря на строгость законов. Радия погладила меня по голове, мысль о том, что когда-то я так сильно страдал, а ее не было рядом, огорчила ее. Она мечтала о Риме. Я тоже думал, что ей бы там понравилось. Я рассказывал ей о великолепии Рима, рисуя одну за другой картины Вечного города, закат в римском гетто, лестницу холма Пинчо, рассказывал, как выглядят стены Регина-Коэли, если смотреть на них с Яникульского холма. Глядя на собственный город глазами человека, который никогда там не был, я впервые ощущал ностальгию. Радия обожала историю искусства. Она была лично знакома с Эрнстом Гомбрихом и посещала его семинары по Варбургу. Мы часто ходили в художественные галереи и музеи. Она-то и посоветовала мне пойти в Институт искусства Курто, и тогда мозаика моей жизни наконец сложилась. Теперь я уже свободно владел английским и благодаря дяде имел кое-какую подготовку. Я не общался с ним несколько лет, наш последний разговор был про скульптуру «Рука Творца». Теперь он казался мне совершенно абсурдным. Я тогда страшно разнервничался, мне нравилась эта скульптура: два совершенно гладких тела, покоящиеся на ладони Создателя, и грубый, неотесанный серый камень вокруг них – символ материи, из которой они были созданы. Бог и Его творение. Рассеянно кивая, дядя подождал, пока я не выговорюсь, а затем поднял кирку и вскоре не оставил камня на камне от моих доводов. «Это грубая, незаконченная работа. Твой Роден – жалкий традиционалист!» Я знал, что на самом-то деле он вовсе так не думал, ему просто хотелось поставить меня на место. Я же потерял голову, схватил его за отвороты халата и дернул на себя. «Роден первым понял, что произведение заканчивается лишь вместе с художником!» – взревел я. И ушел не попрощавшись.
Во время телефонного разговора дядя был сдержан, но в его голосе мне удалось расслышать отголоски гордости. Его длинное рекомендательное письмо пришло заказной почтой и стало решающим для моего зачисления. Я был готов продолжить свой прерванный путь. Я сделал на плече татуировку в виде обезьяны: символ мудрости и знания и вместе с тем распущенности и небрежения.
Я выбрал специализацию: искусство эпохи Возрождения. Осветлил волосы, как у Дэвида Боуи, и в то же самое время подрабатывал в салоне, где проводили аукционы. Наклеивал ценники на старые серебряные чайники и картины со сценами охоты на лис.
Не знаю, кто из нас изменился первым. Так всегда бывает: достаточно зациклиться на какой-то мелочи, зацепиться за случайный жест. В нашем случае такой мелочью оказалась бельевая корзина. Мы поспорили, кто понесет белье в прачечную. Обычно мы тащили его в воскресенье утром в одну из ближайших прачечных, запихивали наши вещи в стиральную машинку, кидали монеты и ждали. Это всегда было приятным занятием: пока шла стирка, мы могли спокойно поболтать или пойти выпить кофе. Но в то утро Радия положила свои вещи отдельно от моих и заявила, что их следует стирать в другом режиме. Прежде такого не случалось. Каждый из нас сидел напротив полупустой машинки, и я понял, что мы никогда не поженимся, что все, о чем мы мечтали, о чем говорили, никогда не произойдет. Радия была серьезной девушкой, возможно даже слишком серьезной, в ней была какая-то мудрость, но с оттенком горечи. Каждый раз, когда она сталкивалась с препятствием, она затихала, смотрела и словно чего-то ждала. «Я хочу ребенка», – сказала она ни с того ни с сего и вдруг остановилась, внимательно разглядывая пару, выгуливающую щенка. Мы расстались спокойно, без сцен и скандалов, она просто сложила свои вещи и ушла. Я жил тогда в ужасной квартире недалеко от метро, на первом этаже, а окна с опущенными жалюзи выходили прямо во двор, недалеко от подъезда. Первый человек, которому я открыл все свои тайны после стольких лет, бросил меня и ушел. Быть может, Радия почувствовала, что-то со мной не так, я не способен дать ей то, в чем она нуждалась, и она не в силах это изменить.
Я страдал. Я привык спать рядом с ней, слышать ее дыхание, оно меня успокаивало. Несколько месяцев я надеялся, что случайно увижу ее, и мы проведем вместе всю жизнь, все долгие годы после нашего расставания – годы спокойной правильной жизни, которые оказались возможными только благодаря ей. Я спрашивал себя, где-то она теперь и удалось ли ей обрести то счастье, какого она заслуживала. И только много лет спустя, когда другая женщина попробовала посеять зерна чувства на поле моей души, я понял, как много труда вложила Радия в эту засушливую каменистую почву и сколь мало я оценил ее старания.
В галерее Курто я застрял перед автопортретом Ван Гога с отрезанным ухом. Как известно, Ван Гог полоснул себе по уху после ссоры с Гогеном. Я чувствовал, что этот художник похож на меня, как никто другой. Дядя научил меня отрешаться от первого впечатления и смотреть на мелкие детали, именно в них, по его мнению, содержалась психологическая сущность произведения. За плечами несчастного сумасшедшего висел плакат с японской гравюрой. Если подумать, выходило, что эта картина предсказывала мое будущее.
Я почти не показывал носа из дому, питался исключительно консервами, под разбросанными листами бумаги валялись заплесневелые огрызки. Я учился как одержимый, проглатывал том за томом, писал бесконечные статьи. Выпускные экзамены я сдавал в каком-то тумане. В последнем семестре я стал ассистентом профессора Баркли. Профессор свободно говорил на латыни, у него был весьма внушительный живот. Он проникся ко мне симпатией и всюду таскал за собой: на дикие попойки, на полигон, от которого он был в восторге; там я научился стрелять и даже обнаружил, что у меня это неплохо получается. В университете мне нравилось – нравились участники семинаров, нравилась библиотека, воскресные вылазки на природу, форель на гриле. Это была моя жизнь. Я нашел неплохую квартиру неподалеку от Стэмфордского стадиона. Меня радовали разные мелочи: ранний ужин, дисциплинированность очередей и то, что для лондонцев внешность и одежда не имели значения. Правда, иногда мне приходилось тяжело от того, сколь тщательно охранялось здесь личное пространство. Помню, однажды вечером мы с несколькими профессорами пошли в ресторан. За соседним столиком сидела наша коллега и весь вечер безудержно рыдала, но никто к ней не подошел, никто не поинтересовался, что случилось. Быть может, у нее умерла собака или муж изменил ей со студенткой – никто так и не поинтересовался.
Я читал итальянские новости и знал, что Пизанскую башню закрыли на реставрацию, а музей Геркуланума ограбили и вынесли самое ценное. Даже бронзового Бахуса, о котором я недавно делал доклад на семинаре.
Отец прислал приглашение на свадьбу. За все эти годы мы виделись лишь однажды: он прилетал в Лондон и останавливался в гостинице. Он совсем не изменился: все то же молчание, те же неловкие вопросы. Он никогда не умел вести себя на людях, а уж передо мной тушевался и подавно. И вот теперь, когда я принял решение обосноваться в Лондоне, было совершенно невероятно предположить, что мы можем провести вместе какое-то время, не смущаясь, не считая минут, чтобы поскорей встать и уйти. По телефону я говорил с ним о работе, рассказывал всякие байки. Я приглашал его в Лондон, потому что знал, что он не приедет. Для меня он перестал существовать в тот самый день, когда умерла мама.
Я нацепил приглашение на держатель для туалетной бумаги и, сидя на унитазе, смотрел на него несколько дней подряд. Потом послал телеграмму: «Приехать не могу. Наилучшие пожелания». Но внезапно в пятницу вечером оказалось, что я дома один. Напиваться не хотелось. Знакомая приглашала в загородный дом, почти в ста километрах от города. А потом позвонил Кнут и пригласил меня на глэм-рок. Я вызвал такси и поехал в аэропорт.
Самолет сел в Риме. С высоты я смотрел на светящиеся зелеными огнями полосы. В аэропорту было полно полицейских с собаками: в Персидском заливе шла война. Таксист рассказал, что иракцы захватили двух итальянских пилотов, и, разговаривая с ним, я заметил, что мой итальянский заметно пострадал. В последний год мне даже сны снились на английском. Мы пронеслись по длинному освещенному шоссе с флагами на высоких столбах и направились в щемяще-сладкое чрево столицы, а я таращился в окно, как настоящий турист, и немного робел.
Я шагнул в крутящуюся дверь гостиницы в центре города и поднялся на второй этаж, где проходило торжество.
Так случилось, что я сразу же увидел отца. Наверное, он шел в туалет. Его лицо горело, в костюме он казался смешным: живот выделялся, ни дать ни взять пингвин. Он все еще держался в форме и выглядел даже моложе, чем в день нашей последней встречи. А может, это я постарел. Я стал носить очки, а на голове уже образовалась плешь, прямо как у отца. Я брил макушку, но оставлял небольшую прядь пыльного цвета, спадавшую на лоб. Своим коронным жестом я откидывал ее в сторону, и одиночество исчезало. На мне была вельветовая куртка и льняной галстук, в руке – потертая кожаная сумка-кошелек. Теперь я точь-в-точь походил на своих холодных английских коллег.
Казалось, отец был невероятно рад моему приезду. Его глаза наполнились слезами, он подошел ко мне и смущенно заключил в объятия прямо посреди коридора, застланного ковролином. Перед дверью, за которой начиналась его новая жизнь. Я почувствовал, как он дрожит, – я застал его врасплох. Для меня было в новинку видеть его таким. Искренним, без тени притворства.
– Это самый лучший подарок, который ты мог сделать для нас, сынок!
Отец был уже немного навеселе, взял меня под руку и повел в комнату. Он представил меня гостям, которые сидели за сдвинутыми полукругом столами, накрытыми двойными скатертями. На столах уже выстроились шеренги бокалов. Некоторые приглашенные узнали меня и встали, чтобы поздороваться. Повсюду виднелись незнакомые лица – должно быть, новые друзья, шумная молодежь, все примерно моего возраста. Я стоял, окруженный людьми, и раздавал рукопожатия, сжимая горячие, вспотевшие ладони. Отец повторял как заведенный: «Мой сын, профессор Лондонского университета, мой сын». Я был не профессором, а всего лишь аспирантом, но промолчал. Мимо прошел официант, я взял бокал, а потом еще один. Я уже привык много пить и прекрасно знал, как быстро набрать нужный градус, чтобы казаться добродушным и приветливым гостем.
На меня посыпались нелепые вопросы: «Как там лондонская жизнь? Наверное, все дико дорого?» Я милостиво отвечал.
Мой отец повел меня к своему столику. Там в глубине, среди пустых стульев, сидели его двоюродные братья и сестры. Тетя Эуджения ни капли не изменилась. Те же короткие, как у священника, волосы, внешне приветлива, но готова тут же подняться и уйти. Я обнял ее с детской нежностью, потому что вдруг почувствовал, что мне необходимо увидеть кого-то знакомого, почувствовать что-то родное. Она тоже была сердечней обычного и приветливо меня обняла. Дяди Дзено не было среди гостей; впрочем, я и не думал его увидеть. Он никогда не пришел бы на свадьбу бывшего мужа своей сестры, которую тот променял на дочку консьержа.
Семья Элеоноры сидела на другом конце стола. Отец в одеянии гробовщика и мать с выцветшими от перекиси волосами. Ее деревенское лицо торчало над воротом пестрого жакета с огромными плечами. Казалось, им тоже не по себе. Они смотрели в большой зал и, прижавшись друг к другу, молчали. Увидев меня, они подскочили, их глупые лица вытянулись, точно они испугались, что я сейчас вышвырну их вон. Но я покорно пожал руку матери и похлопал по плечу отца, который очень сильно сдал за прошедшие годы.
Эта женщина ухаживала за моей матерью. Она делала ей уколы, стирала белье, а муж поливал наши герани. Бывшие слуги, готовые подняться по первому зову, сделать что нужно и сразу уйти. Теперь они стали тестем и тещей моего отца. Но на их лицах я не прочел особой радости. Они выглядели скорее сконфуженно. Они рассказали, что вышли на пенсию и вернулись на юг. В этом «юг» я вновь узнавал Италию, ее сущность, ее вечное деление на север и юг. Моя страна привыкла к тому, что существует «верх» и «низ» – чердак и подвал.
Элеонора кружила у столов под руку с какой-то подругой. На ней было элегантное, не вполне свадебное платье из бежевого атласа, усыпанное пайетками, с глубоким треугольным вырезом. Волосы были собраны в высокий хвост, на губах цвела довольная, торжествующая улыбка. Когда я подошел, Элеонора вздрогнула и инстинктивным рывком заключила меня в объятия, чтобы побыстрее отделаться от формальностей. Она старалась не смотреть мне в лицо, на котором, очевидно, читалось что-то невысказанное. По тому, как она шутила и тараторила без умолку, складывалось впечатление, что она мне скорее рада, чем наоборот. На наследство мне было наплевать, многого ждать все равно не приходилось. Так что у мачехи не было причин со мной враждовать. Жизнь не стояла на месте, Элеоноре нужно было время, чтобы приноровиться к новому статусу. Я прекрасно помнил, как Элеонора-секретарша на высоченных каблуках, прижав к себе нелепую сумочку, стояла на автобусной остановке и курила свою первую сигарету. Так почему она должна попрощаться с надеждой на лучшую жизнь? Даже если сейчас она выходит замуж по расчету, то когда отец состарится, ей придется заботиться о нем. А уж мне-то прекрасно известно, что поладить с ним непросто. Понять его не так-то легко, а иной раз и вовсе невозможно. Быть может, ему была нужна как раз такая женщина: молодая, но в то же время опытная, привыкшая к трудностям. Из тех, что надевают на улицу лучшее платье, а дома ходят в линялом халате. Элеонора погладила отца по щеке, взяла его за руку, на которой красовалось новое обручальное кольцо, и они принялись раздавать гостям бонбоньерки.
Я бросился в толпу гостей, захватив по пути еще один бокал шампанского. Все эти неприятные люди, строящие из себя бог весть что, являлись для меня воплощением той Италии, от которой я был рад бежать хоть на край света.
Надеялся ли я увидеть его? Конечно. Я не знал, хочу ли я этой встречи, я боялся, что стал другим, постарел. Ведь прошло уже десять лет. Десять очень длинных лет, самых важных для становления человека.
Я покосился на человека, сидевшего у стола, но не сдвинулся с места. Просто стоял и смотрел на спину. Его спину. На коленях у него сидел ребенок. Я пошел в ту сторону, быть может, просто чтобы пройти рядом с ним, а затем нырнуть за занавеску недалеко от крайнего стола – и уйти прочь.
Но его жена сразу узнала меня: «Гвидо! Смотри-ка, Гвидо приехал!»
Она обвила меня руками. Розанна похудела и перекрасилась в блондинку. Я помнил ее темненькой, от нее все так же пахло духами, а огромный рот неизменно расплывался в широкой голливудской улыбке. Она обняла меня и случайно больно ткнула сережкой в глаз. Я отпрянул и поднес руку к лицу.