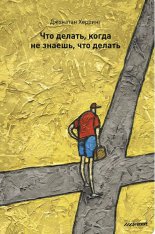Сияние Мадзантини Маргарет

Я изо всех сил сжимаю колени, забиваюсь в угол и дрожу, как цепная собака.
– Ну-ка, расскажи что-нибудь о Древней Греции.
Я придерживаю ремень брюк и покачиваюсь.
– Помнишь историю про андрогина, которого Зевс решил разделить на две половины из зависти к его совершенству? В каждом из нас есть что-то от этого андрогина. Есть те, что оторвались друг от друга легче и скоро обо всем забыли. Теперь они живут как ни в чем не бывало. Но есть и те, кто год за годом продолжает помнить: одиночество заставляет их продолжать поиски своей половины. И очень может быть, что в следующей жизни они полюбят другого человека, не важно, какого пола. Но в этой жизни у них ничего не выходит, а все потому, что им нужна именно та половина. Без нее им не жить, не стать целым.
– Ты о Кнуте?
– Выключи камеру, детка.
– Ты в порядке? Пап?
– Я просто много выпил.
Но она целится в меня электронным глазом, и я понимаю, что подарил ей совершенное оружие. Она подходит с разных сторон, зависает надо мной совсем близко.
– Ну-ка, немедленно признавайся, почему ты грустишь?
– Сегодня Рождество, Ленни.
Она выключает камеру и вздыхает:
– Мне тоже бывает грустно на Рождество. В эту ночь родился несчастный Младенец, которому суждено было искупить людские грехи. Но я-то знаю, что у Него ничего не выйдет, что Его просто замучат, а потом распнут. Ты давно не был в Италии, пап?
—
Вот уже в третий раз я на рассвете сажусь в самолет. Захожу в железный салон, на креслах – одни студенты. Эти дешевые рейсы летают по четвергам. Раз в месяц мне удается перенести лекцию или поставить замену. Все равно у студентов принято изредка собираться, чтобы обсудить общие проблемы. Старшекурсники помогают младшим разобраться с программами, многие в такие дни не ходят на лекции, а в университете творится черт знает что. Это называется «дни самостоятельной работы студентов». Преподаватели пользуются этим, чтобы привести в порядок бумаги и встретиться с будущими дипломниками. Многие и вовсе не приходят на работу, берут отпуск за свой счет и сплавляются на лодках или едут играть в гольф. У кого есть в городе любовница, те уезжают, чтобы предаться запретной любви.
Накануне вечером я не могу заснуть. Я не беру багажа, просто кидаю в сумку книги, журналы и зубную щетку. Я открываю книгу, но не могу читать. Никак не могу сосредоточиться, в голове только одно: все ближе, все сильнее, и вот уже навязчивая мысль захватывает меня целиком. А когда я лечу обратно, в голове роятся воспоминания.
Я медленно встаю с кровати. Еще рано, и дом погружен в синеватый полумрак. Одежда лежит на стуле. Только пес понимает, что что-то не так, – его выводят всего на пару минут, привычный маршрут прерывается раньше обычного. На столе я оставляю газету для Ицуми.
Я шагаю по асфальту, широко переставляя ноги. Так делают антилопы гну. Прежде чем нырнуть в метро, оглядываюсь по сторонам. В этот ранний час в переходе еще пусто, нет и уличного певца, поющего о жизни Христа. Показались первые вагоны. Жалкие отходы минувшей ночи плавают в лужах под ногами резвых чернокожих женщин, спешащих прибраться в офисах до начала рабочего дня. Люблю подземку в эти утренние минуты. Я проезжаю три остановки и пересаживаюсь на поезд до Хитроу. Второй состав поновее первого, довольно долгое время он едет поверху. В вагонах сидят работники аэропорта и пассажиры, спешащие на рейс. Раньше я ненавидел метро: первые годы в Лондоне я слишком часто проводил время в подземке. Мне не нравилось спускаться в тоннель и ехать в компании усталых взвинченных людей. А теперь я опять полюбил метро.
Теперь мне хочется торчать в нем вечно, скрыться от всех, не таскать с собой багажа. Если бы кто-нибудь из пассажиров знал, кто я такой, какое место занимаю в обществе, куда и зачем лечу, он бы ткнул в меня пальцем, все принялись бы яростно меня осуждать. Но каждый человек становится собой, только когда отключает разум. Никто не может меня осуждать, пока не разделит со мною шок от происходящего.
Когда самолет отрывается от земли, у меня кружится голова. И только когда он поднимается выше, я чувствую себя в безопасности. Сверху виднеются малюсенькие темные крыши, здание аэропорта и крошечные автомобили. Жестокий и грозный мир превращается в царство лилипутов, наконец-то он остается внизу, на положенном месте. Но меня в нем нет. Когда мы влетаем в облака и я слышу, как гудят моторы, мне становится страшно. Было бы ужасно несправедливо умереть вот так, теперь.
Ждет ли он меня? Я совсем в этом не уверен. У него там работа, больной ребенок. Я просто хочу его увидеть, соединить разорванную нить собственной жизни.
– Привет, дружище.
Я залезаю в его машину, смотрю на его плечи, вижу, как он оборачивается, чтобы выехать с парковки. Он оборачивается вот так сто раз на дню, но теперь я здесь, и этот жест становится чем-то бльшим. Невероятно, насколько вокруг спокойно: начало и конец. Все так, как и должно быть. Несколько минут мне кажется, что это всего лишь сон.
– Ты хорошо выглядишь.
– Ты тоже отлично.
Он может повести меня куда угодно, он словно птица в новом оперении моей любви. Ребенок, приоткрывший дверь в другую вселенную. Не об этом ли мы мечтали в том самом дворе? Разве не хотели мы оказаться в картине, на которой красовались чудесный замок и юный воин, не думали ли мы остаться там навсегда, рядом с прекрасным юношей? Что нам терять в привычном мире? Да ничего. Мы ничего не теряем.
Мы почти все время молчим, я просто смотрю на него. Иногда он отрывает глаза от дороги и улыбается мне. Я положил руки между колен, меня немного покачивает. Теперь мне будет о чем вспомнить, когда вернусь домой. Я знаю, как пахнет его машина, черный «мерседес». Позади закреплено кресло Джованни.
Мы останавливаемся пообедать в ресторанчике у моря. Это одна из немногих забегаловок, открытых в такое время. Огромные зонты простланы соломой. Они сложены и торчат, точно выцветший плюмаж старой кобылки. Мы долго идем по песку. Однажды мы заехали сюда случайно, но теперь это место стало нашим. Потому что в любви все именно так: как собака поднимает ногу у одного и того же столба, так и ты стараешься застолбить за собой конкретное место, внутренне пометив его и присвоив себе.
Поначалу мы не знали, где нам приткнуться. Я принял решение внезапно, вскочил в самолет за минуту до взлета и теперь совсем выбился из сил. Казалось, Костантино тоже смущен. Он словно ждал меня, но в то же время был готов пуститься наутек. «Завтра в одиннадцать я буду в аэропорту Фьюмичино. К тебе заскочить не успею, так что приезжать не стоит». Но он приехал. Стоял среди водителей такси, караулящих туристов, и, увидев меня, пошел навстречу. «А вот и я».
Сразу поехать в гостиницу мы не могли. Каждый боялся уронить себя в глазах другого. Начинать сначала не так-то легко. Мы проехали несколько километров по прибрежной дороге вдоль соснового леса, с одного края – только море и пустота. Мы вышли из машины и пошли по песку, не дотрагиваясь друг до друга, засунув руки в карманы, точно два рыбака после рыбалки. Ветер трепал наши одежды.
Мы сели в простеньком ресторанчике. Заказали бутылку кисловатого белого вина. Оба в свитерах, мы сидели на открытой веранде и мерзли. И словно боялись оказаться в замкнутом пространстве.
– Послушай, Гвидо, ты был с другими мужчинами, кроме меня?
Я тоже не раз об этом подумал. Мне и самому хотелось задать тот же вопрос.
Костантино разглядывал чайку, укрывшуюся в вытащенной на песок лодке. Краска на боках лодки выцвела и потрескалась. Я погрузился в раздумья. Вспомнил бешеную агонию в баре, полном одиноких мужчин, где я позволил себя истязать и, точно разбойник, оказался распят на голгофе посреди Сохо.
– Нет, не был. А ты?
– Нет.
Он бросил на меня холодный, напряженный взгляд. Наверное, я выглядел точно так же. Он лгал, как и я. Ревность заставляла нас молчать. Я посмотрел на море и вздохнул. Мне хотелось встать и ударить его что есть мочи, врезать ему как следует. Наброситься на него, задушить в объятиях. Я стеснялся просить его о любви.
Он потянулся к бутылке, наполнил наши стаканы. Было еще рано, около одиннадцати. Мы начали пить с самого утра. Нам подали жареный хлеб и моллюсков в собственном соку, все было очень вкусно. Местный рыбак ловил их каждое утро прямо у ресторана, опуская с балкона решетку. После еды мы немного успокоились. Рассказали друг другу, как провели эти годы, но о семье никто не промолвил ни слова. Мы как-то сразу молча условились об этом не говорить, отбрасывать в сторону жизнь, полную других чувств, дабы не омрачать отпущенные нам несколько часов. Мы говорили в единственном числе, словно мы – самые одинокие люди на свете. Я рассказал ему о работе, о том, что читаю, как стараюсь научить студентов распознать ограниченность общепринятых суждений и идти по другой дороге. Я хотел, чтобы он понял, что я все тот же, что я безрассуден и дерзок, как прежде. Костантино смотрел на меня, положив голову на руки, и словно старался понять, кто я, что от прежнего меня осталось в сидевшем перед ним человеке. Я боялся, что он меня разлюбил.
Мы обнюхивали друг друга, точно уставшие после долгой дороги животные, столкнувшиеся на тропе, когда их гнали с пастбища. Он тоже хотел выговориться, рассказать о себе, о том, чт для него важно.
Он улыбнулся и вдруг в одно мгновение стал собранным и серьезным:
– Ладно, признаюсь. Я думал о тебе все эти годы, я никогда не переставал о тебе думать. А теперь поступай как знаешь, можешь просто подняться и уйти.
– В последний раз это ты поднялся и ушел.
– Ты знаешь, что это неправда.
– Твоя девушка была беременна.
– Но я этого не знал.
– Думаю, знал.
– Мне нет смысла врать.
Я не поверил, но это было не важно.
Он рассказал о своей работе. Он хорошо зарабатывал, много ездил по Европе, особенно поначалу. Ему нравилось путешествовать, заезжать в винокурни, ночевать в маленьких северных гостиницах в Эльзасе, в красивых долинах региона Бордо. Ему нравилось разговаривать с прославленными виноградарями, что вставали с рассветом и отправлялись проверять, появились ли новые побеги, не слишком ли кислая почва, завязались ли новые гроздья. Он умел пробовать вина, но почти не пил, а всегда сплевывал.
– Первым вызревает мерло, а последним пти-вердо. Тебе стоит попробовать портвейн «Квинта да Везувио».
Я был почти законченным алкоголиком, так что найти общий язык оказалось легко.
Старенькая цементная дорожка вела через пляж, ползла по светлому песку меж бывших рыбацких шалашей, со временем переделанных в домики для летнего отдыха. Вокруг не было ни души. Время клонилось к полудню, и нам пришлось нелегко. Сначала мы шли рядом, потом один немного отставал. Так прошло несколько часов. Потом мы вернулись в машину. Мы даже ни разу не поцеловались. Костантино отвез меня в аэропорт, пора было возвращаться. Мы немного постояли на парковке. Я сказал, что помогу ему подыскать подходящее помещение для ресторана в Лондоне.
– Знаешь, есть один район, где раньше все было заброшено, но теперь там построили банки и кампусы. Там найдется подходящее место. Я поговорю с одним знакомым, он тоже в ресторанном бизнесе. Ты мог бы открыть итальянский ресторанчик недалеко от Вест-Индской верфи.
– Послушай, мне нельзя уезжать из Рима.
– Я могу подыскать тебе партнера в Англии, тебе не нужно будет мотаться туда-сюда. Будешь заглядывать раз в месяц, не чаще.
Я пошел посмотреть помещение в старом портовом квартале. Дул жуткий ветер, Темза вздымалась и захлестывала берега. Промокший насквозь, я радостно шагал вперед. Повсюду кружили бездомные кошки и слонялись портовые рабочие в желтых плащах. Я шел по мосткам перед Ройял-Докс и поглядывал на бывшие склады: на многие уже положили глаз местные архитекторы. Я представлял железные балки, покрашенные черной краской, неоновые лампы, подставку для бокалов, я уже слышал приятную музыку и видел клиентов, снимающих пальто в гардеробе.
Вот я вхожу, сажусь у стойки, где обычно поджидают свободного места, а Костантино стоит у новой, ультрасовременной плиты, в большом белоснежном переднике. Я представлял себе, как он проходит между столиками, как здоровается с подвыпившими клиентами, как глядит в их раскрасневшиеся лица. И вот мы вместе выходим в ночь и идем к маленькому домику – гнездышку, которое сняли неподалеку. Да, так можно было бы протянуть несколько лет.
Нам бы хватило недели в месяц, хватило бы четверти оставшейся жизни.
– Куда тебя отвезти?
И вот мы снова в мотеле. Высотное здание из темного стекла. Это одно из тех мест, куда заселяют туристов, прибывающих на огромных автобусах. В таких останавливаются стюардессы, что работают на транзитных рейсах. Я подаю паспорт. Костантино отходит от стойки и садится в холле. «Я поднимусь позже».
Я жду его на кровати. Я снял пиджак и ботинки. Из окна видны конструкции будущего здания: здесь строят целый район. Вдалеке виднеется аэропорт. Костантино заходит, открывает холодильник, достает «фанту». Мы обнимаемся и сидим так некоторое время, каждый наедине со своими мыслями.
Он красив, его мышцы так естественно проступают под кожей. Я не могу похвастаться тем же. Когда он кончает, он придерживает меня за голову и дрожит, а потом ударяется лбом о мою спину, точно раненое животное. Он всегда молчит, цепляется за меня и стонет, но не говорит ни слова. Я обнимаю его так сильно, что остаются синяки. Ему захотелось света: он распахнул окно. Он лежит обнаженный, покрытый птом. В широко распахнутых глазах светится жестокость. Картина совершённого акта ранит мне сердце.
Кончив, Костантино сразу меняется в лице, он хочет поскорее уйти. Он чем-то озабочен, и с годами эта озабоченность чувствуется все больше.
Костантино со стоном поднимается с кровати, я вижу его оголенный зад под струей воды. Я лежу на кровати, точно балерина с перебитыми ногами.
Я привез шоколад «Cadbury Dairy Milk», он его обожает. Мне хочется лежать на кровати и есть шоколад, хочется немного прийти в себя.
Костантино одевается, даже не высушив волосы, у него на уме только одно: бежать. Прочь из этой комнаты, он не собирается здесь задерживаться. Наши встречи должны ограничиваться сексом, и только. Он хочет, чтобы было именно так. Мы просто хорошие друзья, которые трахаются раз в месяц. Он не такой романтичный, как я. Возможно, настоящий гей в нашей паре – это я. Он треплет меня по голове, но только чтобы поторопить: «Давай, уже поздно. Ты получил свое, а теперь убирайся». Разбросанные простыни за нашими спинами скоро отправятся в огромную стиральную машину, где будут крутиться в облаке белых пузырьков. Сейчас он уйдет, а я чувствую, что вот-вот сойду с ума.
– Ты спишь с женой?
Он качает головой, ударяет руками по рулю. У меня такое чувство, что сейчас он распахнет дверцу машины и вышвырнет меня на дорогу.
– Как ты смотришь на нее по ночам?
– Мне не нужно на нее смотреть.
Я смеюсь, он тоже натужно смеется. На секунду он становится грубым и мерзким. Машина вписывается в поворот и направляется к терминалу международных рейсов.
– Ну, пока.
– Пока.
Я тянусь к нему, хочу его приласкать, но он бьет меня кулаком в живот. Это не шутка, мне больно. Он сделал это нарочно. Если он сейчас не выставит меня вон, я никуда не уйду. Самолет взлетает. Я раскрываю ладони и прячу лицо, вдыхая еще не выветрившийся запах.
Я возвращаюсь домой, бросаю ключи в глиняную утку, обнимаю собаку. Нандо беспокойно лижет мне руки. Мой лучший друг, мой единственный свидетель. Вот кто все чувствует. Мы оба – животные. Я напиваюсь. Этой ночью я плохо сплю: мне снится, что я убиваю Костантино, душу его в том самом мотеле, а потом убегаю прочь.
Я захожу на кафедру. Джина здоровается и подмигивает:
– Как все прошло?
– Отлично.
Но я больше так не могу. Я устал думать о прошлом, устал его стыдиться. Двойная жизнь не придает мне сил, она ставит все вверх дном. Я стараюсь как могу, я не отступаю и, как любой человек, который хочет считать себя невиновным, объявляю себя таковым. Я никогда не спорю с Ицуми, я предоставляю ей полную свободу в выборе наших развлечений и меню стола, стараюсь потакать ей во всем. У нее начались гормональные сбои, которые отдаляют ее от меня, теперь она легко раздражается. Нет, постареть она не боится – боится заболеть, боится смены настроения, боится, что мне станет с ней скучно и тяжело. Ее мать страдала депрессией. Подруги Ицуми обсуждают менопаузу, а я слушаю и киваю, как старый заслуженный доктор. Я иду с ней в магазин за новым платьем и говорю, что она прекрасна, как никогда. Я стал ее лучшей подругой. Лучше и представить нельзя.
Мы застыли перед огромной витриной, в которой выставлена бытовая техника. Ицуми хочет купить новую посуду, новые чашки с футуристическим рисунком. Ей захотелось сменить домашнюю утварь.
– Что такое, Гвидо?
– Ничего. А что?
– Ты дрожишь. В последнее время ты часто дрожишь.
– Я просто устал…
– Тебе нужно взять отпуск, пропусти один семестр, ты же можешь это устроить.
Но когда я с ним, я не дрожу. Должно быть, во мне накопилось напряжение. Огромный заряд энергии, который мне некуда растратить. Я чувствую, что рука, схватившая меня за горло, может делать со мной все, что угодно. Она убивает меня, а затем воскрешает. Кто знает, быть может, депрессия накроет меня гораздо раньше, чем Ицуми.
– Ты бошься остаться одна? Боишься, что меня не будет рядом?
– Этого не случится. Я же старше тебя.
– Но я – старая развалина, я курю, пью не просыхая.
– Твое сердце гораздо моложе моего, Гвидо.
Она улыбается и слегка толкает меня локтем:
– Ты способен на насилие.
На секунду я теряюсь, раненный ее неосторожным взглядом.
– Ты способен надругаться над чувствами, вытащить их наружу.
– Ты самая сильная женщина из всех, кого я знал. Так что вдовой все-таки останешься ты.
Мне хочется разбить стекло, схватить один из огромных дорогих стальных ножей для разделывания индейки, встать на колени посреди дороги и с диким криком вспороть себе живот. Харакири в центре Лондона.
Я раздеваюсь, ложусь рядом с нею, чувствую ее холодные руки. Я счастлив, что она все еще любит меня. У этой любви нет ничего общего с той, другой моей любовью. Такое отсутствие малейшего сходства спасительно и необходимо. Если бы рядом со мной был кто-то другой, я закричал бы от ужаса. Но быть рядом с ней, прикасаться к ее телу – такая сладкая боль, это лучшая боль на свете. Наши головы на подушках, мне так хочется все ей рассказать, точно я уже мертв. Самое худшее – то, что я не могу доверить ей мою тайну.
Я сажусь в поезд и еду к своим студентам. В этом году я читаю курс по Пьеро делла Франческа. Я застреваю на фреске «Сон императора Константина», посвящаю ей целую лекцию, говорю о бесконечных возможностях трактовки света. Я передвигаю лазерную указку, протягиваю руку, обращая внимание на черное пятно ткани, под которой лежит император. Темная ткань рождает иллюзию глубины. Благодаря ей появляется перспектива: эта картина – чудо мирового искусства. Я говорю о занавесе как о герое картины. Потом обращаюсь к темным фигурам воинов, стоящих поодаль от императора, и наконец останавливаюсь на сиянии ангела. Этот свет служит единственной цели – создать таинственную атмосферу той самой ночи, когда императора посетило видение, изменившее ход истории. Я говорю о силе сна, о сне как о мостике между человеком и Божеством. Я останавливаюсь на простой фигуре в красных чулках и белой тунике с синим подолом. Он там, чтобы охранять сон императора, его слуга. Он кажется усталым: голова мягко склонилась, оперлась на руку. Да ведь это же я – слуга, ожидающий видения. Я – грустный паж, сторожащий сон Константина.
Лекция закончена, я выключаю компьютер. Слайд растворяется, я снимаю очки.
Найти денег на билет, даже самый дешевый, было непросто. Я не мог расплатиться чеком, пришлось снимать понемногу с карты в течение месяца. Семейный бюджет у нас ведет Ицуми, а я никогда не беру себе ни цента. Мне бы хотелось сделать что-нибудь, что улучшило бы мои финансы: написать бестселлер, получить хороший задаток от издательства… Но на это я не способен, а грабить на улицах не приучен. Когда я прохожу мимо внушительных банковских сейфов, мне жаль, что я знаком лишь со скромными интеллектуалами, а не с известными взломщиками. Я мог бы пригодиться в качестве лома. Из меня вышел бы отличный лом. Сейчас мне бы хотелось иметь горы монет, как у Скруджа Макдака. Я заходил бы в хранилище и зачерпывал их ведерком.
Я ловлю себя на том, что заглядываю в чужие кошельки. Неожиданно для себя я стою у витрины туристического агентства и думаю о том, что никогда не смогу пригласить Костантино в настоящий круиз, не смогу поехать с ним в Индию и заночевать в бывшей колониальной резиденции, переделанной в пятизвездочный отель, или на Бали, в домике на сваях с бассейном у входа. Мне бы так хотелось его побаловать, позволить себе быть щедрым, как того просит сердце, вырвать его из повседневной жизни, из машины с детским креслицем, из салона, пропахшего потом, где всюду крошки. Мы еще молоды, нам всего-то сорок, жизнь не закончена, мы заслужили медовый месяц.
Я научился экономить, я стал скупердяем, лишь бы отложить денег и раз в месяц позволить себе оторваться. Граница между двумя жизнями и сущностями становилась все более явственной, все более ощутимой. Я смог найти нужный баланс, и жизнь наладилась. Оставалось только удержаться, чтобы не скатиться в безумие.
Костантино часто путешествовал по работе. У него дорогая машина и толстый кошелек, набитый банкнотами и визитками. Я рад за него, и мне даже немного неловко. Когда я раздеваюсь, я стесняюсь своей потертой и вылинявшей футболки, потрепанного ремешка. Мне бы хотелось подарить ему Колизей, но я не могу позволить себе сущей малости. Мне бы хотелось, чтобы над его окном каждое утро пролетал самолет с посланием от меня.
Я надеваю куртку на меху и кроссовки. Пока я еду из дому в аэропорт, я молодею лет на десять, а когда приземляюсь – мне уже двадцать. Я выбросил за борт ненужные годы, я оставил их дома, как и пиджак, в котором читаю лекции. Костантино ждет меня, прислонившись к машине, его руки сплетены на груди. На нем темные очки, четко выделяются скулы. Он всегда напоминал вышибалу, охранника.
– Привет, дружище.
В Риме почти всегда светит солнце и гораздо теплее, чем в Лондоне. Я снимаю куртку. Мы никогда не едем в сторону города, где нас могут заметить. Мы прячемся у моря.
– Как жизнь?
Я лгу, говорю, что неплохо зарабатываю, не богач, конечно, но и не жалуюсь. Он не верит. Приходится признаться, что годы, проведенные в университете и в библиотеке, потрачены впустую.
– Все было сплошной ошибкой.
– Не говори так.
– Если бы можно было все вернуть…
– Все так, как и должно быть.
– А тебе не хотелось бы все изменить?
– Нет. У меня есть семья.
Мое тело совсем потеряло мужественность. Я все чаще ловлю себя на том, что стыжусь как девчонка, что в страхе сжимаю колени.
Так что даже когда я появляюсь на людях, на фуршетах, где вокруг столов висят картины с мертвыми животными Саатчи, мое тело говорит о том, что привыкло к женской роли. Мне хочется поскорей отойти от супружеских пар и присоединиться к другой группе, где говорят про сексуальные извращения, темные комнаты и глубокий минет. Мне хочется рассказать о своих сумасшедших мечтах.
У Кнута на кухне висел календарь с фотографиями обнаженных мужчин. Каждый раз, когда я к нему заходил, я считал дни, глядя на эти безобидные фотографии. Голые мальчики позировали фотографу на разных островах, в лесу, на Эйфелевой башне, у Ниагарского водопада. Каждый месяц я отправлялся вместе с ними в новое путешествие. Мальчики позировали против света или со спины, их точеные ягодицы казались совершенными. Банальный китайский фотомонтаж. И все же я переносился в их мир, не закрывая глаз. Каждый месяц я возвращался к Кнуту, чтобы узнать, куда они отправились на этот раз.
Однажды я признался ему во всем. Я кончил прямо у календаря. Кнут выдержал удар. Он крикнул:
– Я всегда чувствовал, что ты себя подавляешь!
Он обрадовался, что я выдал себя, но при этом Кнут оставался другом Ицуми и просто хорошим парнем.
– А знаешь, геям всегда нравятся японки, я должен был догадаться.
В черном женском халате он напоминал рыцаря Тевтонского ордена.
– Я ничего не хочу о нем знать.
Однажды вечером я встретил Костантино на вокзале.
На этот раз он приехал на поезде. Позвонил и сказал, что едет. Он провожал жену и детей на вокзал, они уехали на неделю на море с бабушкой, дедушкой и с многочисленными кузенами и кузинами. Он собрал багаж, положил в сумку ботинки. Терпеливо подождал, положив руку на голову Джованни. Купил свежей рыбы – ему нравилось утреннее море. Потом поехал в ресторан: нужно было обустроить рыбный прилавок, разложить лед. И вдруг остановился перед светящейся рекламой скоростного поезда в Париж.
Чего только мне стоило отменить лекции! Джина чуть не оторвала мне уши. К счастью, у меня были отличные помощники и несколько любезных студентов, которые помогали готовить лекции и составлять задания для экзаменов.
Костантино купил билет на поезд и рванул в Париж, а потом пересел на паром. Его пальто заледенело от холода, так что прилипло к железному сиденью. Он сжал широкие плечи, выдававшие заядлого пловца. Он стал другим, но это все еще он. Старый друг не разочарует. Как бы он ни старался, у него все равно не получится. И вот я беру его под руку. Мы несемся по перрону, точно две ласточки весной. Крылья рассекают воздух. Проносимся мимо цветочного киоска и очереди на такси, бросаем взгляд на старые викторианские часы: на циферблате движется строгая стрелка, но для нас время остановилось. Сначала мы ужинаем в грязной и темной забегаловке. Костантино нравятся типичные места, которые мне уже опротивели: тут всегда предлагают жареную рыбу и разные соусы. Потом едем к Кнуту.
Кнут подается назад. Он встречает нас в атласном пиджаке. На нем ужасный ремень от Gucci с огромной, похожей на подкову буквой «G». Редкие волосы торчком.
– Очень рад познакомиться.
Костантино стоит в дверях: пальто распахнуто на груди, точеное красивое лицо. Он наклоняется, чтобы пройти под рождественскими колокольчиками, которые до сих пор висят над дверью, хотя вот-вот наступит весна. Он заходит. По привычке он предельно вежлив и немного застенчив. Кнут носится вокруг него, подталкивает. Ему еще никогда не приходилось видеть в своих сетях такую огромную рыбу.
Мы садимся на диван, точно влюбленные перед свекровью, и позволяем оценить нашу пару профессиональным взглядом. Уже полночь, но мы все еще у Кнута, а тот выворачивается наизнанку, лишь бы понравиться Костантино. Он изображает Маргарет Тэтчер и даже ее сумку от Ferragamo.
– Знаешь, что сказал о ней Миттеран? «Губы Мэрилин Монро и взгляд Калигулы».
Он ставит Бой Джорджа, звучит легендарная «No Clause 28», Костантино смеется, потеет.
Кнут выдает заключение:
– Парень – совершенное чудо, но за километр видно, что, в отличие от тебя, его что-то гложет. Какая-то давняя травма. Он должен быть очень смелым.
Я бросаю в друга подушкой. Я уверен, что он бы не отказался переспать с моим любимым. Он похож на морскую свинку, напичканную разными препаратами, от которых она все время дрожит и подпрыгивает. Он влюбился в Костантино с первого взгляда. Костантино вполне в его вкусе: Кнут романтичен и склонен к мазохизму. Он поселил нас в комнате над лестницей, приготовил горячий имбирный чай, а сам завернулся в халат с английским флагом, погрустнел и перевоплотился в сообщника, немного обиженного на несправедливость жизни.
Теперь, оглядываясь назад, на время до потопа, на поле до проигранной битвы, я понимаю, как сильно недооценивал Кнута. Мой флаг уже наполовину приспущен, а гробы с телами друзей выстроились на пристани. Кнут, обернись, мой дорогой друг! Мне так хочется попрощаться с тобой и поблагодарить за то, что ты оказался самым лучшим другом на свете! Лучшего и желать нельзя. Ты был так невероятно умен. Но я понял тебя слишком поздно.
То были дни безумного счастья! Теперь, когда Италия осталась далеко, Костантино преобразился. Мы запрокидывали голову и видели купол небесного планетария ее величества королевы, стояли под ним, обнявшись, и отбрасывали тени на звездное небо. Мы катались на огромном колесе обозрения и кричали во всю глотку, а сверху нас накрывала пелена городского смога. Я привел его туда, где лежал скелет белого кита и огромные метеориты. Рядом с Костантино даже Музей восковых фигур казался интересным и многообещающим. Я сфотографировал Костантино в обнимку с Фредди Меркьюри, изваянным с раскрытым ртом, в красной куртке укротителя. Я научился стремительно преображаться и так же стремительно вновь становиться собой.
Что только не приходилось делать Джине, чтобы меня прикрыть!
– Гвидо, ты совсем голову потерял!
– На кой черт мне голова!
Лондон казался огромной каруселью, которая только и ждала, что мы купим билеты. Нам было не до церемоний. Времени не хватало, мы тонули в безумном экстазе. Мы были словно птицы, хватающие на лету рыбу из волн, пауки, терпеливо поджидающие добычу. Природа жестока и удивительна. Я окунался в прорубь и снова возвращался домой к жене, в университет к студентам. Я великолепно справлялся; как командир самолета, налетавший тысячи часов, я мог спокойно включить автопилот и, прикрыв глаза, уноситься к небесам, расчерченным Леонардо да Винчи и Боттичелли. Я не мог думать ни о чем, кроме Костантино, а он в одиночестве бродил по улицам Лондона.
– Черт, Гвидо, какой потрясающий город!
Ему хотелось потеряться и бродить по городу часами. Он останавливался перед уличными артистами в цилиндрах, загадывающими туристам загадки у Ковент-Гарден. Мы могли проводить по нескольку часов на рыбном рынке, у лотков со специями на Ридли-роуд. Ему хотелось запустить руку в каждый мешочек. Казалось, он впервые чувствует запах настоящей жизни.
Мы зашли в «Хэмлис» за подарками его детям. Купили самолетик, который так потрясающе запускал продавец, на улице попробовали было запустить его сами, но он все никак не взлетал и падал через каждые два метра. Костантино, не веря своим глазам, смотрел на пары геев. Мы зашли в бар в районе Сохо. Там крутили гей-порно, а у входа парень в обтягивающих лосинах стоял с плакатом, протестуя против отмены гей-парада, накрывшегося из-за дерьмовых организаторов. Точно в полусне, Костантино позволял вести себя куда угодно. Он купил шелковый жилет и кожаную кепку. Его тело тоже как будто освободилось от давящей тяжести, плечи расправились.
Мы пошли в «Георгий и дракон» и крепко напились. Он сел за руль, и мы действительно рисковали, ведь он не привык к праворульной машине. Я болтался на пассажирском сиденье, точно мягкая игрушка, и наконец завалился лицом в его колени. Пока за окном проносились огни Шордича, в нас горел огонь совсем иного рода.
– Я люблю тебя, Гвидо.
После того как хорошо отсосешь, тебе всегда признаются в любви. Это один из непререкаемых постулатов Кнута.
Комната отделана деревом. Оно кажется таким естественным и живым, что каждый раз, открывая дверь, кажется, что идешь по подъемному мосту. Прикрытая тканью лампа, стопка книг, матрас на полу, из оконных рам прорывается сквозняк, грязные стекла, измазанные по краям краской… В этой комнате мы много говорим и почти не спим. Нанизывая бусины несбыточных иллюзий, мы строим планы. Перед нами бутылка красного и грязные бокалы. Рассвет бьет каплями дождя по стеклу. Костантино стоит у окна, толкает вверх раму, открывает окно, высовывается, смотрит во двор. Его ноги – рисунок из учебника, две ровные колонны, ноги Геракла. По сравнению с ним я похож на старого страуса.
На подушке что-то больно утыкается мне в висок. Я тяну за черный кончик и вытягиваю длинное перо. Я счастлив, точно спас целую утку. Я подхожу к Костантино, покручивая перышко между пальцами. Провожу краешком пера по его ноге, до самой спины.
– У нас же есть право быть собой, Гвидо?
– Конечно есть.
Грустно. Мы бродим под дождем в районе доков, одуваемые ветрами. У меня в руке газета «Loot» с кучей подчеркнутых объявлений. Даже не знаю, сколько заведений мы посмотрели. Сначала Костантино так радовался, но потом выражение его лица изменилось, он закудахтал, точно его душат, замахал руками, засуетился:
– Ты и представить себе не можешь, как сложно держать ресторан! Каждый день в четыре утра я поднимаюсь и еду на рынок. Ты понятия не имеешь, что такое работать на кухне, стоять у плиты…
– Не знаю, и что?
– Ты строишь из себя знатока, всезнайку!
Мы зашли в один из прибрежных баров и заказали пива.
– И чего, по-твоему, я не знаю?
– Ладно, забей.
В аэропорту, перед выходом на посадку, стояли две молодые лесбиянки и целовались взасос. Две умирающие от жажды ласточки. Мы остановились и молча наблюдали за ними. Для нас это были люди нового мира, юное поколение, взращенное матерями-утопистками и отцами-писателями. Мы были детьми другого времени – времени, когда приходилось жертвовать всем. Наши отношения зародились в атмосфере запрета. Но мы проросли, точно деревья, вгрызающиеся в каменистую почву, и сдаваться не собирались.
Мы попрощались, неуклюже обнявшись и стиснув зубы. У Костантино был отсутствующий вид. Он кинул сумку на ленту, снял ремень и ботинки. Позволил женщине-полицейскому облапать себя со всех сторон. Потом Костантино неделю не отвечал на мои звонки, а когда наконец ответил, то будто постарел лет на сто. А я стоял перед ним, точно мальчик, с наполненной звездами шляпой.
Он сказал, что Розанна что-то подозревает.
– Иногда мне кажется, что она обо всем догадалась.
Он звонил мне во время лекций, на вибрирующем экране появлялся его номер. Я нажимал на паузу и говорил: «Сделаем перерыв». Затем закрывался в туалете и перезванивал.
– Слушай, мы уже вот-вот найдем то, что надо. Я договорился с одним человеком насчет ресторана.
– Ну и как у него, большой?
Я знал, что он ревнует, мне все это было знакомо.
– Послушай, никто другой мне не нужен.
Мне хотелось кинуть трубку, хотелось плюнуть ему в лицо. Я знал, что все в нем вскипело и перемешалось, что если я поддамся, то мы оба потеряем голову.
Я шел по надорванному канату, но пока я не понимал, с какой именно стороны он порвется. Я пытался разглядеть наше будущее, а потом резко давал задний ход. Меня постоянно тошнило, тошнота стала извечным спутником, новым органом моего тела. Словно у сердца появился двойник, отдававшийся во мне тупой болью. Я пытался протиснуться меж мусорных завалов. Когда я видел громыхающие грузовики с городскими отходами, мусорщиков, спрыгивающих с подножки и собирающих в грузовик пакеты и ящики, я застывал и смотрел на них, не отрывая взгляда. Я представлял себе, как железная рука ковша подхватит мое тело и бросит его в кузов с мусором, в развороченную пасть огромного грузовика.
Пес шел рядом как единственный друг, как верный солдат, не отходящий ни на шаг от умирающего командира. Он не давал мне совсем скиснуть, заставлял доставать лопатку и подбирать за ним экскременты.
А когда мне придется помочиться в последний раз? С недавнего времени я часто задавался этим вопросом. Каждый раз, когда закрывался в туалете и смотрел в унитаз, прежде чем сделать то, зачем пришел.
И вот я снова в аэропорту. Мы снова едем вдоль забора на окраину города. Костантино не расстается с телефоном, он держит его в руке, проверяет, есть ли сеть. Мы больше не свободны, как раньше. Он раздвоился, теперь он и здесь и там одновременно. Жена постоянно названивает ему по мелочам. Она не дает ему вставить ни слова. А он только поддакивает и ходит взад-вперед, заткнув пальцем ухо. В этом жесте проскальзывает какое-то жуткое напряжение. Он так не похож на меня. Итальянцы постоянно болтают по телефону, но он не такой. Я стал для него частью другого мира. Мира, где каждый одинок и отвечает за свои действия самостоятельно. Костантино прав, когда говорит, что я никогда не смогу снова вернуться в Италию. Что в Италии я не смогу быть счастливым.
Я очень любил его. Но мне нужно было определиться, как жить дальше. Казалось, что ему до своей жизни нет никакого дела. Мы стояли в одном стойле, но над нами были разные небеса. Мой взгляд устремлялся вдаль, а он смотрел сквозь затемненные стекла на тех, кто шел мимо, и боялся, что его кто-то узнает, что зазвонит мобильник. Он потешался над моими ботинками, над моей прической, над моим акцентом. Говорил, что я похож на пидора. В его образе было больше небрежности, фамильярности. Между нами не было настоящей близости. Он расплачивался по счету, точно муж-деспот, отталкивая меня от стойки, словно я – девчонка, у которой ни копейки в кармане. Быть может, он, как всегда, чего-то боялся. Потом мы ехали в мотель. Я был готов к любым унижениям. Я соглашался на все, душил его ремнем, бил. Синяя обезьянка смотрела на него с моего плеча. Мне так хотелось заняться любовью нежно и ласково, но для этого у нас были жены. Ему нередко удавалось меня разозлить. Мое тело слабело. Разум опережал тело, но мне не удавалось расслышать его шепот.
Я решил записаться в спортзал. Зашел в одну из стеклянных клеток в районе Хокстона, набитую тренажерами, девчонками в коротких шортах и геями всех размеров и цветов, и взял на стойке листок с расписанием и ценами. Я сложил его и засунул в карман, а потом использовал как закладку вместо той, с изображением «Потерянного рая» Блейка. Силы, чтобы тягать штангу, у меня не было. Я жалел себя, как в те времена, когда я общался с наркоманами и понимал, что они только притворяются, что живут и сочувствуют тебе, но на самом-то деле они не больше чем печальные тени, охваченные совсем иными желаниями. Они оплакивали свою первую дозу, свой потерянный рай.
Я купил Костантино кашемировый свитер. Когда-то в далеком провинциальном городке я подарил ему похожий. Свитер из плотной шерсти, такой же, как наша жизнь. Два дня назад у него был день рождения, но меня не было рядом.
За моей спиной Ицуми наклонилась к духовке.
– Слушай, сегодня я не буду ночевать дома.
– Почему?
– Поеду за город, к Уолту.
– Зачем?
– У него сейчас трудные времена, надо его поддержать.
– Да? А я и не знала.
Кажется, рыба в духовке для нее гораздо важнее, чем я. На ужин к нам придут Холли и Томас, Ицуми немного переживает из-за Холли, которая закончила кучу кулинарных курсов и всегда умеет сотворить что-то новое. Она смотрит на меня, протягивает прихватку и просит поискать другую, чистую. Она взволнована куда сильнее меня. Жизнь дает еще одно удивительное подтверждение моей догадки: мы все невероятно похожи, а в жизни все по-человечески просто и относительно.
Уолт – жуткий бабник. Перетянуть его на свою сторону и сделать сообщником оказалось совсем несложно. Он вытягивает губы в трубочку, точно мангуст, а потом кладет руки мне на пояс и говорит: «Добро пожаловать в клуб». Он – старый друг нашей семьи, но то, что я развлекаюсь за спиной у жены, не вызывает у него никаких угрызений совести по отношению к Ицуми. Ему всегда казалось, что я слишком тихий и скрытный. Теперь, когда все прояснилось, он рад мне помочь.
Я окончательно и бесповоротно оказался на той стадии, когда призрак становится единственной реальностью и ты готов отдать все за нее. Остальное кажется тебе мертвечиной, бабочкой, наколотой на иголку Дэмиана Хёрста. Я все больше себе позволяю и все реже замечаю, что перебарщиваю. Подарок лежит в прихожей.
– Что это?
– Свитер.
– Кому?
– Уолту.
Ицуми уже открыла пакет и щупает мягкий свитер:
– Похоже, что ты отдал за него кучу денег.
– Двести фунтов.
– Ты отдал двести фунтов за свитер для Уолта?
Действительно, это странно, ведь я так мало трачу на собственную одежду, а когда мы идем к друзьям и заходим купить вина, всегда стараюсь взять подешевле.
– Ты что, влюбился в него?
– Именно так.
Ицуми громко смеется нелепым, как и сама сцена, смехом. Тогда я тоже начинаю смеяться, как давно не смеялся. Уолт отрастил себе такое пузо, что стал похож на дрессированного индюка. Я изображаю его, бегая по комнате взад-вперед. Ицуми стягивает с меня футболку и тянет за пижамные брюки. В какой-то момент я уже стою с голым задом и оглядываюсь на нее. На меня накатывает странное чувство, я вспоминаю о маме. Однажды, пытаясь удержать меня за брюки, она стянула их, и приоткрылся зад. Мне хочется рассказать об этом Ицуми. Хочется, чтобы разразился скандал, который бы испепелил меня, стер бы мои следы в этом доме. Тогда я смогу вернуться в Италию, один, нищий, как приехал. Найду работу, устроюсь в каком-нибудь жалком университетишке, буду подрабатывать почасовиком. И ждать, когда у Костантино появится для меня минутка. Мне хочется научить его уважать меня и быть нежным. Ицуми плачет, и я не понимаю почему.
Я встаю перед ней на колени.
– Что с тобой?