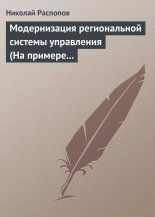Вдали от обезумевшей толпы Гарди Томас
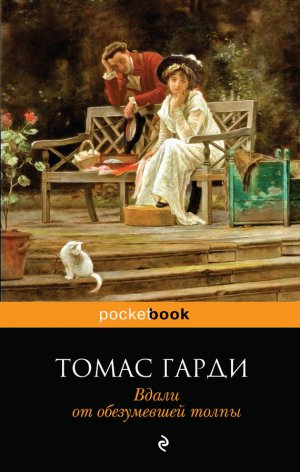
Она залилась краской.
— Да я уже жалею, — быстро ответила она.
— О чем же ты жалеешь?
— О том, что мой роман кончился.
— Все романы кончаются со свадьбой.
— Зачем ты это мне говоришь? Ты ранил меня в самое сердце своей злой шуткой.
— А ты нагоняешь на меня тоску. Мне кажется, ты ненавидишь меня.
— Не тебя, а твои пороки! Да, я ненавижу их!
— Лучше бы ты постаралась исправить меня. Давай подведем баланс, двадцать фунтов на стол, и будем друзьями!
Она вздохнула, как бы покоряясь судьбе.
— Примерно такая сумма отложена у меня на хозяйственные расходы. Если она тебе так нужна, бери ее.
— Прекрасно. Спасибо. Наверное, завтра я уеду раньше, чем ты выйдешь к завтраку.
— Тебе так уж надо уезжать? Ах, Фрэнк, было время, когда никаким друзьям не удалось бы оторвать тебя от меня! Тогда ты называл меня своей ненаглядной. А теперь тебе и дела нет, как я провожу время.
— Я должен ехать, невзирая ни на какие чувства. — С этими словами Трой взглянул на свои часы и, повинуясь какому-то безотчетному импульсу, открыл нижнюю крышку, под которой обнаружилась уютно свернувшаяся маленькая прядь волос.
В этот миг Батшеба подняла глаза, уловила его движение и заметила прядь. От боли и изумления кровь бросилась ей в лицо, и она не успела подумать, как у нее вырвалось восклицание:
— Женский локон! О, Фрэнк! Чьи же это волосы?
Он отвечал небрежно, словно желая скрыть чувство, вспыхнувшее при виде локона.
— Ну, конечно, твои. Чьи же еще? Я совсем позабыл про них.
— Какая бессовестная ложь, Фрэнк!
— Говорю тебе, я позабыл про них, — повторил он, повышая голос.
— Да я не о том — ведь волосы-то рыжие.
— Что за глупости!
— Ты оскорбляешь меня. Я же видела, что они рыжие. Говори, чьи они. Я хочу знать.
— Хорошо, скажу, только не шуми. Это волосы одной молодой особы, на которой я собирался жениться еще до того, как познакомился с тобой.
— В таком случае ты должен сказать мне ее имя.
— Не могу.
— Она уже замужем?
— Нет.
— Жива?
— Да.
— Она хорошенькая?
— Да.
— Удивляюсь. Разве можно быть хорошенькой при таком ужасном недостатке, как у этого несчастного создания?
— Недостаток… Какой недостаток? — живо спросил он.
— Да волосы у нее такого отвратительного цвета!
— Ого! Это мне нравится! — выпалил Трой, уже овладевший собой. — Все восхищались их золотым цветом. Одно время, правда, недолго, она ходила с распущенными волосами. Замечательно красивые волосы! Прохожие оборачивались и любовались волосами этого несчастного создания.
— Фи! Будет тебе, будет! — В ее голосе зазвенели гневные нотки. — Если бы я дорожила твоей любовью, как раньше, я, пожалуй, могла бы сказать, что прохожие оборачивались и любовались моими волосами!
— Батшеба, не будь такой запальчивой и ревнивой! Ведь ты представляла себе, что такое семейная жизнь, зачем же было выходить за меня, если ты боялась такого рода случайностей?
Между тем у нее на сердце накипело возмущение, к горлу подкатился клубок, слезы неудержимо подступили к глазам. Она стыдилась обнаруживать свое волнение, но под конец разразилась бурными упреками:
— Вот что я заслужила от тебя за всю свою любовь!! Ах, когда я выходила за тебя, ты мне был дороже жизни. Я готова была умереть за тебя, честное слово, я с радостью бы умерла! А теперь ты глумишься надо мной, говоришь, что я сделала глупость, выйдя за тебя! Ну разве не жестоко попрекать меня моей ошибкой! Пусть ты невысокого мнения о моем уме, но ты не должен так безжалостно бросать мне это в лицо теперь, когда я в твоей власти!
— Что поделаешь, так уж складываются обстоятельства, — буркнул Трой. — Клянусь честью, эти женщины сведут меня в могилу!
— А зачем ты хранишь чужие волосы! Ты сожжешь их, правда, Фрэнк?
Фрэнк продолжал, делая вид, что не расслышал:
— Есть обязательства, которые для меня важней даже моих обязательств перед тобой. Кое-что надо загладить… Ты не знаешь об этих отношениях. Если ты раскаиваешься, что вступила в брак, то я и подавно.
Батшеба вся дрожала. Положив ему руку на плечо, она проговорила скорбным и проникновенным тоном:
— Я буду раскаиваться лишь в том случае, если узнаю, что я для тебя не самая дорогая на свете. А вот ты раскаиваешься, потому что другая дороже тебе, чем я, — ведь правда?
— Не знаю. Ты это к чему?
— Ты не хочешь сжечь этот локон. Значит, ты любишь женщину, у которой такие красивые волосы, да, любишь! Как они хороши, не то что моя жалкая черная грива! Но что ж поделаешь! Разве я виновата, что так безобразна! Так люби ее на здоровье!
— Честное слово, я совершенно позабыл об этой пряди и вспомнил только сегодня, через несколько месяцев, когда случайно взглянул на нее.
— Но ты только что упомянул о каких-то «отношениях»… А потом… эта женщина, что мы тогда встретили?
— Встреча с ней и напомнила мне об этой пряди.
— Так это ее волосы?
— Ну да. Можешь радоваться, что выудила это у меня!
— А что это за отношения?
— Да ничего серьезного… Я только пошутил.
— Только пошутил! — повторила она в горестном изумлении. — Как можешь ты шутить, когда я так страдаю? Скажи мне всю правду, Фрэнк! Ты же знаешь, что я не дурочка, хотя по временам и поддаюсь женской слабости. Будь откровенен со мной! — И она посмотрела ему в лицо открытым, бесстрашным взглядом. — Кажется, я немногого прошу — только правды! Ах! Раньше мне казалось, что я буду счастлива, лишь когда меня будет обожать муж, которого я себе изберу. Ну, а теперь меня осчастливит хоть капелька чувства… Да! Вот до чего дошла независимая и гордая Батшеба!
— Ради бога, не закатывай мне сцен! — раздраженно крикнул Трой, вскочил и вышел из комнаты.
Едва он ушел, Батшеба разразилась бурными рыданиями, эти сухие, не смягченные слезами рыдания разрывали ей сердце… Но она подавила их силой воли. Батшеба потерпела поражение, хотя до конца своих дней ни за что не призналась бы в этом. Ее гордость была уязвлена — ведь она понимала, что унизила себя, выйдя замуж за человека, далеко не такого чистого душой, как она. Охваченная негодованием, она металась взад и вперед по комнате, как тигрица в клетке, все существо ее восстало, кровь бросилась ей в лицо. До встречи с Троем Батшеба высоко ставила себя как женщину, гордилась, что ее губ не касался ни один мужчина в мире, что ее талию никогда не обнимала рука возлюбленного. А теперь она была себе ненавистна. В былое время она в душе презирала девушек, которые попадались в сети первого же смазливого парня, удостоившего их своим вниманием. Мысль о замужестве никогда не прельщала ее, как прельщала большинство окружавших ее женщин. В смятении чувств, боясь потерять любимого, она согласилась выйти за него; но даже в самые счастливые часы Батшебу не покидало сознание, что с ее стороны это скорее жертва, что брак ничуть не возвысил ее, не принес ей чести, — Батшеба бессознательно чтила Диану, хотя имя этой богини едва ли было ей известно. Как низко она пала в своих глазах: ведь раньше она держала всех мужчин на расстоянии, не поощряя их ни взглядом, ни словом, ни жестом; она не тяготилась одиночеством, гордясь своей девичьей независимостью, и воображала, что потерпит некий ущерб, если променяет скромную девическую жизнь на жизнь замужней женщины и сделается смиренной половиной какого-то неведомого целого. Ах, как могла она совершить такой безумный поступок, впрочем, вполне благопристойный в глазах людей! О, стать бы снова той девушкой, что стояла на Норкомбском холме! Посмел ли бы тогда Трой или другой мужчина осквернить своим прикосновением хоть волос на ее голове!
На следующее утро она поднялась раньше обычного, велела оседлать коня и, как всегда, объехала свои владения. Когда она вернулась в половине девятого — то был час их завтрака, — ей сообщили, что супруг ее встал, позавтракал и уехал в Кэстербридж в двуколке, запряженной Крошкой.
После завтрака она взяла себя в руки и успокоилась — это была прежняя Батшеба! Она вышла из дому, собираясь посетить один участок фермы, над которым, как и раньше, надзирала сама, насколько ей позволяли домашние обязанности, однако всякий раз ее опережал предусмотрительный Габриэль Оук. Батшеба стала питать к нему подлинно сестринские чувства. Разумеется, временами она вспоминала, что он ее давнишний поклонник, и на минуту представляла себе, как бы ей жилось с ним; представляла себе и жизнь с Болдвудом. Но хотя Батшебе и были доступны сильные чувства, она не любила бесплодных мечтаний и лишь ненадолго отдавалась подобным раздумьям в те дни, когда Трой выказывал ей слишком большое пренебрежение.
Внезапно она увидела, что по дороге поднимается на холм какой-то мужчина, и узнала мистера Болдвуда. Батшеба мучительно покраснела и стала следить за ним взглядом. Фэрмер остановился довольно далеко от нее и махнул рукой Габриэлю Оуку, который шагал по тропинке через поле. Мужчины подошли друг к другу, и у них завязался, как видно, серьезный разговор.
Беседа их затянулась. Но вот к ним приблизился Джозеф Пурграс, кативший бочку яблок вверх по холму, к дому Батшебы. Болдвуд и Габриэль окликнули его, несколько минут о чем-то с ним толковали, потом они расстались, и Джозеф поспешно покатил кверху свою бочку.
Батшеба, не без любопытства наблюдавшая эту пантомиму, испытала огромное облегчение, когда Болдвуд направился к себе домой.
— Ну, что вам велели передать, Джозеф? — спросила она.
Подойдя к забору, он поставил бочку наземь и придал своей физиономии почтительное выражение, с каким подобало обращаться к леди.
— Вам больше никогда не увидать Фанни Робин, мэм, — сказал он, — поминай как звали.
— Почему?
— Потому как она померла в Доме призрения.
— Фанни умерла! Не может быть!
— Верно говорю, мэм.
— Отчего же она умерла?
— Не знаю толком, но думается мне, от слабости телосложения. Сколько я ее знал, она всегда была этакая хиленькая, тяжелая работа была ей не под силу, и она таяла, как все равно свечка. Утром стало ей худо, и как была она хилая да хворая, то к вечеру и померла. По всей законности, она нашего прихода, и мистер Болдвуд пошлет нынче к трем часам повозку; ее привезут и похоронят на нашем кладбище.
— Ни за что не допущу, чтобы это сделал мистер Болдвуд, я сама этим займусь! Фанни была служанкой моего дядюшки, и хотя она жила при мне всего несколько дней, она имеет прямое отношение ко мне. Как же это печально, подумать только, Фанни очутилась в Доме призрения! — Батшеба уже начала понимать, что такое страдание, и говорила с искренним чувством. — Пошлите кого-нибудь к мистеру Болдвуду сказать, что миссис Трой считает своим долгом привезти тело девушки, которая долго служила у ее родных… Не следовало бы класть ее в повозку — надо бы раздобыть погребальные дроги.
— Вряд ли мы поспеем, мэм, так я полагаю.
— Пожалуй, да, — в раздумье проговорила она. — Когда, сказали вы, выдадут ее тело — в три часа?
— Нынче в три часа, мэм, так он сказал.
— Хорошо, тогда поезжайте вы сами. В конце концов, красивая повозка лучше безобразных дрог. Джозеф, возьмите новую рессорную повозку, синюю с красными колесами, и вымойте ее как следует. А потом, Джозеф…
— Слушаю, мэм.
— Захватите с собой невянущей зелени и цветов и потом положите на гроб. Возьмите как можно больше, пусть она утопает в цветах. Достаньте ветвей лаурестинуса, и пестрого самшита, и тиса да прихватите несколько пучков хризантем. И пусть везет ее наш старый Весельчак, кажется, она любила его.
— Будет исполнено, мэм. Мне наказали вам передать, что четверо рабочих из Дома призрения встретят меня у ворот нашего кладбища, они возьмут ее и похоронят по правилам опекунского совета, как оно положено по закону.
— Боже мой! Кэстербриджский Дом призрения! Как же Фанни дошла до этого? — задумчиво проговорила Батшеба. — Жаль, что я раньше не знала. Я думала, она где-то далеко. Долго ли она там прожила?
— Всего день либо два.
— А! Так она не была постоянной его обитательницей?
— Нет. Спервоначалу она поселилась в одном городке, где стоял военный гарнизон, на том конце Уэссекса, а потом с полгода зарабатывала себе на хлеб шитьем в Мелчестере, ей давала работу одна почтенная вдова, что занимается таким делом. Слыхал я, она попала в Дом призрения в субботу утром, и люди говорят, она брела пешком всю дорогу от Мелчестера. А уж почему она ушла с работы, сказать не могу; знать не знаю, а лгать грешно. Вот и весь сказ, мэм.
— А-ах!..
Драгоценный камень, только что сверкавший розовым блеском, вдруг выбрасывает алмазно-белый луч, — но еще быстрее изменилось лицо молодой женщины, когда у нее с глубоким вздохом вырвался этот возглас.
— Скажите, она проходила по Кэстербриджской дороге? — спросила она, и в ее голосе прозвучала страстная тревога.
— Думается мне, проходила… Мэм, не кликнуть ли Лидди? Видать, вам неможется, мэм. Вы стали как все равно лилия, такая белая и слабая!
— Нет. Не надо ее звать. Пустое. Когда же она проходила через Уэзербери?
— В прошлую субботу вечером.
— Довольно, Джозеф. Можете идти.
— Слушаю, мэм.
— Джозеф, постойте минутку. Какого цвета были волосы у Фанни Робин?
— Ей-богу, хозяйка, вот сейчас, когда вы меня допрашиваете, совсем как на суде, хоть убей, не могу припомнить.
— Не важно. Ступайте и делайте то, что я вам велела… Погодите… Нет, ничего, ступайте себе.
Она отвернулась, желая скрыть от него волнение, так ярко отпечатлевшееся у нее на лице, и вошла в дом; у нее подкашивались ноги от слабости и стучало в висках. Через час она услыхала стук повозки, выезжавшей со двора, и вышла на крыльцо, с болью в сердце сознавая, что выглядит встревоженной и расстроенной. Джозеф, одетый в свою лучшую пару, уже хлестнул лошадь, собираясь отъезжать. Ветви и цветы лежали грудой в повозке, приказание ее было выполнено. Но Батшеба даже не заметила их.
— Что вы мне говорили, Джозеф, чья она была милая?
— Не знаю, мэм.
— Так-таки не знаете?
— Ей-богу, не знаю.
— А что же вы знаете?
— Знаю одно: пришла она утром, а к вечеру померла, вот и все, что я слышал от них. «Джозеф, — говорит Габриэль, — малютка Фанни Робин померла», — а сам этак строго уставился на меня. Я страсть как опечалился: «Ах, как же, говорю, она померла?» А Оук и говорит: «Ну, да, померла в кэстербриджском Доме призрения, и нечего там допытываться, как да почему. Пришла туда в воскресенье спозаранку, а к вечеру уже померла — кажись, все ясно». Тут я спросил, что она, мол, делала последнее-то время, а мистер Болдвуд обернулся ко мне и перестал обивать палкой головки репьев. Тут он мне и рассказал, что она зарабатывала себе на хлеб шитьем в Мелчестере, как я уже вам докладывал, а потом ушла оттуда и проходила мимо нас в субботу вечером, уже в потемках. А потом сказал, что не мешает, мол, мне намекнуть вам касательно ее смерти, а сам ушел. Может, бедняжка потому и померла, что, понимаете ли, мэм, шла всю ночь напролет да на ветру. Ведь люди и раньше сказывали, что она, мол, не жилица на белом свете, зимой ее уж такой бил кашель… Ну, да что об этом толковать, когда ее нет в живых!
— А вы больше ничего о ней не слыхали? — Батшеба смотрела на него так пристально, что у Джозефа даже глаза забегали.
— Ничегошеньки, хозяйка, честное, благородное слово, — заверил ее Джозеф. — Да у нас в приходе вряд ли кто слыхал эту новость.
— Удивляюсь, почему Габриэль сам не принес мне этого известия — он то и дело является ко мне по всяким пустякам, — проговорила она шепотом, глядя в землю.
— Может статься, у него были спешные дела, мэм, — высказал предположение Джозеф. — А иной раз он ходит сам не свой, видать, о прошлом тужит — ведь он тоже был фермером. Да, любопытный он фрукт, а впрочем, очень даже понимающий пастух и уж такой начитанный.
— Не показалось ли вам, что у него было что-то на уме, когда он говорил вам об этом?
— Пожалуй, и впрямь что-то было, мэм. Он был уж больно пасмурный, да и фермер Болдвуд тоже.
— Благодарю вас, Джозеф. Ну, теперь все. Поезжайте, а то вы опоздаете.
Батшеба вернулась в дом крайне удрученная. После обеда она спросила Лидди, которая уже знала о происшествии:
— Какого цвета были волосы у бедняжки Фанни Робин? Ты не знаешь? Никак не могу вспомнить — ведь она жила при мне всего день или два.
— Они были светлые, мэм. Только она стригла их довольно коротко и прятала под чепчик, так что они не больно-то бросались в глаза. Но она распускала их при мне, как ложилась спать, — и какие же они были красивые! Ну, совсем золотые!
— Ее милый был солдат, не так ли?
— Да. В одном полку с мистером Троем. Хозяин говорит, что хорошо его знал.
— Как! Мистер Трой это говорил? В связи с чем?
— Как-то раз я спросила его, не знал ли он милого Фанни. А он говорит: «Я знал этого парня, как самого себя, и любил его больше всех в полку».
— А! Он так и сказал?
— Да, и прибавил, что они с этим парнем ужас как похожи друг на друга, иной раз их даже путали, и…
— Лидди, ради бога, перестань болтать! — раздраженно воскликнула Батшеба, которой блеснула ужасная истина.
Глава XLII
Поездка Джозефа. «Оленья голова»
Территория кэстербриджского Дома призрения была обнесена стеной, которая прерывалась лишь в одном месте, где стояла высокая башенка с остроконечной крышей, покрытая таким же ковром плюща, как и фасад главного здания. Башенка не имела ни окон, ни труб, ни украшений, ни выступов. На оплетенном темно-зеленой листвой фасаде виднелась лишь небольшая дверь.
Дверь была не совсем обычная. Порог находился на высоте трех или четырех футов над землей, и сразу нельзя было догадаться, почему он сделан таким высоким; однако колеи, подходившие к башне, доказывали, что из двери что-то выносят прямо на повозку, стоящую вровень с порогом, или вносят с повозки. В общем, дверь напоминала «Ворота предателя», только окружение было иным. Как видно, ею пользовались лишь изредка, так как в трещинах каменного порога там и сям пышно разрослась трава.
Часы на богадельне, выходившей на Южную улицу, показывали без пяти минут три, когда синяя с красными колесами рессорная повозка, полная веток и цветов, доехав до конца улицы, остановилась у башенки. Часы, спотыкаясь, вызванивали некое расхлябанное подобие «Мальбрука», когда Джозеф Пурграс дернул ручку звонка и ему велели подъехать к высокому порогу двери. Вслед за тем дверь отворилась, и оттуда медленно выдвинулся простой ильмовый гроб; двое рабочих в бумазейных куртках поставили его на повозку.
Потом один из них подошел к гробу, вынул из кармана кусок мела и нацарапал на крышке крупными буквами имя покойной и еще несколько слов. (Кажется, в наши дни проявляют больше деликатности и прибивают к гробу дощечку.) Затем рабочий укрыл гроб черным вытертым, но еще приличным покрывалом, задок повозки вдвинули на место, Пурграсу вручили свидетельство о смерти, и рабочие вошли в дверь и заперли ее за собой. Тем самым их отношения с покойной, впрочем, весьма кратковременные, закончились навсегда.
Джозеф убрал гроб цветами и невянущей зеленью, разложив, как ему было предписано, и вскоре уже было трудно угадать, что находится в повозке. Он щелкнул кнутом, и погребальные дроги Фанни Робин, спустившись с холма, двинулись по дороге в Уэзербери.
День склонялся к вечеру. Шагавший рядом с лошадью Пурграс, поглядев направо, в направлении моря, увидел причудливые облака и клубы тумана над грядой холмов, окаймлявших с этой стороны равнину. Они медленно надвигались, разрастаясь, заволакивая на своем пути лощины и окутывая заросли жухлого сухого тростника на болотах и вдоль речных берегов. Потом их влажные губчатые тела слились вместе. Внезапно небо покрылось порослью каких-то воздушных ядовитых грибов, корни которых уходили в море, и когда лошадь, человек и покойница въехали в большой Иелберийский лес, их накрыла непроглядная пелена, сотканная незримыми руками. То было нашествие осеннего тумана, первый туман в эту осень.
Кругом сразу потемнело, словно закрылось око небес. Погасли последние отблески света, и повозка внедрилась в какое-то упругое, однообразно белесое вещество. В воздухе не чувствовалось ни малейшего движения, ни единой капли не падало на листву буков, берез и елей, обступивших с обеих сторон дорогу. Деревья стояли настороженно, словно томительно ждали, что вот-вот налетит ветер и станет их раскачивать. Над лесом нависла жуткая глухая тишина; казалось, что колеса громко скрипят, и можно было уловить слабые шорохи, какие бывают слышны только по ночам.
Джозеф Пурграс оглядел свой скорбный груз, еле проступавший сквозь ветви цветущего лаурестинуса, потом его взгляд потонул в бездонной мгле, сгустившейся справа и слева между стволами высоких призрачных деревьев, смутно различимых в серых сумерках и не отбрасывавших теней; ему было отнюдь не весело, и хотелось, чтобы с ним был хотя бы ребенок или даже собака. Остановив лошадь, он начал прислушиваться. Ни шума шагов, ни стука колес. Но вот мертвое безмолвие нарушил резкий стук, что-то тяжелое упало с дерева и, скользнув между ветками зелени, ударилось о крышку гроба бедняжки Фанни. Туман уже осел на деревьях, и это была первая капля, сорвавшаяся с пропитанной влагой листвы. Глухой стук капли напомнил Пурграсу о неумолимой поступи смерти. Потом где-то рядом шлепнулась вторая капля, третья, четвертая. И вскоре тяжелые капли забарабанили по сухой траве, по дороге, по голове и плечам путника.
Нижние ветви деревьев, сплошь унизанные каплями, стали совсем седые, словно волосы старика. Ржаво-красные листья буков украсились каплями, как рыжие кудри — брильянтами.
В придорожном селении Ройтаун на опушке леса находился старинный постоялый двор под названием «Оленья голова». Оттуда было примерно полторы мили до Уэзербери; в прежние времена, когда разъезжали в дилижансах, здесь перепрягали лошадей. Теперь старые конюшни были снесены, и остался лишь постоялый двор, он стоял немного поодаль от дороги и напоминал о своем существовании проезжим вывеской, висевшей на толстом суку вяза на противоположной стороне дороги.
Путешественники — название «турист» еще не вошло в моду, — проезжая мимо и заметив на дереве вывеску, иной раз говорили, что на картинах им намозолили глаза лесные трактиры, но им еще не доводилось видеть в натуре такой живописной вывески. Как раз у этого вяза стояла повозка, в которую забрался Габриэль Оук, когда впервые попал в Уэзербери, но в темноте он не приметил ни вывески, ни постоялого двора.
На постоялом дворе сохранились старомодные обычаи и порядки. Его завсегдатаи твердо усвоили целый ряд правил, а именно:
Стукни кружкой о стол, если хочешь еще выпить.
Крикни погромче, если тебе требуется табак.
Обращаясь к служанке, говори: «Девушка».
Хозяйку зови «мамашей» и т. д. и т. п.
Джозеф вздохнул с облегчением, когда перед ним выросла приветливая вывеска, и живо остановил лошадь, решив осуществить давно уже созревшее намерение. Мужество истощилось у него до последней капли. Поставив лошадь головой вплотную к зеленому холмику, он вошел в трактир опрокинуть кружку эля.
Он спустился в кухню постоялого двора, пол которой был на ступеньку ниже коридора, в свою очередь находившегося ступенькой ниже большой дороги. И что же узрел Джозеф, к своей несказанной радости? Два медно-красных диска — физиономии мистера Джана Коггена и мистера Марка Кларка. Почтенные обладатели самых вместительных глоток во всей округе сидели нос к носу за круглым трехногим столиком, который был обнесен железной закраиной, дабы случайно не сбросили на пол кружки и стаканы. Приятели напоминали заходящее солнце и поднимающуюся над горизонтом полную луну, умильно взирающие друг на друга.
— Ба! Да это старина Пурграс! — воскликнул Марк Кларк. — Ей-ей, твой вид, Джозеф, не делает чести харчам твоей хозяйки.
— Всю дорогу у меня была страсть какая бледная спутница, — отвечал Джозеф, невольно вздрагивая и выражая на лице покорность судьбе. — И по правде сказать, мне стало не по себе. Ей-богу, я даже позабыл вкус колбасы и запах эля, только рано поутру глотнул самую малость.
— Так выпей, Джозеф, не томи себя, — сказал Когген, протягивая ему жбан с перехватом, полный на три четверти.
Джозеф пил небольшими глотками, потом стал глотать еще медленнее и наконец проговорил, опуская жбан на стол:
— А славно выпить, очень даже славно, на душе стало вроде веселей, ведь подумать только, какое печальное дело мне препоручили!
— И впрямь выпивка — утешение для души, — отозвался Джан; видно было, что он так усвоил эту затасканную истину, что слова сами собой сорвались у него с языка; подняв кружку, Когген медленно откинул голову назад и в предвкушении блаженства зажмурил глаза, чтобы его не отвлекали окружающие предметы.
— Что ж, ехать так ехать, — вздохнул Пурграс. — Хоть я бы и не прочь пропустить с вами еще кружку. Но люди могут потерять ко мне доверие, ежели увидят меня здесь.
— А куда ты держишь путь, Джозеф?
— Назад, в Уэзербери. Там у меня в повозке бедняжка Фанни Робин, без четверти пять мне надобно подвезти ее к воротам кладбища.
— А! Слыхал, слыхал, заколотили, бедную, в ящик. За гроб, должно, заплатил приход. А уж за колокольный звон и за могилу платить некому.
— Приход заплатит полкроны за могилу, а шиллинг за трезвон не станет платить, потому как трезвон — это роскошь, а уж без могилы никак не обойтись. А впрочем, я так полагаю, наша хозяйка за все заплатит.
— Хороша была девушка, пригожей не видывал! А на кой тебе спешить, Джозеф? Бедняжка померла, ее не воскресишь, так почему бы тебе не посидеть с нами здесь в уюте и не распить еще по кружке?
— Я бы не прочь выпить с вами, братцы мои, самый что ни на есть малюсенький наперсточек. Но времени у меня в обрез, потому как дело — оно всегда дело.
— Валяй еще кружку! После второй силы прибудет вдвое. Становится этак тепло да славно, работа так и спорится, все идет как по маслу. Слишком уж налегать на спиртное — плохое дело, еще угодишь в пекло к рогатому. Но ведь не всякому дано разбираться в напитках, а раз уж мы получили этакий дар, то будем пользоваться им на славу!
— Верно! — подхватил Марк Кларк. — Милостивый Господь наградил нас этим талантом, и грех зарывать его в землю. Будь неладны все эти пасторы, да псаломщики, да учителя с их чинными чаепитиями — из-за них пошли прахом добрые старые обычаи; провалиться мне на этом месте, если люди не разучились веселиться!
— Ну, уж теперь мне и впрямь пора, — заявил Джозеф.
— Полно тебе, Джозеф! Что за ерунда! Бедняжка померла — так ведь? Куда же тебе спешить?
— Уж я надеюсь, что Господь не взыщет с меня за мои проступки, — сказал Джозеф, снова усаживаясь. — По правде говоря, последнее время я таки поддавался искушениям. За этот месяц я разок напился вдрызг и в воскресенье не пошел в церковь, да вчера у меня сорвалось с языка скверное слово. А ведь надобно думать о спасении души, о будущей жизни помышлять и не пристало тратить время попусту.
— Видать, ты ходишь в Капеллу, Джозеф?
— Да что ты! Ни в жизнь!
— Что до меня, — заявил Когген, — то я верный сын англиканской церкви.
— И я тоже, ей-богу, так! — воскликнул Марк Кларк.
— Неохота мне говорить о себе, нет у меня такого обычая, — продолжал Когген, обнаруживая склонность разглагольствовать о своих убеждениях, характерную для потребителей напитков из ячменя. — Скажу одно: ни разу в жизни я не преступил ни одного церковного правила: пристал, как все равно пластырь, к старинной вере, в которой рожден. Да. Вот чем хороша церковь: прихожанин может заглядывать в добрый старый трактир, и незачем ему ломать голову над всякой там премудростью. Ну, а ежели тебе по вкусу ихние собрания, то изволь ходить в Капеллу и в ветер и в дождь и лезь из кожи вон. Признаться, те, что ходят в Капеллу, народ башковитый. Они навострились сочинять из головы всякие там молитвы — и о своей семье, и о тех, кто на море потерпел крушение, ну, о которых в газетах пишут.
— Навострились, что и говорить, навострились! — с воодушевлением подхватил Марк Кларк. — А вот нам, церковникам, не обойтись без молитвенников — оробеешь перед Господом богом и словечко из себя не выдавишь, язык прилипнет к гортани.
— А те, что молятся в Капелле, и впрямь со всеми святыми запанибрата, — глубокомысленно изрек Джозеф.
— Да, — откликнулся Когген. — Они-то уж, как пить дать, попадут в рай. Ведь они трудятся в поте лица и заработают себе спасение. Ясное дело, нам, членам церкви, далеко до них, и вряд ли нас пустят в рай. А все-таки я терпеть не могу тех, кто отступает от старой веры, чтобы наверняка попасть в рай. По мне, это все одно, что завербоваться шпионом из-за каких-то жалких фунтов. Вот что, люди добрые, как вымерз у меня в огороде картофель, ведь не кто другой, как наш пастор Сэрдли дал мне мешок на семена, а у него вряд ли оставался еще мешок для себя, да и купить было не под силу. Кабы не он, не посадить бы мне ничегошеньки. Что, по-вашему, я после этого переменю веру? Ну, уж нет, буду держаться крепко за старину, а если уж мы все заблуждаемся — не беда! Погибать, так гуртом!
— Здорово сказано, очень даже здорово! — восхитился Джозеф. — А все-таки, друзья, мне пора в путь, ей-богу, пора! Пастор Сэрдли будет ждать у кладбищенских ворот, а там на дороге у меня в повозке покойница.
— Не расстраивайся, Джозеф Пурграс! Ей-ей, пастор Сэрдли не прогневается. Он человек добрый. Сколько раз заставал меня в трактире, — а я немало потребил напитков за свою долгую и греховную жизнь, — но ведь он никогда не распекал меня за попойку. Садись.
Чем дольше сидел Джозеф Пурграс, тем меньше тревожила его мысль о возложенных на него обязанностях. Минуты неприметно скользили за минутами, и вот уже начали сгущаться вечерние тени; глаза наших собутыльников казались светящимися точками в темноте. Часы Коггена глухо пробили у него в кармане шесть раз.
В этот миг у входа в харчевню послышались торопливые шаги, дверь распахнулась, и появился Габриэль Оук в сопровождении трактирной служанки со свечой в руке. Он строго взглянул на физиономии гуляк, из которых одна была длинная, как дека скрипки, а две другие — круглые, как сковородки, и все три — едва ли выразительнее означенных предметов. Джозеф Пурграс заморгал глазами и тихонько отодвинулся в тень.
— Честное слово, мне стыдно за вас! Какой позор, Джозеф, какой позор! — в негодовании воскликнул Габриэль. — Когген, вы еще называетесь мужчиной, а ведете себя по-свински!
Когген тупо уставился на Оука, причем то один, то другой глаз закрывался у него по своему почину, словно они были не частью его самого, а какими-то самостоятельными, живыми и сонливыми существами.
— Будет вам хорохориться, пастух! — проговорил Марк Кларк, укоризненно глядя на свечу, по-видимому, обладавшую какими-то притягательными свойствами.
— Покойницу никто не обидит, — вдруг заговорил Когген, автоматически отчеканивая слова. — Для нее уж сделали все, что положено… Ее нету с нами, и на кой человеку разрываться и спешить ради безжизненного праха, ведь он ничегошеньки не чувствует, не видит и даже не знает, что с ним делают? Будь она в живых, я первый бы ей помог. Захоти она поесть либо выпить, я сразу же выложил бы денежки. Но она померла, и спеши не спеши, ее не оживишь: она ушла от нас, и нечего на нее попусту тратить время. На кой нам торопиться? Выпейте, пастух, и будем друзьями, ведь завтра с нами может приключиться то же, что и с ней!
— Очень даже может! — подхватил с пафосом Марк Кларк и тут же отхлебнул, спеша насладиться благами жизни, пока с ним еще не случилось упомянутое событие. А Джан выразил свои мысли о завтрашнем дне в следующей песне:
- За-втра! За-втра!
- Нынче мир и достаток под кровом царят,
- И с душой беззаботной пирую!
- Угощаю друзей — чем богат, тем и рад!
- Завтра ж — пить без меня круговую!
- За-втра! Зав…
— Заткнитесь, Джан! — оборвал его Оук и обернулся к Пурграсу: — Что до вас, Джозеф, то вы ведете себя просто мерзко, хоть и корчите из себя святошу! Вы напились до чертиков и не держитесь на ногах!
— Ну, нет, пастух Оук, нет! Выслушайте разумное слово, пастух. Все дело в том, что на меня напала хворь, что зовется двоящийся глаз, вот вы и видите вместо меня двоих, то бишь я вижу вместо вас двоих.
— Двоящийся глаз — скверная штука! — изрек Марк Кларк.
— Так всегда со мной случается, как засижусь в трактире, — со смиренным видом продолжал Джозеф Пурграс. — Да! Я вижу всякой твари по паре… как будто меня за святость Ной захватил с собой в ковчег… Д-д-д-да, — прибавил он, воображая себя отщепенцем и пуская слезу. — Видать, я слишком хорош для нынешней Англии, жить бы мне в Ветхом Завете с другими праведниками, тогда никто не наз-з-зывал бы меня пьянчу-чугой!..
— Будет вам разводить нюни! Совсем ополоумели!
— Ополоумел?.. Ну, что ж! Обзывайте меня пьянчугой! Я приму это смиренно, я готов каяться на коленях, ей-богу, готов! Ведь я перед всяким делом говорю: «Господи, благослови!» День-деньской не сходит у меня это с языка. Видать, за этот святой обычай я и заслужил поношение! Так, значит, я ополоумел?! Да разве я позволял куражиться надо мной? Всякий раз давал сдачу, да еще как! Верно я говорю?
— Так оно и было, молодчина ты, Джозеф! — с жаром воскликнул Джан.
— Никогда я не допускал такого со мной обхождения! А вот пастух при всех моих достоинствах обозвал меня полоумным!.. Ну, да бог с ним… Смерть будет для меня избавлением!..
Убедившись, что ни одному из работников нельзя доверить повозку, Габриэль, ни слова не говоря, вышел, захлопнул за собой дверь и направился к повозке, уже еле различимой в осенней мгле. Он отвернул морду лошади от холмика, который она начисто объела, поправил ветки на крышке гроба, и повозка покатилась дальше в темноте, насыщенной вредоносными испарениями.
В селении мало-помалу распространился слух, что к вечеру должны привезти и предать земле тело злополучной Фанни Робин, которая убежала в Кэстербридж и оттуда переходила из города в город, следуя за N-ским полком. Но благодаря молчаливости Болдвуда и великодушию Оука никому и в голову не приходило отождествить Троя с возлюбленным, за которым она последовала. Габриэль надеялся, что правда не выплывет наружу хотя бы в ближайшие дни; девушка скроется под землей, вырастет могильный холмик, пройдет время, об этом событии начнут забывать, и Батшеба не испытает острой боли, какую теперь причинили бы ей оскорбительные толки.
Когда Габриэль добрался до старого особняка Батшебы, чье поместье было расположено на пути к кладбищу, уже окончательно стемнело. Из ворот вышел человек и спросил сквозь туман, висевший между ними, как облако мучной пыли:
— Это Пурграс с телом? — Габриэль узнал голос пастора.
— Я привез тело, сэр, — отозвался он.
— Я только что заходил к миссис Трой осведомиться, не известно ли ей, чем вызвана задержка. Боюсь, что сейчас слишком поздно, и уже нельзя совершить обряд погребения с должной благопристойностью. Что, свидетельство о смерти при вас?
— Нет, — отвечал Габриэль. — Я полагаю, оно у Пурграса, а он застрял в «Оленьей голове». Я забыл спросить у него.
— Ну, так это решает вопрос. Отложим похороны до завтрашнего утра. Тело можно отвезти в церковь или же оставить здесь, на ферме; а утром его возьмут носильщики. Они прождали больше часа и разошлись по домам.
У Габриэля были основания считать второе предложение пастора неприемлемым, хотя Фанни еще при жизни дядюшки Батшебы несколько лет прослужила на ферме. Он подумал о разных непредвиденных обстоятельствах: ведь эта задержка может повлечь за собой несчастные случайности! Но его воля не была законом, и он решил узнать, как выскажется по этому поводу его хозяйка. Войдя в гостиную, он сразу заметил, что она в каком-то необычном состоянии: он прочитал в ее глазах подозрения и растерянность; как видно, ее обуревали мрачные мысли. Трой еще не возвратился. Сперва Батшеба с равнодушным видом согласилась на предложение Оука перевезти тело в церковь, но, дойдя с Габриэлем до ворот, переменила решение и захотела, чтобы покойницу внесли в дом. Оук убеждал Батшебу, что лучше оставить ее в повозке, где она лежит, укрытая цветами и зелеными листьями, только завезти повозку до утра в каретный сарай, но все его доводы были напрасны.
— Это будет жестоко и уж совсем не по-христиански, — возразила она, — если мы оставим бедняжку на ночь в каретном сарае.
— Что ж, прекрасно, — сказал пастор. — Ее похоронят завтра рано утром, я позабочусь об этом. Миссис Трой права, мы должны оказать уважение умершей. Не забудем, что, хотя она совершила серьезный проступок, убежав из дома, все же она остается нашей сестрой. Будем надеяться, что Господь по своему безграничному милосердию простит ее и причислит к агнцам стада Христова.
Слова пастора, сказанные печальным и бесстрастным тоном, замерли в густом воздухе, и у Габриэля на глазах показались слезы. Батшеба, казалось, не была тронута. Мистер Сэрдли удалился, а Габриэль зажег фонарь. Он позвал на помощь еще троих мужчин, все вместе они внесли в дом бесчувственное тело изменившей своему долгу служанки и, исполняя приказание Батшебы, поставили гроб на две сдвинутые скамейки в маленькой гостиной, смежной с прихожей.
Потом все, кроме Габриэля Оука, вышли из комнаты. Он продолжал стоять в нерешительности возле гроба. Оук был до глубины души потрясен зловещей иронией обстоятельств, складывавшихся против жены Троя, и чувствовал, что не в силах предотвратить беду. Как он ни старался, какие ни предпринимал меры, случилось самое худшее. Оук представлял себе, какие последствия будут иметь события сегодняшнего дня: ведь ужасное открытие неизбежно бросит на жизнь Батшебы тень, которая лишь слегка рассеется по истечении долгих лет, но никогда не изгладится окончательно.
Оук ломал голову, как бы избавить Батшебу от грозивших ей страданий. Но вот он снова взглянул на крышку гроба и вдруг увидел нацарапанные на ней простые слова: «Фанни Робин и младенец». Габриэль вынул носовой платок и тщательно стер два последних слова, оставив лишь имя: «Фанни Робин». Затем он вышел из комнаты и покинул особняк, спокойно затворив за собою парадную дверь.
Глава XLIII
Месть Фанни
— Я вам еще нужна, мэм? — спросила поздним вечером Лидди, стоя в дверях со свечой в руке и глядя на Батшебу, которая сидела, печальная и одинокая, в большой гостиной возле камина, где впервые этой осенью пылал огонь.
— Сегодня ты больше не нужна, Лидди.