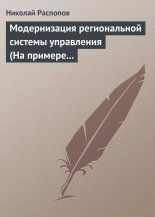Вдали от обезумевшей толпы Гарди Томас
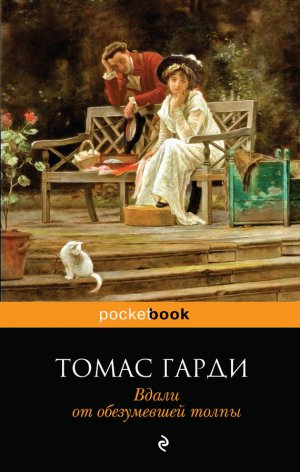
— Если вам угодно, мэм, я посижу, покуда вернется хозяин. Я ни чуточки не боюсь Фанни, только позвольте мне сидеть у себя в комнате при свече. Она была совсем как дитя, такая безобидная, и ее дух, уж конечно, не может никому явиться.
— Нет, нет! Ступай спать. Я подожду его до двенадцати часов и, если он не приедет к этому времени, тоже лягу спать.
— Сейчас половина одиннадцатого.
— Как! Уже?
— Почему вы не подниметесь наверх, мэм?
— Почему не поднимусь? — рассеянно повторила Батшеба. — Да ведь здесь топится камин, Лидди. — И неожиданно для себя спросила взволнованным шепотом: — Ты не слыхала каких-нибудь толков про Фанни?
Едва вырвались у нее эти слова, как на лице мелькнуло выражение непередаваемой скорби, и она залилась слезами.
— Ни единого словечка! — ответила Лидди, с удивлением глядя на плачущую хозяйку. — Отчего вы плачете, мэм? Что вас так опечалило? — Она подошла к Батшебе, в глазах ее светилось искреннее сочувствие.
— Ничего, Лидди… Ты мне больше не нужна. Я и сама не понимаю, почему за последнее время у меня так часто глаза на мокром месте, раньше этого со мной не бывало. Спокойной ночи.
Лидди вышла из гостиной и притворила за собой дверь.
Батшеба чувствовала себя одинокой и несчастной. Правда, до своего замужества она привыкла к одиночеству, но раньше ее можно было уподобить человеку, одиноко стоящему на вершине горы, а теперь она как бы находилась в одиночном заключении. За последние два дня на нее нахлынули мучительные мысли о прошлом ее мужа. Теперь в ее груди бушевали самые противоречивые чувства, и сперва ей не захотелось поставить на ночь к себе в дом тело Фанни. Но потом она осознала, что ею владеют предрассудки, и решила превозмочь жестокий низменный инстинкт, заглушавший в ее сердце всякое сочувствие к умершей женщине, которая до нее была дорога Трою; Батшеба по-прежнему его любила, хотя ее любовь была смертельно ранена и отравлена мрачными предчувствиями.
Минут через десять снова раздался стук в дверь. Опять появилась Лидди. Сделав несколько шагов, она остановилась, немного помялась и сказала:
— Мэриен только что слышала кое-что больно чудное, только бьюсь об заклад, что это вранье. И мы наверняка узнаем все, как было, через день-другой.
— Что такое?
— Да это ничуть не касается вас, мэм. Это насчет Фанни. То самое, что вы слыхали.
— Да я ничего не слыхала.
— Видите ли, сейчас по Уэзербери пошли недобрые слухи, будто… — Лидди подошла вплотную к своей хозяйке и медленно прошептала ей на ухо окончание этой фразы, кивнув головой в сторону комнаты, где лежала Фанни.
Батшеба вздрогнула.
— Не верю этому! — воскликнула она с жаром. — Да и на крышке гроба написано только ее имя!
— И я не верю, мэм. Да и мало кто верит. Будь это правда, уж мы наверняка что-нибудь да услыхали бы, как по-вашему, мэм?
— Может, и услыхали бы, а может, и нет.
Батшеба отвернулась и стала смотреть на огонь в камине, чтобы Лидди не увидела ее лица. Убедившись, что хозяйка больше не расположена говорить, Лидди выскользнула из комнаты, тихонько притворила дверь и отправилась спать.
В тот вечер лицо Батшебы, не сводившей глаз с огня, могло бы вызвать беспокойство даже у постороннего человека. Батшеба и не думала торжествовать, узнав о печальной участи Фанни Робин, хотя ее можно было бы уподобить Эсфири, а соперницу — злополучной Васти, и невольно хотелось сопоставить их судьбы. Простодушная, выросшая за городом и воспитанная в старомодных правилах, Батшеба была потрясена событием, которое произвело бы лишь слабое впечатление на светскую женщину, — смертью Фанни и ее младенца (если он вправду у нее был). Когда Лидди вторично вошла в комнату, прекрасные глаза хозяйки смотрели на нее как-то безжизненно и устало. После того как девушка все выболтала и удалилась, в этих глазах отразилось неимоверное страдание. Немного спустя оно перешло в апатию. Но время текло, и мысли Батшебы, вначале вялые и сумбурные, стали постепенно оживляться, разгладились мрачные складки на лбу, и выражение тревоги в глазах сменилось покоем сосредоточенного размышления.
Батшеба смутно догадывалась, что смерть Фанни связана с какой-то трагической историей, в которую замешана и она сама, хотя ни Оук, ни Болдвуд даже не допускали мысли, что она обо всем догадывается. Встреча с одинокой женщиной субботним вечером произошла без свидетелей и не вызвала никаких толков. Оук из самых лучших побуждений пытался возможно дольше сохранить в тайне все, приключившееся с Фанни, но если б он знал, что Батшеба сама старается распутать этот узел, он не стал бы держать ее в томительной неизвестности, понимая, что ужасная правда только подтвердит ее подозрения.
Внезапно ей страстно захотелось поговорить с человеком, более сильным духом, чем она, и почерпнуть у него мужества, чтобы с достоинством перенести свалившееся на нее бремя мук стоически перетерпеть гнетущие сомнения. Где бы ей найти такого друга? Только не у себя в доме. Она куда хладнокровнее всех женщин, живущих под ее кровом. Сейчас ей хотелось одного — научиться терпеливо выжидать и воздерживаться от всяких суждений хотя бы в ближайшие часы, но некому было ее в этом наставить. Уж не пойти ли ей к Габриэлю Оуку? Нет, она этого не сделает!
«Как стойко умеет переносить Оук все трудности жизни», — подумалось ей. Казалось, Болдвуду доступны более глубокие, возвышенные и сильные чувства, чем Габриэлю, а между тем он до сих пор постиг не лучше ее ту простую науку, какой в совершенстве овладел Оук, доказывая это каждым своим движением и взглядом: он умел поступаться своими личными интересами ради интересов других людей и не ставил выше всего свое благополучие. Оук вдумчиво всматривался в происходящие события, отнюдь не считая себя их центром. Именно такой и хотелось бы ей быть! Но ведь Оука не мучает неизвестность, от которой сейчас разрывается ее сердце. Оук решительно все знает о Фанни — она уверена в этом. Если она сейчас отправится к нему и задаст лишь один краткий вопрос: «Правду ли говорят люди?» — он как человек чести обязан будет ей ответить. И она получит невыразимое облегчение. Ей не понадобится давать ему объяснений. Оук так ее изучил, что его не испугает никакая ее эксцентричность.
Она накинула плащ, распахнула дверь и вышла на крыльцо. Ни один листик, ни одна ветка не шевелилась. Воздух был все еще насыщен влагой, хотя туман уже не казался таким густым, как во вторую половину дня, и капли гулко, с правильными промежутками, почти в музыкальном ритме падали с деревьев на сухие листья, устилавшие землю. Батшеба подумала, что на воздухе ей будет легче, чем дома, и, заперев дверь, зашагала вдоль по улочке, направляясь к коттеджу, в котором теперь жил в одиночестве Габриэль, перебравшийся туда из дома Коггена, где было слишком тесно. Она остановилась против коттеджа. Только в одном из окон нижнего этажа виднелся свет. Ставни не были закрыты, на окне не было ни занавесок, ни штор, — как видно, хозяин помещения не слишком-то опасался воров или любопытных взглядов. В окне она увидела Габриэля, он читал, сидя за столом. Она могла отчетливо его разглядеть — он сидел неподвижно, подперев рукой белокурую кудрявую голову, и лишь по временам снимал нагар со свечи, стоявшей подле него. Наконец он взглянул на часы, очевидно, удивился, что уже так поздно, захлопнул книгу и встал. Она поняла, что он собирается ложиться спать, и если стучать, то надо сию же минуту.
Увы! Куда девалась ее решимость! Она почувствовала, что не в силах этого сделать. Ни за что на свете не намекнет она ему о своем горе, а тем более не станет допытываться, чем вызвана смерть Фанни. Она обречена подозревать, и догадываться, и терзаться, и все переносить в одиночку.
Подобно бездомному страннику, стояла Батшеба на краю дороги, убаюканная и зачарованная атмосферой покоя, царившей в коттедже. Как недоставало в ее доме тишины и мира! Но вот Габриэль появился в верхней комнате, поставил свечу на подоконник и… преклонил колени для молитвы. В ее смятенной, растерзанной душе так мучительно отразилась эта мирная картина, что она больше не в силах была смотреть. Нет! Не для нее такое примирение с горем! Она должна пройти до конца мучительный пагубный путь, на который вступила. С тяжелым сердцем зашагала она назад и вошла в свой дом.
Ею овладело лихорадочное возбуждение: оно пришло на смену тех чувств, какие она испытала, наблюдая Оука; в прихожей она остановилась, глядя на дверь, за которой лежала Фанни. Она сплела пальцы рук, откинула голову назад и, прижав горячие руки ко лбу, воскликнула с истерическим стоном:
— Боже мой! Если б ты только могла, Фанни, открыть мне свою тайну!.. О, я надеюсь, я все же надеюсь, что это неправда, что вас тут не двое!.. Если б мне хоть на миг заглянуть в гроб, я узнала бы все!.. — Через минуту-другую она медленно прошептала: — И я узнаю!
Впоследствии Батшеба не могла припомнить, что происходило у нее в душе в тот памятный вечер; произнеся решительным шепотом эти слова, она стала лихорадочно действовать. Она прошла в чулан, разыскала среди хлама отвертку. Вскоре после этого она очутилась в маленькой комнате; она дрожала от волнения, глаза застилал туман, в висках мучительно стучало, но ей страстно хотелось разгадать причину смерти Фанни. Стоя у закрытого гроба той, чей окутанный тайной конец с неумолимой силой овладел всеми ее мыслями, Батшеба хриплым голосом проговорила:
— Лучше знать самое худшее, чем мучиться неизвестностью!
Она очутилась перед гробом после целого ряда поступков, совершенных в каком-то сумбурном сне; приводя в исполнение мысль, блеснувшую ей в прихожей, она взбежала вверх по лестнице, прислушиваясь к тяжелому дыханию служанок, убедилась, что они крепко спят, вновь скользнула вниз, повернула ручку двери, вошла в комнату, где стоял гроб, и стала отвинчивать крышку. Раньше она ужаснулась бы, если бы представила себе, что занимается таким делом глухой ночью в полном одиночестве, а теперь даже не испытывала особенного страха. Но какой ужас овладел ею, когда, заглянув в гроб, она получила неоспоримое доказательство вины мужа и узнала последнюю главу истории Фанни!
Голова Батшебы поникла. Глубокий вздох, долго сдерживаемый в томительном напряжении, вырвался из ее груди вместе с тихим стоном: «О-о-о!» — прозвучавшим в мертвой тишине.
Слезы ее посыпались градом на бесчувственные тела, лежавшие в гробу, слезы весьма сложного происхождения; трудно было бы сказать, чем они вызваны, но это не были только слезы отчаяния. Их жгучее пламя словно возгорелось из холодного праха Фанни, которая силою обстоятельств была приведена сюда таким простым, естественным и вместе с тем удивительным образом. Фанни умерла и тем самым совершила единственный поступок, который мог поднять ее из униженного состояния и даже возвеличить. Вдобавок судьба устроила сегодня их встречу, и в необузданном воображении Батшебы неудача соперницы преобразилась в успех, ее унижение — в торжество, злополучие — в могущество, а на нее, Батшебу, упал луч беспощадного света, и она предстала в жалком виде, казалось, все предметы вокруг нее злорадно усмехались.
Лицо Фанни было обрамлено золотистыми волосами, и теперь уже не оставалось сомнений в происхождении локона, хранившегося в часах Троя. Фантазия Батшебы разыгралась, и ей мерещилось, будто невинное белое личико Фанни выражает торжество, словно девушка сознает, что отплатила страданием за свои страдания со всей беспощадной суровостью Моисеева закона: «Око за око и зуб за зуб».
Батшеба стала тешить себя мыслью о смерти как о мгновенном выходе из мучительного положения; она сознавала, что недопустимо прибегать к такому ужасному средству, но еще ужаснее, думалось ей, до конца дней терпеть позор. Однако делать ставку на смерть — значило рабски подражать сопернице; к тому же нельзя было ожидать, что смерть возвеличит ее, как возвеличила Фанни. Как всегда в минуты волнения, Батшеба металась взад и вперед по комнате, ломая руки; с губ у нее слетали бессвязные слова:
— Я ненавижу ее!.. Да нет, я не то хотела сказать… Ведь это отвратительно и грешно… И все же я, пожалуй, ее ненавижу… Да, она ненавистна мне до мозга костей, хоть в глубине души я это осуждаю… Будь она жива, я накинулась бы на нее, жестоко бы разбранила, и это было бы естественно. Но изливать злобу на покойницу — как это мерзко! О боже, сжалься надо мной! До чего я несчастна!
Батшебу так ужаснуло ее душевное состояние, что она стала озираться по сторонам, как бы ища защиты от самой себя. Тут ей вспомнился Оук, стоящий на коленях поздним вечером, в ней заговорил инстинкт подражания, нередко появляющийся у женщин, она ухватилась за эту мысль и решила последовать его примеру. Габриэль молился, почему бы не помолиться и ей?
Она опустилась на колени возле гроба и закрыла лицо руками. В комнате стало тихо, как в могиле. Оттого ли, что она действовала чисто машинально, или по какой-нибудь другой причине, но она поднялась с умиротворенной душой, сожалея, что поддалась мстительному чувству.
Желая загладить свою вину, она вынула цветы из вазы, стоявшей на окне, и стала раскладывать их вокруг головы покойницы. Батшеба знала лишь один способ проявлять внимание к усопшим — это убирать их цветами. Должно быть, прошло несколько минут. Она была вне времени и вне жизни, не сознавала, где находится и что делает. Очнулась она, услыхав стук захлопнувшихся ворот каретного сарая. Через минуту отворилась и захлопнулась парадная дверь, в прихожей послышались шаги, и в дверях появился ее муж; он остановился, глядя на нее.
Трой не сразу уразумел, в чем дело; окаменев от изумления, он созерцал эту картину, словно какую-то дьявольскую фантасмагорию. Батшеба, бледная, как покойница, вставшая из гроба, устремила на него обезумевший взгляд.
Охваченный волнением человек теряет способность связно мыслить, и пока Трой стоял, держась за ручку двери, ему даже не пришло в голову, что все это имело прямое отношение к Фанни.
Прежде всего ему смутно подумалось, что в доме кто-то умер.
— Что… такое? — растерянно спросил он.
— Уйду!.. Уйду отсюда! — твердила Батшеба, обращаясь скорей к самой себе, чем к нему. С широко раскрытыми глазами она направилась к двери, собираясь проскользнуть мимо него.
— Что случилось, скажи, ради бога! Кто умер? — допытывался Трой.
— Не могу. Пусти меня. Хочу на воздух! — твердила она.
— Нет! Оставайся здесь, слышишь? — Он схватил ее за руку, и вдруг она словно утратила силу сопротивления и впала в совершенную пассивность. Он увлек ее за собой; рука об руку, Трой и Батшеба приблизились к гробу.
На письменном столе близ гроба стояла свеча, и в ее свете отчетливо выступали застывшие черты матери и младенца. Трой взглянул, выпустил руку жены, перед ним блеснула зловещая правда, и он замер на месте.
Он стоял в таком оцепенении, что можно было подумать, что он так и не сдвинется с места. Овладевшие им противоположные чувства, сталкиваясь, парализовали друг друга, следствием чего была полная неподвижность.
— Ты ее знаешь? — спросила Батшеба, и голос ее звучал глухо, словно эхо, доносящееся из глубины пещеры.
— Знаю, — отвечал Трой.
— Это она?
— Она.
Сперва он стоял как вкопанный. Но теперь в его неподвижности уже можно было подметить признаки зарождающегося движения, подобно тому, как в глубоком мраке ночи через некоторое время глаз начинает улавливать какое-то подобие света. Он слегка подался вперед. На его лице выражение ужаса сменилось неподдельной печалью. Батшеба пристально смотрела на Троя, губы ее по-прежнему были полуоткрыты, и в глазах светилось безумие. Чем сильнее по натуре человек, тем сильней он страдает, и как ни велики были страдания Фанни, явно для нее непосильные, возможно, что она никогда не испытывала таких мук, какие переживала сейчас Батшеба.
Но вот Трой опустился на колени, по его лицу видно было, что он раскаивается и охвачен благоговением. Склонившись над телом Фанни, он нежно поцеловал ее, как целуют спящего ребенка, опасаясь его разбудить.
Не в силах этого стерпеть, Батшеба ринулась к Трою. Казалось, все чувства, обуревавшие ее с тех пор, как она познала чувство любви, слились в едином порыве. Произошел резкий, крутой перелом; несколько минут назад она с болью размышляла о своей поруганной чести, о том, что другая стала матерью раньше ее и восторжествовала над ней. Но все было забыто, едва в ней проснулось простое, но все еще сильное чувство любви жены к мужу. Она больше не скорбела о своей разбитой жизни, ее ужасала мысль, что разорван их брак, казалось бы, такой неудачный. Она обвила руками шею Троя, и у нее вырвались сумасшедшие слова:
— Не надо! Не целуй их! О, Фрэнк, я не перенесу этого! Не могу!.. Я люблю тебя крепче, чем любила она… Поцелуй же меня, Фрэнк!.. Поцелуй меня! Ты должен и меня поцеловать, Фрэнк!
В этом ребяческом проявлении горя, в этой наивной мольбе было что-то настолько неестественное и необычайное для такой независимой женщины, как Батшеба, что Трой, освободившись от ее рук, в недоумении воззрился на нее. Внезапно ему открылось, что все женщины в глубине души одинаковы, даже такие различные по характеру и внешности, как Фанни и та, что стояла рядом с ним; ему как-то не верилось, что это его гордая жена Батшеба. Казалось, дух Фанни вселился в нее. Но то было лишь мимолетное впечатление. Когда улеглось удивленье, он сурово взглянул на Батшебу.
— Нет, я не стану тебя целовать! — заявил он, отталкивая ее.
Могла ли Батшеба стерпеть такое оскорбление? Как было ей не высказаться в такой ужасный момент, когда от человека нельзя требовать благоразумия и обдуманности! Это было вполне естественно и даже простительно. Невероятным усилием воли она обуздала кипевшие в ней чувства.
— Чем же ты объясняешь свой отказ? — спросила она со сдержанной болью, странно тихим и словно чужим голосом.
— Я должен сказать, что я скверный, черствый человек, — отвечал он.
— Ты признаешь, что эта женщина — твоя жертва, да и я тоже?
— Не язвите меня, сударыня! Эта женщина, даже мертвая, мне гораздо дороже вас, всегда была и будет дороже. Если б мне не подсунул вас сам дьявол, если б не ваша красота и проклятое кокетство, я женился бы на ней. Я ни о чем другом и не думал, пока не повстречался с вами. Ах, почему я этого не сделал! Но теперь уж поздно. Я обречен терзаться из-за этого всю жизнь! — Тут он повернулся к Фанни. — Не сердись на меня, дорогая! — сказал он. — Перед богом ты воистину моя жена!
Тут из груди Батшебы вырвался долгий-долгий вопль, сердце ее разрывалось от скорби и гнева. В этих старых стенах, видевших немало поколений, никогда еще не раздавался такой мучительный стон. Прозвучал приговор судьбы: «».[2]
— Если она… для тебя… то что же тогда я? — сквозь слезы пролепетала Батшеба, и ужасно было видеть в таком отчаянии эту обычно сдержанную женщину.
— Ты ничто для меня… решительно ничто! — безжалостно бросил Трой. — Священник может совершить обряд, но это еще не значит, что состоялся брак. Душою я не твой.
Внезапно Батшебой овладело безумное желание: спастись отсюда, скрыться, бежать от него хоть на край света, пусть даже умереть, только не слышать этих ужасных слов! Она повернулась к дверям и выбежала из комнаты.
Глава XLIV
Под деревом. Кризис
Батшеба быстро шла в темноте по дороге, не думая о том, куда и зачем она идет. Она впервые отчетливо осознала, где находится, когда очутилась перед калиткой, за которой виднелись какие-то густые заросли, а над ними высокие дубы и березы. Присмотревшись, она припомнила, что когда-то была здесь днем; эта с виду непроходимая чаща оказалась зарослями папоротников, уже сильно пожухших. Не зная, куда себя деть, вся трепеща от возбуждения, Батшеба почему-то решила спрятаться в зарослях; она вошла в калитку и вскоре увидела наклонившееся к земле дерево; его густые ветви могли защитить от сырого тумана, и она опустилась возле него на груду листьев и стеблей. Машинально она нагребла две-три охапки, зарылась в листья, чтобы укрыться от ветра, и сомкнула веки.
Едва ли Батшеба спала в эту ночь, верней, это была легкая дремота, но когда она очнулась, то почувствовала себя освеженной, и мысли ее прояснились. Но вот ее внимание привлекли какие-то странные звуки и движение в ветвях над головой.
Сперва послышался сиплый щебет.
Это проснулся воробей.
Затем из другого местечка: «Чью-уиз-уиз-уиз!»
То был зяблик.
Потом на изгороди: «Тинк-тинк-тинк-тинк-а-чинк!»
То была малиновка.
Над головой что-то застрекотало: «Чок-чок-чок!»
Белка.
Наконец, с дороги донеслось: «Ра-та-та! Рум-тум-тум!»
То был молодой батрак. Вскоре он поравнялся с воротами, и она узнала голос своего работника. Его пение заглушал тяжелый беспорядочный топот копыт. Выглянув из зарослей, Батшеба рассмотрела в тусклом свете нарождающегося дня пару своих коней. Они остановились на водопой у пруда по ту сторону дороги. Послышался всплеск, лошади вошли в пруд, разбрызгивая воду, и принялись пить; по временам они вскидывали голову кверху,потом снова пили, и вода сбегала у них с губ серебряными ниточками. Снова всплеск — и они вышли из пруда, повернули назад и затрусили к ферме.
Она продолжала осматриваться. Заря только еще занималась, этим ясным прохладным утром Батшебе показались дикими ее поступки и решения, принятые сгоряча минувшей ночью. Она обнаружила у себя на коленях и в волосах множество красных и желтых листьев, упавших на нее с дерева, во время дремоты. Батшеба отряхнула платье, сбрасывая их, и множество сухих листьев, валявшихся вокруг, взлетело на воздух и закружилось в поднятом ею ветерке, «как духи, вызванные чародеем».
К востоку чаща папоротников расступалась, и предрассветное сияние привлекло взгляд Батшебы. У самых ее ног начинался склон, где густо разрослись живописные папоротники, раскинувшие во все стороны желтые перистые крылья, а внизу, в ложбине, виднелось небольшое болотце, испещренное россыпью поганок. Болотце застилал утренний туман, вредоносная, но великолепная серебряная пелена, пронизанная светом, но не совсем прозрачная, — стоявшая по ту сторону болота изгородь смутно вырисовывалась сквозь светозарную дымку. По краям пади густо разросся тростник; кое-где в лучах восходящего солнца блестели стебли касатика, словно лезвия кос. Болото имело зловещий вид. Казалось, из недр земли, от подземных вод над влажной губительной порослью поднимались ядовитые миазмы. Поганки всевозможных видов расплодились на болотце, вырастали из прелой листвы, покрывали пни. Взгляд Батшебы рассеянно скользил то по слизистой грибнице, то по клейким шапочкам поганок. Одни были усеяны крупными пятнами, словно обрызганы артериальной кровью, другие — шафранно-желтого оттенка, третьи на тонких ножках, длинных, как макароны. Попадались и кожистые шапочки сочных коричневых тонов. Падь казалась рассадником всякой заразы, хотя и находилась по соседству с местами, дышавшими уютом и здоровьем. Батшеба поднялась, содрогаясь при мысли, что провела ночь на краю этой угрюмой топи.
Но вот на дороге снова послышались шаги. У Батшебы нервы были до крайности напряжены, она притаилась в зарослях. Вскоре появился пешеход. То был мальчишка-школьник, через плечо у него был перекинут мешочек с завтраком, а в руке книжка. Он остановился у калитки и, глядя себе под ноги, бормотал так громко, что она могла разобрать слова:
— «Боже, боже, боже, боже, боже!» Это я заучил… «Даруй нам, даруй нам, даруй нам, даруй нам…» Это я уже знаю… «Милость твою, милость твою, милость твою, милость твою…» И это знаю…
Зубрежка продолжалась. Мальчишка, как видно, принадлежал к разряду тупиц, книжка была не что иное, как псалтырь, и таким способом он задалбливал псалмы. При самых острых пароксизмах душевной боли некий поверхностный слой сознания остается незатронутым, и подмечаются всякие мелочи; Батшебу слегка позабавил маленький зубрила, но вот и он удалился.
Тем временем оцепенение сменилось тревогой, а тревогу начали заглушать все усиливающиеся голод и жажда. Вдруг на холме с противоположной стороны болота появилась полускрытая туманом фигура и стала приближаться к Батшебе. Это была женщина, она шла, оглядываясь по сторонам, словно что-то высматривая. Обогнув слева болото, она подошла поближе, и Батшеба рассмотрела ее профиль, вырисовывавшийся на залитом солнцем небе, волнистая линия сбегала ото лба к подбородку, без единого угла, то были знакомые, мягкие черты Лидди Смолбери.
Сердце Батшебы бурно забилось, она почувствовала благодарность, убедившись, что не совсем покинута, и вскочила на ноги.
— Ах, Лидди! — сказала она, вернее, попыталась сказать — слова только зарождались у нее на устах, звуков же не было слышно. Она потеряла голос, надышавшись за ночь тяжелым, сырым воздухом.
— Ах, мэм! Как я рада, что нашла вас! — воскликнула Лидди, разглядев Батшебу.
— Тебе не перейти через топь, — прошептала Батшеба, тщетно стараясь повысить голос, чтобы Лидди ее расслышала. Девушка, ничего не подозревая, ступила на болото.
— Мне думается, здесь можно пройти, — проговорила она.
Батшебе на всю жизнь врезалась в память эта быстро промелькнувшая картина: как Лидди пробиралась к ней по болоту в утренних лучах. Радужные пузырьки — тлетворное дыхание земли — выскакивали из-под ног девушки, ступавшей по трясине, лопались с шипением, и струйки пара улетали ввысь, к мглистым небесам. Лидди не провалилась, несмотря на опасения Батшебы.
Она благополучно добралась до противоположного края болота и заглянула в лицо молодой хозяйки — оно было бледное, измученное, но не утратило своей красоты.
— Бедненькая! — воскликнула Лидди со слезами на глазах. — Ну, успокойтесь, мэм, пожалуйста, успокойтесь. Как же это так…
— Я могу говорить только шепотом, потеряла голос, — перебила ее Батшеба. — Должно быть, мне повредила сырость здесь, на болоте. Ни о чем не спрашивай меня, Лидди. Кто тебя послал? Послал кто-нибудь?
— Никто. Увидала я, что вас нету дома, и подумала: уж не стряслась ли какая беда? Мне послышался его голос среди ночи, я и решила: тут что-то неладно…
— Он дома?
— Нет. Ушел как раз передо мной.
— Фанни уже взяли?
— Нет еще. Скоро унесут — в девять часов.
— Ну, так мы пока что не пойдем домой. Не погулять ли нам в роще?
Лидди, не имевшая понятия о том, что произошло, согласилась, и они углубились в рощу.
— Лучше бы вам воротиться домой, мэм, да покушать. Здесь вы насмерть простудитесь.
— Сейчас я не пойду домой… а может, и совсем не вернусь…
— Так не принести ли мне вам чего-нибудь перекусить да что-нибудь потеплее накинуть на голову, а то вы в одной легонькой шали!
— Что ж, если хочешь, Лидди…
Лидди исчезла и спустя двадцать минут вернулась; она принесла плащ, шляпу, бутерброды с маслом, чашку и чай в небольшом фарфоровом чайнике.
— Фанни уже взяли? — спросила Батшеба.
— Нет еще, — отвечала ее спутница, наливая чай.
Батшеба закуталась в плащ, немного поела и выпила несколько глотков. Голос у нее слегка прочистился, и лицо чуточку порозовело.
— Давай еще погуляем, — предложила она.
Около двух часов они бродили по роще. Батшеба односложно отвечала без умолку болтавшей Лидди, всецело поглощенная одной-единственной мыслью. Но вот она прервала девушку:
— Хотелось бы мне знать, унесли Фанни или нет.
— Я схожу посмотрю.
Девушка вернулась и сообщила, что тело только что вынесли; о Батшебе уже справлялись, но она, Лидди, ответила, что хозяйка нездорова и ее нельзя видеть.
— Так, значит, они думают, что я у себя в спальне?
— Да. — И Лидди осмелилась прибавить: — Когда я разыскала вас, вы сказали, что, может, больше совсем не воротитесь домой, но ведь вы оставили эту мысль, мэм?
— Да. Я передумала. От мужей убегают только женщины без всякого самолюбия. Плохо, если жена умрет у себя в доме от побоев, но еще хуже ей будет, если она останется в живых только потому, что сбежала в чужой дом. Все это я обдумала нынче утром и теперь знаю, что мне предпринять. Беглая жена — обуза для родных, самой себе в тягость, имя ее у всех на языке, и на нее сыплется столько напастей, что уж лучше оставаться дома, хотя при этом рискуешь нарваться на оскорбления и побои и умереть с голода. Лидди, если ты когда-нибудь выйдешь замуж — от чего избави тебя бог! — ты попадешь в прескверное положение, но помни одно: ни за что не сдавайся! Держись крепко, а там пусть тебя хоть на куски изрежут! Вот как я буду теперь поступать!
— Ах, не говорите этого, хозяйка! — воскликнула Лидди, хватая ее за руку. — Но я так и знала: вы такая рассудительная и ни за что не бросите свой дом! А могу я вас спросить, что такое ужасное произошло меж вами?
— Спросить можешь, да я тебе не отвечу.
Минут через десять они вернулись домой окольным путем и вошли через черный ход. Батшеба тихонько поднялась по лестнице в заброшенный мезонин, девушка последовала за ней.
— Лидди, — заговорила она уже повеселее, так как молодость взяла свое и надежды стали возрождаться, — теперь ты будешь моей наперсницей — надо же кому-нибудь изливать душу, я и выбрала тебя. Так вот, на время я поселюсь здесь. Затопи камин, принеси ковер и помоги мне навести уют! А потом я хочу, чтобы вы с Мэриен притащили наверх ту колченогую кровать из маленькой комнаты, и матрац, и стол, и еще всякую всячину… Чем бы мне заняться, чтобы как-то пережить это тяжелое время?
— Подрубать носовые платочки, это очень приятное занятие, — посоветовала Лидди.
— Ах, нет, нет! Я ненавижу шитье, всю жизнь ненавидела.
— Ну, а вязанье?
— То же самое!
— Тогда вы можете закончить свою вышивку по канве. Там остается доделать только гвоздику и павлинов, а потом ее можно вставить в рамку под стекло и повесить рядом с рукоделиями вашей тетушки, мэм.
— Вышивание по канве — старомодное занятие и до ужаса провинциальное. Нет, Лидди, я буду читать. Принеси-ка мне сюда книг, только не надо новых. Что-то к ним душа не лежит.
— Может, что-нибудь из старых книг вашего дядюшки, мэм?
— Да. Из тех, что мы сложили в ящики. — Чуть уловимая добродушная улыбка промелькнула у нее на лице. — Принеси «Трагедию девушки» Бомонта и Флетчера и «Невесту в трауре»… Постой, что бы еще? «Ночные размышления» и «Тщету человеческих желаний».
— А потом еще рассказ про черного человека, что зарезал свою жену Дездемону? Он страсть какой жалостный и уж так вам подойдет сейчас!
— Так, значит, Лидди, ты заглядывала без спросу в мои книги, а ведь я тебе запретила! Почему ты думаешь, что эта книга мне подойдет? Она мне ничуть не подходит.
— Но ведь другие-то подходят…
— И те не подходят — не стану я читать печальных историй. В самом деле, зачем мне их читать? Принеси-ка мне «Любовь в деревне», и «Девушку с мельницы», и «Доктора Синтаксиса», и несколько выпусков «Зрителя».
Весь этот день Батшеба и Лидди прожили в мезонине, как на осадном положении; впрочем, эта предосторожность оказалась излишней, ибо Трой не появлялся в Уэзербери и не думал их беспокоить. До захода солнца Батшеба просидела у окна; временами она принималась читать, потом опять рассеянно следила за всем происходящим снаружи и равнодушно прислушивалась к долетавшим до нее звукам.
В тот вечер заходящее солнце было кроваво-красным, и на востоке свинцовая туча отражала последние лучи. На темном небе четко выступал освещенный западный фасад колокольни (из окон фермы была видна только эта часть церкви), и флюгер на ее шпиле, казалось, брызгал искрами. Около шести часов на лугу близ церкви, по обыкновению, собралась мужская молодежь селения играть в бары. На этом месте с незапамятных времен происходили такого рода состязания, старые воротца стояли близ кладбищенской ограды, кругом земля была вся вытоптана ногами игроков и стала гладкой, как мостовая. Русые и черноволосые головы парней мелькали то там, то здесь, рукава ослепительно белели на солнце, и порой громкий крик или дружный взрыв хохота нарушали вечернюю тишину. Они играли уже с четверть часа, как вдруг игра прервалась, парни перемахнули через ограду и, обогнув колокольню, скрылись за тисом, наполовину заслоненным березой, широко раскинувшей золотую листву, кое-где прорезанную черными линиями ветвей.
— Почему это парни вдруг бросили играть? — спросила Батшеба, когда Лидди вошла в комнату.
— Мне думается, потому что из Кэстербриджа только что приехали двое рабочих и начали ставить большой надгробный памятник, — отвечала Лидди. — Парни побежали посмотреть, кому это его ставят.
— А ты знаешь кому? — спросила Батшеба.
— Нет, — ответила Лидди.
Глава XLV
Романтизм Троя
Когда в полночь Батшеба выбежала из дому, Трой первым делом заколотил крышку гроба, чтобы никто не увидел Фанни с ребенком. Покончив с этим, он поднялся наверх, бросился, не раздеваясь, на кровать и пролежал до утра в тяжелом душевном томлении.
За последние сутки на него немилосердно сыпались удары судьбы. Минувший день сложился совсем не так, как он предполагал его провести. Если человек задумает изменить линию своего поведения, ему приходится бороться не только с собственной косностью, но и обстоятельства как будто назло складываются против него, препятствуя его исправлению.
Получив от Батшебы двадцать фунтов, он прибавил к этой сумме все, что ему удалось разыскать у себя, — семь фунтов десять шиллингов. У него в кармане было двадцать семь фунтов десять шиллингов, когда он рано утром выехал из ворот усадьбы, спеша на свидание с Фанни Робин.
Прибыв в Кэстербридж, он оставил лошадь и двуколку на постоялом дворе; было без пяти десять, когда он добрался до моста в нижней части города и уселся на перилах. На башне пробил урочный час, но Фанни все не появлялась. Как раз в это время ее облачали в саван две прислужницы Дома призрения, причем это кроткое создание в первый и последний раз принимало услуги одевальщиц. Прошла четверть часа, потом еще полчаса. Пока Трой ждал, на него нахлынул рой воспоминаний: ведь уже вторично она не приходит на важное свидание с ним! Он поклялся в сердцах, что это будет последний раз. Прождав ее напрасно до одиннадцати часов, он успел изучить каждый лишай на поверхности камней, и монотонное журчание струй под мостом начало наводить на него тоску; наконец он спрыгнул с перил, отправился на постоялый двор за своей двуколкой и поехал на бедмудские скачки, с горьким безразличием взирая на прошлое и опрометчиво бросая вызов будущему.
К двум часам он попал на скачки, пробыл там некоторое время, затем вернулся в город и оставался там до девяти. Но образ Фанни все время преследовал его, она виделась ему такой, какой появилась перед ним в угрюмых сумерках субботнего вечера, и тут же он слышал упреки Батшебы. Трой поклялся, что не будет играть, и сдержал свою клятву: к девяти часам вечера, когда он выехал из города, имевшаяся у него сумма уменьшилась лишь на несколько шиллингов.
Неторопливой рысцой он ехал в Уэзербери, и только теперь ему пришло в голову, что, вероятно, болезнь помешала Фанни сдержать обещание. На сей раз она никак не могла ошибиться. Он пожалел, что не остался в Кэстербридже и не навел о ней справок. Добравшись до дому, он спокойно распряг лошадь и вошел в особняк, где, как мы уже видели, его ожидал страшный удар.
Как только стало рассветать и предметы выступили из полумрака, Трой вскочил с накрытой одеялом кровати и, ничуть не беспокоясь о том, где сейчас находится Батшеба, едва ли не позабыв о ее существовании, спустился вниз и вышел из дому черным ходом. Он направился на кладбище и долго там бродил, пока не разыскал свежевырытую, еще пустую могилу, ту, что накануне выкопали для Фанни. Запомнив ее местоположение, он поспешил в Кэстербридж и по дороге лишь ненадолго остановился в раздумье на холме, где в последний раз видел Фанни живой.
Добравшись до города, Трой свернул в боковую улицу и вошел в двойные ворота, над которыми висела вывеска со следующими словами: «Лестер. Резьба по камню и мрамору». Во дворе стояли обтесанные камни разной величины и формы с вырезанными на них надписями, где не были еще проставлены имена, ибо они предназначались для людей, пока еще не умерших.
Внешность, манера говорить и образ действий Троя так изменились, и он до того был непохож на себя, что даже сам это сознавал. Приступая к покупке памятника, он вел себя, как из рук вон непрактичный человек. Он не в силах был обдумывать, рассчитывать, экономить. Им овладело безудержное желание, и он стал добиваться своего, как ребенок, требующий себе игрушку.
— Мне нужен хороший памятник, — заявил он хозяину мастерской, войдя в маленькую контору, расположенную в глубине двора. — Дайте мне самый лучший, какой у вас найдется за двадцать семь фунтов.
Это были все его деньги.
— В эту сумму войдут все расходы?
— Решительно все. Вырезка надписи, перевозка в Уэзербери и установка. И я хочу получить памятник сейчас же, немедленно.
— На этой неделе мы не сможем выполнить ваш заказ.
— Мне нужен памятник немедленно.
— Если вам придется по вкусу один из тех, что имеются у нас на складе, то его можно быстро приготовить.
— Хорошо, — нетерпеливо бросил Трой. — Покажите, что у вас есть.
— Это лучшее, что имеется у нас в наличности, — сказал резчик, проведя его в сарай. — Вот, изволите видеть, мраморное надгробие, превосходно отделанное, с медальонами на соответствующие темы; вот то, что ставится в ногах, такого же рисунка, а вот и могильная плита. Одна полировка этого комплекта обошлась мне в одиннадцать фунтов. Материал лучший в своем роде, и я гарантирую вам, что он выдержит дожди и морозы и простоит добрых сто лет, без единой трещины.
— И сколько за все?
— Что ж, я могу вырезать имя и доставить памятник в Уэзербери за названную вами сумму.
— Сделайте мне это сегодня, и я сейчас же вам заплачу.
Резчик согласился, удивляясь, что так ведет себя покупатель, в одежде которого нет ни намека на траур. Вслед за этим Трой написал несколько слов, составлявших надгробную надпись, расплатился и ушел. Во второй половине дня он вернулся и увидал, что надпись почти готова. Он постоял во дворе, пока упаковывали памятник и погружали на повозку, проводил ее глазами, когда она выехала по направлению к Уэзербери, и наказал двум рабочим, сопровождавшим ее, узнать у церковного старосты, где находится могила особы, упомянутой в надписи.
Уже совсем стемнело, когда Трой вышел из Кэстербриджа. Неся в руках довольно тяжелую корзину, он угрюмо шагал по дороге; временами он останавливался передохнуть где-нибудь на мосту или у ворот, причем на минуту ставил свою ношу на землю. На полдороге он встретил возвращавшуюся в темноте повозку и рабочих, отвозивших памятник. Он кратко спросил, выполнена ли работа, и, получив утвердительный ответ, двинулся дальше.
Трой вошел на уэзерберийское кладбище около десяти часов вечера и тотчас же направился в тот уголок, где рано утром видел пустую могилу. Находилась она у северного фасада колокольни, и ее почти не видно было с дороги; до последнего времени это место было заброшено, там валялось множество камней да росли кусты ольшаника, но теперь его расчистили и привели в порядок для погребений, так как на кладбище становилось уже тесно.
Здесь и был водружен памятник: стройный, белоснежный, он выступал из мрака; состоял он из двух надгробий, воздвигнутых в головах и в ногах и соединенных мраморной плитой, внутри которой виднелось заполненное землей углубление, где можно было посадить цветы.
Трой поставил корзину возле могилы и на несколько минут куда-то скрылся. Когда он вернулся, в руках у него была лопата и фонарь; Трой направил его лучи на памятник, чтобы прочесть надпись. Затем он повесил фонарь на нижнюю ветвь тиса и стал вынимать из корзины луковицы и саженцы всевозможных цветов. Там были пучки подснежников, луковицы гиацинтов и крокусов, фиалки и махровые маргаритки, которые должны были расцвести ранней весной, а для лета и осени — разноцветные гвоздики, ландыши, незабудки, луговой шафран и другие цветы.
Трой разложил цветы на траве и начал с невозмутимым видом их рассаживать. Подснежники окаймили рамкой могильную плиту, остальные цветы были размещены в углублении. Крокусы и гиацинты были рассажены рядами. Часть летних цветов он поместил в головах и в ногах, ландыши и незабудки — над ее сердцем. Остальные цветы посадил в свободных промежутках.
Находясь в состоянии прострации, Трой не замечал, что эти романтические причуды, продиктованные раскаянием, достаточно нелепы. Унаследовав черты характера от предков, живших по обеим сторонам Ла-Манша, он проявлял в подобных обстоятельствах недостаток душевной гибкости, свойственный англичанину, наряду с типичным для француза отсутствием чувства меры и склонностью к сентиментальности.
Ночь была облачная, сырая и непроглядная. Фонарь Троя необычайно ярко освещал два старых тиса и, казалось, отбрасывал лучи в неизмеримую высоту, к темному пологу облаков. Но вот крупная капля дождя упала на руку Троя, а вслед за тем другая угодила в отверстие фонаря, свеча зашипела и погасла. Трой порядком устал, время уже близилось к полуночи, дождь все расходился, и он отложил окончательную отделку до рассвета. Он пробрался ощупью вдоль стены, перешагивая в темноте через могилы, и наконец очутился у северного фасада колокольни. Тут он вошел под портик, опустился на стоявшую там скамью и уснул.
Глава XLVI
Химера и ее проделки
Четырехугольная колокольня уэзерберийской церкви была построена в четырнадцатом веке, и над каждым из ее фасадов, обнесенных наверху парапетом, красовалось по две химеры. Из этих восьми каменных фигур в описываемый нами период времени только две выполняли свое назначение — а именно выбрасывали из пасти воду, стекавшую со свинцовой крыши. У четырех химер (по одной на каждом фасаде) пасть была забита — прежние церковные старосты сочли их излишними, — а две химеры были разбиты и сброшены; впрочем, это не нанесло особого ущерба колокольне, ибо две уцелевшие химеры, пасть которых оставалась открытой, вполне справлялись со своей работой.
Некоторые утверждают, что самый верный критерий жизненности искусств той или иной эпохи — выразительность, какой достигают величайшие мастера этого времени в области гротеска; в отношении готического искусства это положение надо признать неоспоримым. Уэзерберийская колокольня являла собой пример довольно раннего применения орнаментального парапета на здании приходской церкви (чего мы не встречаем на кафедральных соборах), и химеры, составляющие неотъемлемую часть парапета, здесь особенно бросались в глаза, отличаясь непревзойденной смелостью художественной манеры и оригинальностью замысла. В их уродливости была, если можно так выразиться, своего рода симметрия, характерная не столько для британского, сколько для континентального гротеска той эпохи. Все восемь химер резко отличались друг от друга. Зритель был убежден, что нет ничего на свете чудовищнее фигур, находившихся на северном фасаде, пока он не переходил на южную сторону колокольни. Из двух химер этого фасада лишь стоящая в юго-восточном углу имеет отношение к нашему рассказу. В ней было слишком много человеческого, чтобы уподобить ее дракону, слишком много сатанинского, чтобы отождествить с человеком, слишком большое сходство со зверем, чтобы сравнить с дьяволом, и недостаточное сходство с птицей, чтобы назвать ее грифоном. У этого отвратительного каменного создания была морщинистая кожа, короткие, стоявшие торчком уши, глаза, вылезавшие из орбит, а пальцами рук оно растягивало свою пасть, как бы давая выход извергаемой ею воде. Нижний ряд зубов был стерт до основания водой, но верхний еще сохранился. Возвышаясь фута на два над стеной, в которую вросли его лапы, чудовище вот уже четыреста лет хохотало, глядя на окружающий мир, — беззвучно в сухую погоду, а в дождь с громким бульканьем и фырканьем.
Трой спал под портиком, а снаружи дождь все расходился. Внезапно химера начала плеваться. Потом из ее пасти, с высоты семидесяти футов полилась тоненькая струйка; капли мелкой дробью барабанили по земле во все учащающемся ритме. Постепенно струя утолщалась и набирала силы, вода выбрасывалась все дальше и дальше от колокольни. Когда дождь перешел в бурный, непрерывный ливень, с крыши хлынули вниз целые потоки воды.
Проследим их путь в этот отрезок времени. Текучая парабола, все более удаляясь от стены, перемахнула через покрытый лепными украшениями цоколь, через груду камней, через мраморную облицовку памятника и обрушилась прямо на середину могилы Фанни Робин.
Еще недавно низвергавшийся сверху поток падал на разбросанные кругом камни, которые принимали натиск воды, прикрывая землю как бы щитом. Но за лето все камни были убраны, и теперь поток свободно растекался по голой земле. Уже много лет вода не выбрасывалась так далеко от колокольни, и подобная опасность не была предусмотрена. Вдобавок в этом заброшенном уголке кладбища, случалось, два-три года подряд не появлялось новых обитателей, а если кто и поселялся, то лишь бедняк, браконьер или какой-нибудь отпетый грешник.
Неуемный поток, извергаемый пастью химеры, обрушился с какой-то мстительной яростью на свежую могилу. Жирная рыжевато-бурая земля в углублении могилы размякла, пришла в движение и закипела, как шоколад. Вода все прибывала, все сильнее размывая землю, и рев образовавшегося водоворота далеко разносился в ночной темноте, заглушая несмолкаемый шум проливного дождя. Цветы, столь заботливо посаженные раскаявшимся возлюбленным Фанни, начали шевелиться и корчиться на своем ложе. Осенние фиалки медленно перевернулись головками вниз и превратились в комочки грязи. Вскоре луковицы подснежников и других цветов заплясали в бурной воде, словно овощи в кипящем котле. Цветы, растущие кустиками, были вырваны из земли, всплыли на поверхность, и их унесло потоком.
Несмотря на неудобное положение, Трой проснулся, лишь когда было уже совсем светло. Две ночи подряд он проспал, не раздеваясь, плечи у него онемели, ноги затекли, и голова была словно налита свинцом. Он вспомнил, где находится, встал, поеживаясь, взял лопату и вышел из-под портика.
Дождь уже перестал, и солнечные лучи пробивались сквозь листву, окрашенную в зеленые, бурые и желтые тона и унизанную дождевыми каплями; кругом все сверкало ослепительным блеском, напоминавшим световые эффекты пейзажей Рейсдаля и Хоббемы. Все дышало непередаваемой красотой, рождающейся из сочетания воды и разноцветных красок с ярким светом. Омытый продолжительным ливнем, воздух обрел такую прозрачность, что осенние тона были столь же яркими на расстоянии, как и вблизи, и далекие поля, пересеченные колокольней, казалось, находились с ней на одном плане.
Он пошел по усыпанной гравием дорожке, огибая колокольню. Дорожка была уже не каменистая, как накануне вечером, но вся залита коричневой грязью. В одном месте он заметил на дорожке пучок волокнистых корешков, чистеньких, вымытых добела и напоминавших клубок сухожилий. Трой поднял его: неужели же это один из посаженных им первоцветов?.. Он двинулся дальше и вдруг обнаружил луковицу, другую, третью… Без всякого сомнения, это его крокусы! С искаженным от ужаса и недоумения лицом Трой повернул за угол и увидел, что наделал поток.
Вода, заполнившая углубление могилы, уже вся впиталась в землю, и теперь там зияла дыра. Кругом вся трава и дорожка были залиты жидкой бурой грязью, уже раньше бросившейся ему в глаза; был забрызган грязью и мраморный памятник. Почти все цветы были вырваны из земли, подхвачены потоком и теперь валялись там и сям вверх корешками.
Брови Троя угрюмо нахмурились, он стиснул зубы, его сомкнутые губы подергивались, как у человека, потрясенного горем. Это странное происшествие всколыхнуло в нем самые разнообразные чувства и причинило ему острую боль. У Троя было очень выразительное лицо, и тот, кто наблюдал бы за ним сейчас, едва ли поверил бы, что это тот самый человек, который хохотал, распевал песни и нашептывал на ухо женщинам любовный вздор. В первую минуту он был готов проклясть свою судьбу, но даже для такого примитивного бунта требовалась известная активность, а болезненная тоска, овладевшая им, парализовала его силы. Представшая перед ним картина замкнула ряд мрачных сцен предыдущих дней, как бы завершая всю панораму, и он уже не мог этого вынести. По натуре сангвиник, Трой уклонялся от тяжелых переживаний, попросту отстраняя их. Он упорно отгонял мрачные призраки, пока событие не отступало в область прошлого, утратив свою остроту. Быть может, и сажая цветы на могиле Фанни, он пытался как-то увильнуть от горя, — а теперь словно кто-то разгадал его намерения и перехитрил его.
Стоя перед обезображенной могилой, Трой едва ли не в первый раз в жизни испытал разочарование в себе самом. Человек по натуре жизнерадостный обычно чувствует, что он какой-то счастливый избранник судьбы, хотя и мало чем отличается от прочих смертных. Трою не раз приходило в голову, что ему нечего завидовать лицам, занимающим высокое положение, ведь, чтобы добиться такого положения, надо быть другим человеком, а он был вполне доволен собой. Он не сетовал на свое не совсем обычное происхождение, на превратности судьбы, на постоянные, молниеносные перемены жизни — он был поглощен собой, и его удел казался ему каким-то особенным. Он почему-то был уверен, что в свое время его дела сами собой наладятся и увенчаются успехом. Но в это утро его иллюзии окончательно рассеялись, и Трой внезапно возненавидел себя. Впрочем, этот перелом лишь казался внезапным. Коралловый риф долго и медленно нарастает, пока наконец не выглянет из морских волн; нередко нам только кажется, что событие вызвал последний, заключительный толчок, а на деле оно уже давно созрело и готово было совершиться.
Бедняга стоял и размышлял: куда бы ему податься? «Ты проклят навеки!» — послышался ему беспощадный приговор, когда он увидел, что погибли плоды его трудов, вдохновленных внезапной решимостью. Когда человек долгое время шел в одном направлении и выбился из сил, у него едва ли хватит энергии повернуть в другую сторону. Накануне Трой слегка попытался изменить свою жизнь, но первая же неудача обескуражила его. Сделать крутой поворот было бы трудно даже при могучей поддержке со стороны провидения, но когда он увидал, что провидение не только не поощряет его вступление на новый путь, но даже глумится над его робким начинанием, — это было уже свыше его сил.
Трой медленно отошел от могилы. Он даже не попытался засыпать дыру, посадить на место цветы или хоть что-нибудь исправить. Он попросту бросил карты и раз и навсегда отказался от игры. Он тихонько вышел из ворот кладбища, никем не замеченный — в поселке все еще спали — пересек поле, расстилавшееся позади селения, и столь же незаметно выбрался на большую дорогу. Вскоре он потерял из виду Уэзербери.
Тем временем Батшеба находилась в добровольном заточении у себя в мезонине. Дверь постоянно была на замке и отпиралась, лишь когда входила или выходила Лидди, для которой поставили кровать в маленькой смежной комнате. Часов около десяти, во время ужина, девушка, случайно поглядев в окно, заметила за оградой кладбища огонек фонаря Троя и сообщила об этом Батшебе. Несколько минут они смотрели на огонек, недоумевая, что бы это могло быть, затем Лидди пошла спать.
Батшеба спала не слишком крепко в эту ночь. Служанка в глубоком забытьи мирно посапывала в соседней комнате, а хозяйка дома все еще смотрела в окно, на слабый огонек, мелькавший среди деревьев; горел он неровно, то вспыхивал, то гас, словно свет вращающегося берегового маяка, и даже не приходило в голову, что кто-то ходит взад и вперед перед ним. Батшеба просидела у окна, пока не пошел дождь и не исчез огонек; тут она легла и долго металась в постели — в ее усталой голове проносились картины пережитой трагической ночи.
Еще до первых проблесков зари она встала, распахнула окно и вдохнула полной грудью свежий утренний воздух. Стекла были мокрые после ночного дождя — все в дрожащих слезинках; каждая слезинка ловила бледно-розовый отблеск, пробивающийся сквозь нависшую тучу на востоке, где зарождался день. Слышно было, как с деревьев мерно падают капли на груды нанесенных ветром сухих листьев, а со стороны церкви долетал какой-то необычный шум, не похожий на ритмический стук капель, — то был рокот воды, струившейся в водоем.
В восемь часов в дверь постучалась Лидди, и Батшеба впустила ее.
— Какой сильный дождь был нынче ночью, мэм, — сказала Лидди, получив от хозяйки распоряжения насчет завтрака.
— Да, очень сильный.
— Вы слыхали чудной шум на кладбище?
— Слыхала. Мне подумалось, что это, наверно, вода падает с крыши колокольни.