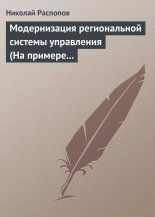Вдали от обезумевшей толпы Гарди Томас
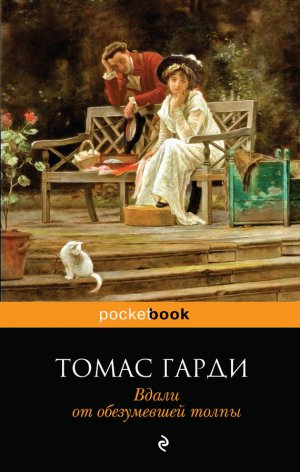
— Мистер Оук… — глухо проговорила Батшеба.
— Да, я Оук, — отвечал Габриэль. — С кем имею честь… Ах, что я за дурень, не узнал вас, хозяйка!
— Да я скоро уже не буду вашей хозяйкой, так ведь, Габриэль? — с горечью сказала она.
— Да нет… Я думаю… Но входите, мэм. Ах, я сейчас зажгу лампу, — растерянно бормотал Оук.
— Не надо. Не беспокойтесь из-за меня.
— Ко мне редко приходят в гости леди, и боюсь, у меня нет никаких удобств. Не угодно ли вам сесть? Вот стул, а вот другой. К сожалению, стулья у меня простые и сиденья деревянные, довольно-таки жесткие. Но я… собираюсь завести новые. — И Оук пододвинул ей два или три стула.
— Ну что вы! Они достаточно удобные. — И вот она уселась, уселся и он, и пляшущие отсветы камина скользили по их лицам и по старой мебели
- …отполированной годами,
- Ему служившей много лет.[5]
Вся домашняя утварь Оука поблескивала, бросая по сторонам танцующие блики. Этих людей, достаточно хорошо знавших друг друга, изумляло, что, встретившись в новом месте и при необычных обстоятельствах, они испытывают такую неловкость и скованность. Встречаясь на поле или у нее в доме, они не проявляли ни малейшего смущения. Но теперь, когда Оук стал самостоятельным хозяином, их жизни, казалось, отодвинулись в прошлое, к тем давно минувшим дням, когда они были едва знакомы.
— Вы, наверно, удивляетесь, что я пришла к вам… но…
— Что вы, ничуть.
— Но мне показалось, Габриэль, что, может быть, я вас обидела и потому вы уходите от меня. Это очень меня огорчило, вот почему я и пришла.
— Обидели меня? Неужто вы могли меня обидеть, Батшеба?
— Так я не обидела вас! — радостно воскликнула она. — Но в таком случае почему же вы уходите?
— Видите ли, я раздумал уезжать за границу. И вообще, знай я, что такая затея вам не по душе, я живо выбросил бы это из головы, — искренне ответил он. — Я уже договорился об аренде на ферму в Нижнем Уэзербери, и с Благовещения она перейдет в мои руки. Вы знаете, одно время я получал долю дохода с этой фермы. При всем том я вел бы и ваши дела, если бы не пошли толки про нас с вами.
— Что такое? — изумленно спросила Батшеба. — Толки про нас с вами? Какие же?
— Не могу вам сказать.
— Мне думается, вам следовало бы сказать. Вы уже не раз читали мне мораль, почему же теперь боитесь выступить в такой роли?
— На этот раз вы не сделали никакой оплошности. Сказать по правде, люди толкуют, будто я тут все разнюхиваю, рассчитываю заполучить ферму бедняги Болдвуда и задумал в один прекрасный день прибрать вас к рукам.
— Прибрать меня к рукам? Что это значит?
— Да, попросту говоря, жениться на вас. Вы сами просили меня вам сказать, так не браните же меня!
Оук ожидал, что, услыхав это, Батшеба придет в ужас, как если б над ухом у нее выпалила пушка, однако вид у нее был ничуть не испуганный.
— Жениться на мне? Я и не подозревала, что речь идет об этом, — спокойно сказала она. — Это слишком нелепо… слишком рано… об этом думать!
— Ну, понятно, это слишком нелепо. Да я и не помышляю ни о чем подобном, думается, вы сами знаете. Разумеется, у меня и в уме не было жениться на вас. Вы же сами сказали, что это слишком нелепо.
— С-с-слишком рано — вот что я сказала.
— Прошу прощения, но я должен вас поправить: вы изволили сказать: слишком нелепо.
— Я тоже прошу прощения, — возразила она со слезами на глазах. — Я сказала: слишком рано… Это, конечно, не важно… ничуть не важно… Но я хотела сказать одно: слишком рано… Только и всего, мистер Оук, и вы должны мне поверить!
Габриэль долго всматривался в ее лицо, но при слабом свете камина ему почти ничего не удалось разглядеть.
— Батшеба, — сказал он с нежностью и недоумением и шагнул ближе. — Если бы мне знать только одно: позволите ли вы мне любить вас, добиваться вас и в конце концов на вас жениться… Если бы мне это знать!
— Но вы никогда этого не узнаете! — прошептала она.
— Почему?
— Да потому, что никогда не спрашиваете.
— Ах! Ах! — радостно засмеялся Габриэль. — Родная моя!..
— Зачем вы послали мне сегодня утром это скверное письмо? — перебила она его. — Это доказывает, что вы ничуточки не любите меня и готовы были меня покинуть, как все остальные. Это было прямо бесчеловечно с вашей стороны! Ведь я была вашей первой и единственной любимой, а вы — моим первым поклонником. Уж я вам этого не забуду!
— Ах, Батшеба, ну можно ли так обижать человека! — сказал он, и радостная улыбка не покидала его лица. — Вы же знаете, как оно было: я, холостяк, вел дела такой привлекательной молодой женщины, и мне ох как солоно приходилось! Ведь люди знали, какие у меня к вам чувства, а тут еще принялись распускать про нас сплетни, — вот мне и подумалось, что это может бросить на вас тень… Никому невдомек, сколько я из-за этого перетерпел да перемучился!
— И это все?
— Все.
— Ах, как я рада, что пришла к вам! — с чувством благодарности воскликнула она, вставая. — Я стала куда больше думать о вас с тех пор, как вообразила, что вы больше не хотите меня видеть. Но мне пора уходить, а то меня хватятся… А знаете, Габриэль, — с легким смехом добавила она, когда они направились к дверям, — ведь можно подумать, что я приходила к вам свататься, — какой ужас!
— Что ж, так оно и должно быть, — отвечал Оук. — Я проплясал под вашу дудку немало миль и немало лет, чудесная моя Батшеба, и грешно было бы вам не заглянуть ко мне разочек.
Он проводил ее до самого дома, по дороге рассказывая ей, на каких условиях берет в аренду Нижнюю ферму. Они очень мало говорили о своих чувствах. Такие испытанные друзья, очевидно, не нуждались в пышных фразах и пылких излияниях. Столь глубокая, прочная привязанность возникает (правда, в редких случаях), когда двое людей, встретившихся в жизни, сперва поворачиваются друг к другу самыми трудными сторонами характера и лишь со временем обнаруживают лучшие свои черты; поэтому романтика постепенно прорастает сквозь толщу суровой прозаической действительности. Такое прекрасное чувство — camaraderie[6] обычно зарождается на почве общих интересов и стремлений и, к сожалению, редко примешивается к любви представителей разных полов, потому что мужчина и женщина объединяются не для совместного труда, а для удовольствий. Но если счастливое стечение обстоятельств позволяет развиться подобному чувству, то лишь такая сложная любовь бывает сильна как смерть, — любовь, которую не загасить никаким водам, не затопить никаким потокам, любовь, в сравнении с которой страсть, обычно присваивающая себе это имя, — лишь быстро рассеивающийся дым.
Глава LVII
Туманный вечер и такое же утро. Заключение
— Пусть наша свадьба будет самой скромной, незаметной и простой.
Это сказала Батшеба Оуку однажды вечером, через некоторое время после события, описанного в предыдущей главе, — и он просидел добрый час, размышляя о том, как ему выполнить в точности ее пожелание.
— Разрешение… Да, надобно получить разрешение на брак без оглашения, — сказал он себе наконец. — Значит, первым делом разрешение.
Через несколько дней в Кэстербридже темным вечером Оук выходил неслышным шагом из дома судьи. На обратном пути он услыхал чьи-то тяжелые шаги и, обогнав шедшего впереди человека, обнаружил, что это Когген. Они шагали вместе до самого селения, пока не поравнялись с узеньким переулочком, проходившим позади церкви, где стоял коттедж Лейбена Толла; тот недавно сделался приходским причетником и по воскресеньям все еще испытывал смертельный страх, произнося суровые слова псалмов, которые никто не смел повторять за ним.
— Ну, до свидания, Когген, — сказал Оук. — Мне сюда.
— Да ну! — удивленно воскликнул Когген. — Что же такое нынче стряслось, осмелюсь вас спросить, мистер Оук?
Оуку подумалось, что с его стороны будет некрасиво, если он не расскажет Коггену все как есть, ведь Джан был верен ему и надежен как сталь все годы, когда он страдал по Батшебе, и он сказал:
— Умеете вы хранить тайну, Когген?
— Неужто вы не знаете? Небось я не раз вам это доказывал.
— Знаю, знаю. Так вот, мы с хозяйкой собираемся обвенчаться завтра утром.
— Силы небесные! А ведь, по правде сказать, мне иной раз кое-что приходило на ум, да, приходило. Но держать все в тайности! Ну, да дело не мое. Желаю вам с ней всяческого счастья!
— Спасибо, Когген. Уверяю вас, такая молчанка мне вовсе не по душе, да и ей тоже, но справлять веселую свадьбу не больно-то пристало, вы сами знаете почему. Батшебе уж очень не хочется, чтобы в церковь набился весь приход глазеть на нее, — она боится этого и очень тревожится, — вот я и стараюсь все так устроить, чтобы ей угодить.
— Понимаю, и мне думается, это правильно. А вы сейчас к причетнику?
— Да. Может, и вы пойдете со мной?
— Боюсь только, как бы наши труды не пропали даром, — заметил Когген, шагая рядом с ним. — Старуха Лейбена Толла за полчаса раструбит об этом по всему приходу.
— Ей-богу, раструбит! А ведь мне и невдомек! — Оук остановился. — А все же мне надобно с вечера его предупредить — ведь работает он далеко и уходит из дому спозаранку.
— Слушайте, как надо взяться за дело, — сказал Когген. — Я постучусь и вызову Лейбена на улицу: надобно, мол, с ним потолковать, а вы стойте в сторонке. Он выйдет, вы ему все и выложите. Ей нипочем не догадаться, зачем он мне понадобился, а для отвода глаз я заброшу словечко-другое про хозяйственные дела.
План был одобрен, Когген смело шагнул вперед и постучал в дверь миссис Толл. Она открыла сама.
— Мне надобно кое о чем потолковать с Лейбеном.
— Его нет дома и не будет до одиннадцати. Как только он кончил работу, пришлось ему отлучиться в Иелбери. Можете говорить со мной — я за него.
— Пожалуй, что нет. Постойте минутку. — И Когген завернул за угол дома посоветоваться с Оуком.
— Кто это с вами? — осведомилась миссис Толл.
— Да так, один приятель, — отвечал Когген.
— Скажите, что хозяйка наказала ему ждать ее у церковных дверей завтра в десять утра, — шепотом произнес Оук. — Чтобы он обязательно пришел да оделся по-праздничному.
— Праздничное платье выдаст нас с головой, — заметил Когген.
— Ничего не поделаешь, — сказал Оук. — Втолкуйте же ей это.
Когген добросовестно исполнил поручение.
— Что бы там ни было, дождь либо ведро, снег либо ветер, он все одно должен прийти, — добавил от себя Джан. — Дело страсть какое важное. Видите ли, ему придется засвидетельствовать ее подпись на бумаге — тут она с одним фермером заключает договор на долгие годы. Я выложил вам все как есть, матушка Толл, оно бы и не следовало, да уж больно я люблю вас, хотя и безнадежно.
Сказав это, Когген повернулся и быстро ушел — ей так и не удалось забросать его вопросами. Приятели заглянули к священнику, но никто не обратил на это внимания. Затем Габриэль возвратился домой и занялся приготовлениями к завтрашнему дню.
— Лидди, — сказала Батшеба, ложась спать в этот вечер, — разбуди меня завтра в семь часов, в случае если я просплю.
— Да вы всегда просыпаетесь еще до этого, мэм.
— Да, но завтра мне предстоит важное дело — я потом тебе все расскажу, — и я должна встать пораньше.
Однако Батшеба проснулась в четыре часа, и, как ни старалась, ей больше не удалось уснуть. Около шести она потеряла терпение и стала себя уверять, что ее часы ночью остановились. Она пошла и постучала в дверь Лидди, и ей не без труда удалось разбудить девушку.
— Но, кажется, это я должна была вас разбудить? — недоумевала Лидди. — А ведь еще нет и шести.
— Конечно, есть. Что это ты выдумываешь, Лидди? Я знаю, что уже больше семи часов. Приходи ко мне поскорей, я хочу, чтобы ты меня как следует причесала.
Когда Лидди вошла в комнату Батшебы, хозяйка уже ждала ее. Девушка никак не могла понять, зачем такая спешка.
— Что такое стряслось, мэм? — спросила она.
— Так и быть, я скажу тебе. — И Батшеба посмотрела на нее с лукавой улыбкой в сияющих глазах. — Фермер Оук придет ко мне сегодня обедать.
— Фермер Оук? И больше никого?.. Вы будете обедать вдвоем?
— Да.
— Но, пожалуй, это будет неосторожно, мэм, ведь и без того идут всякие толки, — опасливо сказала ее приятельница. — Доброе имя женщины такая хрупкая вещь…
Батшеба расхохоталась, щеки у нее вспыхнули, и она шепнула Лидди на ухо несколько слов, хотя они были в комнате один. Лидди вытаращила глаза и воскликнула:
— Батюшки мои! Вот так новости! У меня сердце так и затрепыхалось!
— А у меня вот-вот выпрыгнет! — сказала Батшеба. — Да теперь уж ничего не поделаешь.
Утро было сырое, неприветливое. Тем не менее без двадцати десять Оук вышел из дому и
- Поднялся на холм крутой;
- Он шел твердой стопой
- За невестой своей молодой,
и постучал в дверь Батшебы. Спустя десять минут можно было видеть, как два зонта — один большой, другой поменьше — появились из этих же дверей и поплыли в тумане по дороге по направлению к церкви. Расстояние было невелико — не более четверти мили, и благоразумная чета решила, что нет смысла ехать в экипаже. Постороннему наблюдателю пришлось бы подойти чуть ли не вплотную, чтобы разглядеть под зонтами Оука и Батшебу, которые первый раз в жизни шли рука об руку, — Оук в длинном, до колен, сюртуке, а Батшеба в плаще, спускавшемся до самых галош. Несмотря на будничную одежду, Батшеба выглядела помолодевшей:
- Как роза, снова ставшая бутоном…
Душевное спокойствие вернуло ей здоровый румянец, по просьбе Габриэля этим утром она уложила волосы так, как носила их несколько лет назад, когда стояла на Норкомбском холме, и теперь казалась ему поразительно похожей на чарующую девушку его мечтаний; впрочем, не приходилось удивляться — ведь ей было всего двадцать три — двадцать четыре года! В церкви их поджидали Толл, Лидди и пастор — церемония была быстро совершена.
В тот же день вечером они спокойно сидели за чаем в гостиной Батшебы, решено было, что фермер Оук поселится здесь — ведь у него не имелось ни свободных денег, ни дома, ни обстановки, достойной его супруги (хотя он и был на пути к богатству), а Батшеба всем этим обладала.
Батшеба разливала чай, когда их оглушил пушечный выстрел, за ним последовал невообразимый грохот труб, раздавшийся у самого дома.
— Так оно и есть! — воскликнул, смеясь, Оук. — Я уже догадался, что наши молодцы что-то затевают, — стоило только на них взглянуть!
Он взял свечу и спустился на крыльцо, за ним пошла Батшеба, накинув на голову шаль. Свет упал на группу мужчин, стоявших перед домом на усыпанной гравием площадке. Как только они увидели новобрачных, все дружно гаркнули: «Ур-ра!» — и в тот же миг где-то на заднем плане опять выпалила пушка, а вслед за ней загремела весьма неблагозвучная музыка — можно было различить барабан, тамбурин, кларнет, серпент, гобой, виолончель и контрабас, — то были реликвии, уцелевшие от некогда знаменитого, неподражаемого уэзерберийского оркестра, почтенные, источенные червями инструменты, на которых некогда играли предки теперешних музыкантов, прославляя победы герцога Мальборо. Доиграв туш, исполнители двинулись вперед и подошли к крыльцу.
— Это все подстроили наши весельчаки, Марк Кларк и Джан, — сказал Оук. — Заходите, друзья, закусите и выпейте со мной и с моею женой.
— Только не нынче, — отказался мистер Кларк, проявляя высокую самоотверженность. — Премного благодарны, но мы заглянем к вам как-нибудь в другой раз. А все-таки мы решили не упустить случая и выразить в этот день свою радость. Ежели вам угодно послать к Уоррену какого-нибудь питья, то будет очень здорово. Желаем долгих лет и счастья приятелю Оуку и его пригожей суженой!
— Благодарю! Благодарю вас всех! — сказал Оук. — Сейчас же пошлю к Уоррену глоточек и кусочек. Мне так и подумалось, что старые друзья, пожалуй, что-нибудь да устроят в нашу честь, и я только что сказал об этом моей жене.
— Ей-богу, — шутливо обратился Когген к товарищам, — этот человек на диво быстро научился говорить «моя жена», ведь его женатой жизни без году неделя. Что скажете, друзья?
— Сроду не слыхал, чтобы человек, женатый добрых двадцать лет, так привычно выговаривал «моя жена», — вставил Джекоб Смолбери. — Можно было бы подумать, что Оук и впрямь так давно женат, будь это сказано малость похолодней, ну, да холодности тут трудно ожидать.
— Ничего, все придет в свое время, — подмигнул Джан.
Тут Оук засмеялся, а Батшеба улыбнулась (теперь она почти никогда не смеялась), и друзья их стали прощаться.
— Да, вот оно как обернулось! — весело промолвил Джозеф Пурграс, когда они тронулись в путь. — Желаю ему жить с ней да радоваться. Хотя нынче я раза два чуть было не сказал вместе с пророком Осией — ведь у меня вечно на языке слова Священного Писания, ничего не поделаешь, привычка — вторая натура: «Ефраим стал служить идолам, — отступитесь от него!» Но раз уж так оно получилось, — а ведь ее мог бы и невесть кто подцепить, — то за все благодарение богу!