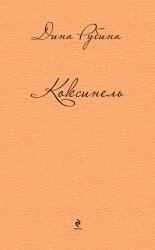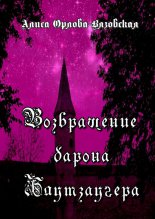Родительский парадокс. Море радости в океане проблем. Как быть счастливым на все 100, когда у тебя дети Сениор Дженнифер

Предисловие
Жизнь родителя бывает разной. Одна существует в наших фантазиях, другая же — это банальная, приземленная повседневная реальность. Совершенно понятно, какую из них ведет Анджелина Холдер. Ее трехлетний сын Эли объявляет, что намочил свои шорты.
— Хорошо, — говорит Энджи, почти не глядя на сына. Она занята другим делом — готовит курицу на обед. Вечерняя смена в больнице у нее начинается в три часа. — Поднимись к себе и переоденься.
Эли стоит на кухонном стуле и поедает чернику.
— Я не могу, — отвечает он.
— Почему не можешь?
— Я не могу.
— Думаю, ты все можешь. Ты уже большой мальчик.
— Я не могу.
Энджи снимает с рук силиконовые перчатки.
— Что делает мамочка? — спрашивает она.
— Переодевает меня, — отвечает Эли.
— Нет, я готовлю. Так что попробуй справиться сам.
Эли начинает хныкать. Энджи бросает свои дела. Она раздражена, недовольна, но ей ничего не остается. В книгах о родительстве должны быть советы для подобных случаев, но у нее нет времени на книги. Ей нужно приготовить обед, помыть посуду и найти, во что переодеть Эли.
— Почему ты не можешь переодеться сам? — спрашивает она. — Я хочу выслушать твои доводы.
— Я не могу.
Энджи смотрит на сына. Я буквально вижу, как она мысленно ведет те же самые расчеты, что и все остальные родители в подобных ситуациях. Она хочет понять, стоит ли настаивать. Эли вполне в состоянии переодеться сам.
В отличие от большинства трехлеток, он обычно делает это с первого захода — надевает правильно рубашку и для каждой ноги находит свою штанину. Теоретически Энджи могла бы и дальше настаивать.
— Может быть, ты поднимешься и найдешь себе новую одежду, — говорит она, немного подумав. — Может быть, ты найдешь себе зеленые трусики? На твоей полке для белья?
С точки зрения взрослого, подобное предложение — хороший компромисс, позволяющий сторонам сохранить лицо. Оно выгодно для обоих участников.
Но трехлетний Эли не принимает такой ответ. Он роется в сумке Энджи.
— Зай хочет это, — говорит он, вытаскивая батончик с хлопьями. Зай — его младший брат по имени Хавьер.
— Нет, не хочет, — спокойно, но твердо отвечает Энджи. Она выбрала курс и строго его придерживается. — Я хочу, чтобы ты сделал то, о чем я тебя просила. Ты меня не слушаешь.
Эли продолжает рыться в сумке. Энджи подходит и указывает ему на лестницу.
— Ты должна мне помочь! — возмущается Эли.
— Нет, не должна, — отвечает мама. — Я кладу твою одежду в отведенное для нее место. Поднимись и возьми себе новые трусики.
На пару секунд воцаряется напряженная тишина. Как же уломать трехлетку? Энджи заговорщически смотрит на Зая и говорит:
— Ведь твой брат — неглупый мальчик, правда? Что мы с ним сделаем?
Эли недоволен, но капитулирует. Он медленно поднимается по лестнице.
Примерно через минуту он появляется на верхней площадке, обнаженный, как купидон, и швыряет вниз чистые зеленые трусики.
— Ты нашел свои зеленые трусики! — восклицает Энджи. — Молодец!
Энджи подхватывает трусики, словно свадебный букет.
До появления детей Энджи и подумать не могла, что будет с радостью смотреть, как малыш швыряет трусы с лестницы. Она наверняка даже не представляла, какие сложные и длительные переговоры придется провести, чтобы добиться такого результата. Вряд ли она рассчитывала, что подобные переговоры — часто надоедливые и раздражающие — станут неотъемлемой частью ее жизни по утрам и вечерам.
Раньше Энджи по вечерам работала медсестрой в психиатрическом отделении, а в свободное время каталась на велосипеде и рисовала. В выходные они с мужем уезжали в горы, к водопаду Миннеаха. Ее жизнь была только ее жизнью.
Даже самые организованные люди не могут подготовиться к тому, какой станет их жизнь после появления детей. Они могут скупить все книги по родительству, изучить опыт друзей и родственников, порыться в памяти и вспомнить собственное детство. Но разрыв между подобными представлениями и реальностью измеряется световыми годами.
Будущие родители не знают, какими будут их дети. Они не представляют, каково это — постоянно умирать от тревоги за них. Они не догадываются, что означает каждый раз пересматривать самые простые решения или заниматься несколькими делами одновременно даже во время чистки зубов. А что они скажут о списке поручений, который непрерывно крутится у них в голове? Появление ребенка — это одна из самых внезапных и резких перемен в жизни взрослого человека.
В 1968 году социолог Элис Росси опубликовала статью, в которой подробно анализировала эту резкую перемену, назвав ее «Переход к родительству». Она писала, что появление ребенка нельзя сравнить ни с периодом ухаживания, предшествующим браку, ни с профессиональной подготовкой, которую человек проходит, чтобы стать, например, медсестрой. Ребенок просто появляется — «хрупкий и таинственный» и «полностью зависящий от родителей».
Для того времени этот взгляд был очень радикальным. Тогда ученые больше интересовались влиянием родителей на детей. Росси повернула телескоп в обратном направлении. Она задала тот же вопрос с обратной точки зрения: «Какое влияние родительство оказывает на взрослых? Как дети влияют на жизнь матерей и отцов?» Прошло сорок пять лет, а мы так и не нашли четкого ответа на эти вопросы.
Впервые этот вопрос пришел мне в голову вечером 3 января 2008 года, когда родился мой сын. Но по-настоящему я задумалась над ним спустя два года. Тогда я писала статью для журнала «New York» о последних открытиях социологов.
Ученые заявили, что родители вовсе не счастливее бездетных супругов, а зачастую и значительно менее счастливы.
Это заключение идет вразрез с нашими устоявшимися убеждениями, но исследования продолжались почти шестьдесят лет — они начались еще до работ Росси. Первые результаты были получены в 1957 году, когда нуклеарная семья находилась в большом почете. Тогда статья называлась «Кризис родительства». Всего на четырех страницах автор сумел полностью разрушить существующие взгляды и заявил, что появление младенца ослабляет брак, а не спасает его.
В статье приводятся слова одной из мам: «Мы знали, откуда берутся дети, но мы не знали, какими они будут». А дальше автор переходит к описанию жалоб участниц опроса.
«Недосып (особенно в первые месяцы); хроническая усталость и утомление; постоянная привязанность к дому и ограничение социальных контактов; отсутствие удовлетворенности и доходов от внешней занятости; дополнительная стирка и глажка; чувство вины за невозможность быть „идеальной“ матерью; круглосуточная забота о младенце; вечный беспорядок в доме; беспокойство из-за внешности (увеличение веса после беременности и т. п.)».
Отцы испытывают повышенное экономическое давление, они лишаются секса и чувствуют «общее разочарование в роли родителя».
В 1975 году появилась еще одна важная статья, в которой говорилось, что после того, как «гнездо опустеет», мамы вовсе не впадают в отчаяние, как считалось ранее, но становятся счастливее тех, чьи дети продолжают жить дома. В 1980-e годы, когда женщины начали активно работать вне дома, социологи убедились: хотя работа благотворно сказывается на ощущении благополучия женщины, наличие детей этот позитивный эффект заметно снижает.
В течение следующих двух десятилетий эта картина прояснилась еще больше. Исследования показали, что из-за детей психологическое здоровье матерей ухудшается в большей степени, чем отцов, а у одиноких родителей больше, чем у тех, что состоят в браке.
Психологи и экономисты стали получать сходные результаты даже тогда, когда к ним не стремились. В 2004 году пять ученых, в том числе нобелевский лауреат, экономист Дэниел Канеман, провели исследование того, какие занятия приносят работающим женщинам наибольшее удовольствие. Они опросили 909 работающих женщин из Техаса.
Дети заняли в списке шестнадцатое место из девятнадцати — после приготовления пищи, просмотра телевизора, дневного сна, шопинга и даже после работы по дому.
Психолог из университетов Беркли и Сан-Франциско Мэтью Киллингсворт выяснил, что дети занимают далеко не первое место в списке тех, чье общество доставляет удовольствие их родителям. В телефонном разговоре Мэтью сказал мне: «Общение с друзьями приятнее общения с супругом. Общение с супругом приятнее общения с другими родственниками. Общение с родственниками приятнее общения со знакомыми. А общение со знакомыми приятнее общения с родителями. И даже родители для человека приятнее детей. Согласно опросу, общение с детьми практически не отличается от общения с незнакомцами».
Подобные исследования весьма провокационны. Но их результаты рисуют неполную картину. Когда ученые пытаются измерить конкретные эмоции родителей, то получают совершенно иные — и гораздо более тонкие — ответы.
Проанализировав 1,7 миллиона ответов, полученных Институтом Гэллапа, психологи Энгус Дитон и Артур Стоун выяснили, что родители, живущие вместе с детьми в возрасте до пятнадцати лет, чаще радуются и чаще огорчаются, чем бездетные пары. (Ученые только что передали полученные результаты для публикации.) Когда исследователи задавали более глубокие и сущностные вопросы, то оказывалось, что родители гораздо чаще говорят о значимости и осмысленности своей жизни.
Другими словами, дети осложняют нашу повседневную жизнь, но в то же время придают ей глубокий смысл. «Сплошная радость и никакого веселья» — так сказала мне моя подруга, у которой двое маленьких детей.
Вы можете ошибочно заключить, что исследования социологов можно подытожить весьма мрачным образом: «Дети делают людей несчастными». Но, думаю, более точно назвать родительство термином, предложенным социологом Уильямом Доэрти, — «высокозатратное занятие, приносящее высокую награду». А высокая степень затрат объясняется тем, что современное родительство резко отличается от того, каким было когда-то.
Самые тяжелые стороны родительства никогда не меняются — например, недосып, который, по оценкам исследователей из университета Онтарио, в определенных отношениях влияет на человека так же, как употребление алкоголя. (Какая восхитительная аналогия!) Мы обязательно проанализируем и обсудим эти временные трудности. Но меня интересуют и новые особенности современного родительства.
Невозможно отрицать, что жизнь современных мам и пап стала гораздо более сложной, а готовых сценариев, которые помогали бы справляться с этими сложностями, не появилось. Отсутствие норм еще больше осложняет жизнь и почти гарантированно приводит к явному личному и культурному стрессу.
Совершенно ясно, что за последние десятилетия опыт родительства кардинально изменился. Но в целом я бы выделила три основных аспекта, которые приводят к наибольшим сложностям. Первый — это возможность выбора. Еще недавно мамы и папы не могли контролировать состав семьи и решать, когда появятся дети. Дети появлялись в силу социальных условностей, экономической необходимости или моральных обязательств перед семьей и обществом (а порой по всем трем причинам).
Сегодня же взрослые считают детей высшим достижением жизни и к их воспитанию относятся с тем же чувством независимости и индивидуальности, как и к любому другому амбициозному жизненному проекту. Люди заводят детей в соответствии с собственными потребностями и воспитывают их в соответствии с собственными представлениями. Действительно, многие взрослые не заводят детей, пока не почувствуют себя полностью готовыми. В 2008 году 72 процента женщин в возрасте от 25 до 29 лет, имеющих высшее образование, не имели детей.
Поскольку многие из нас сегодня воспринимают этот «проект» как дело добровольное, а не обязательное, как было раньше, у нас сформировались повышенные ожидания. Мы хотим, чтобы дети стали для нас источником экзистенциальной самореализации, а не рядовой частью повседневной жизни.
Вступает в действие принцип дефицита — мы выше ценим то, что является редким и к получению чего были приложены серьезные усилия. (В прошлом году более 61 500 детей появились на свет в результате новых репродуктивных технологий.) Как пишет психолог Джером Каган, столь тщательное планирование семьи «неизбежно придает младенцу значение намного большее, чем прежде, когда у родителей было полдюжины детей, причем все они появлялись на свет абсолютно случайно».
Это изменение можно истолковать популярным, хотя и довольно нелестным образом: сегодня воспитание детей стало занятием нарциссическим. Но можно подойти к этому и по-другому: откладывая рождение детей, современные родители гораздо более четко представляют себе свободы, от которых готовы отказаться.
Вторая причина, осложняющая современное родительство, это изменение к худшему рабочего графика. Сегодня работа не заканчивается после окончания рабочего дня. Смартфоны продолжают звонить, экран ноутбука гаснет поздней ночью. Еще более значимую роль играет занятость женщин — большинство современных мам сегодня работают. И это привело к решительному изменению правил домашней жизни. В 1975 году работали всего 34 процента женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. Сегодня это количество возросло до 61 процента.
Эти женщины приносят домой бекон, жарят его, подают на завтрак и используют жир для того, чтобы сделать свечи для детского школьного проекта. Такое положение дел не новость. Но распределение родительских обязанностей в этих условиях остается неопределенным. Ни правительство, ни частный бизнес к этому все еще не готовы и перекладывают довольно тяжелый груз на плечи самих родителей.
Хотя современные отцы вовлечены в воспитание детей в гораздо большей степени, чем отцы из прошлых поколений, они двигаются вслепую, действуя методом проб и неизбежных ошибок.
Многие женщины не могут понять, следует ли им быть благодарными за полученную помощь или нужно высказать неудовольствие за помощь, которой им не оказывают. А многие мужчины точно так же относятся к собственным женам. В результате в доме возникает напряженность. Не случайно современные последователи юмористки Эрмы Бомбек, которая едко рассказывала о домашней жизни поколения наших мам, бывают не только женщинами, но и мужчинами.
Именно мужчина написал книгу «К черту сон!». Луис Си Кей стал настоящей культовой фигурой для современных мамочек и папочек. На концерте в честь Дня отца в 2011 году он заявил: «Когда мои дети были маленькими, я старался их избегать. Знаете, почему ваш папа так долго сидит в туалете? Потому что он не уверен, хочет ли быть папой».
Лично я считаю, что в самой большой степени опыт родительства изменила третья перемена — полная трансформация роли ребенка и дома, и в обществе. За время, прошедшее с конца Второй мировой войны, детство стало совершенно другим.
Сегодня мы изо всех сил стараемся оградить детей от трудностей жизни. Но на протяжении всей истории человечества дело обстояло не так. Дети работали. На заре нашей цивилизации дети заботились о братьях и сестрах или трудились в поле. Когда произошла промышленная революция, дети стали работать в шахтах и на текстильных фабриках, на заводах и рыбоперерабатывающих предприятиях или просто торговали на улицах. Со временем реформаторы стали запрещать детский труд, но процесс этот шел медленно.
Лишь когда наши солдаты вернулись со Второй мировой войны, детство стало приобретать те черты, которые знакомы нам сегодня. Семейная экономика перестала быть делом взаимным, когда родители обеспечивали детям кров и пищу, а дети в ответ вносили свой вклад в семейное благосостояние. Отношения стали асимметричными. Дети перестали работать, а родители стали трудиться вдвое напряженнее. Дети из подчиненных превратились в начальников.
Большинство историков пишут о том, что дети из «полезных» превратились в «защищаемых». Но социолог Вивиана Зелизер нашла еще более пронзительное определение. Современного ребенка она называет «экономически бесполезным, но эмоционально бесценным» существом.
Сегодня родители вкладывают в детей гораздо больший капитал — и эмоциональный, и материальный, чем когда бы то ни было в прошлом. Они проводят с детьми гораздо больше значимого времени, чем в те времена, когда рабочий день заканчивался в пять часов, а большинство женщин все же оставались дома. И все же родители не знают, что именно им нужно делать на своей новой работе. «Родительство» стало самостоятельным занятием (можно даже сказать, самостоятельной профессией), но цели его пока неясны.
Дети более не являются экономическим активом, поэтому, чтобы подвести баланс, их можно считать активами будущих периодов, требующими значительных инвестиций — не говоря уже о вере. Поскольку дети драгоценны эмоционально, современные родители озабочены психологическим благополучием сыновей и дочерей, что само по себе является целью достойной. Но одновременно с этим подобная цель расплывчата и не всегда реалистична: вселить уверенность в ребенка — это не то же самое, что научить его читать или менять колеса у автомобиля.
В этой книге мы рассмотрим родительство в комплексе, часть за частью, этап за этапом. Мы попытаемся выяснить — а в некоторых случаях и оценить, — что именно современным родителям дается с таким трудом.
Приведу хотя бы один пример. Вспомните мучительный и раздражающий диалог между Энджи и Эли. Исследователи изучают подобное общение более сорока лет. В 1971 году три гарвардских психолога изучили девяносто пар мама — малыш. Они наблюдали за каждой такой парой в течение пяти часов и выяснили, что в среднем мать каждые три минуты отдает ребенку приказ, говорит ему «нет» или высказывает просьбу (часто «неразумную» или «сюсюкающим тоном»). Дети же в среднем подчинялись лишь в 60 процентах случаев. Вряд ли это можно считать формулой идеального психического здоровья.
Существует множество исследований, которые объясняют, почему современные родители чувствуют себя именно так. Я попыталась собрать их воедино, использовав максимум доступных источников. Я изучила опросы по поводу секса и таблицы продолжительности сна, книги о внимании и статьи об отвлечении, истории браков и хроники детства. Я проанализировала массу интереснейших исследований самых разных явлений — например, почему подростки (8–10-й классы) так ссорятся с родителями и кто испытывает самое большое давление на работе (отцы).
Я попыталась показать, как результаты этих исследований проявляются в жизни обычных людей, в их кухнях и спальнях, в пробках, домашней работе и в повседневной жизни.
Несколько слов предостережения
Хотя я искренне надеюсь, что родители прочтут эту книгу, чтобы лучше понять самих себя — и успокоиться на свой счет! — вряд ли я смогу дать им какие-то полезные советы по воспитанию детей. Присмотритесь повнимательнее и, может быть, вы найдете что-то полезное. Но моя цель заключается не в этом. Перед вами книга не о детях. Это книга о родителях.
В книге «Чего ждать, когда вы ждете ребенка» можно рассказать о переменах, сопровождающих беременность. Но каких перемен следует ожидать, когда вашим детям будет три года, девять или пятнадцать лет? Чего ожидать, когда дети изменят вашу супружескую жизнь, работу, дружбу, надежды и внутреннее самоощущение?
Еще одно важное замечание. Эта книга — о среднем классе. Некоторым семьям приходится тяжелее, чем другим, но всем приходится бороться с определенными экономическими реалиями — идет ли речь о социальных служащих или рабочих, врачах или установщиках систем безопасности. Я редко бываю в элитных районах, потому что образ жизни таких людей интересен немногим. Практически каждый ребенок, о котором говорится в этой книге, ходит в обычный детский сад или школу. Но не собиралась я писать и о семьях бедных, потому что их родительские проблемы неразрывно связаны с проблемами житейскими. Им каждый день приходится думать о том, как прокормить детей и обеспечить им крышу над головой. Как отмечают многие — и в последнее время Джудит Уорнер в книге «Совершенное безумие», — о бедных родителях нужно писать отдельную книгу, причем не одну.
Поскольку разные этапы родительства не похожи друг на друга (бедлам первых лет заметно отличается от тревог и беспокойства в переходном возрасте), я построила свою книгу в хронологическом порядке. Две первые главы посвящены самым радикальным переменам, которые происходят после рождения ребенка. Мы поговорим о чувстве самостоятельности, которое исчезает на глазах, и о браке, правила и ритуалы которого оказываются перевернутыми с ног на голову.
Третью главу я посвятила уникальным радостям, какие приносят родителям маленькие дети. Четвертая глава посвящена преимущественно начальной школе — когда родители ощущают особое давление подготовки ребенка к конкурентному миру, а выходные и вечера превращаются в череду непрерывных занятий.
В пятой главе мы обсудим проблемы переходного периода, влияние которого на родителей явно недооценивается. Мы так долго заботились о своих детях, обеспечивая им пищу и кров, что не заметили, как они биологически превратились во взрослых людей. Удивительно, но в литературе об этом довольно сложном моменте говорится очень мало. Это тем более странно, если учесть, что родители в этот период переживают серьезные перемены в собственной жизни — это время менопаузы и определенного карьерного кризиса.
Но моя задача заключается не только в том, чтобы проанализировать трудности родительства. Не следует забывать и о «высокой награде», о которой говорит Уильям Доэрти. А оценить эту награду очень нелегко. Смысл жизни и радость как-то ухитряются проскальзывать сквозь социологическое сито. Словарь обвинений велик. Словарь похвал гораздо тоньше. Поэтому шестую и последнюю главу своей книги я посвятила месту воспитания детей в общем контексте жизни: что такое радость, каково это — подчинить свою жизнь целому ряду обязательств, что такое рассказывать свои истории, вспоминать и формировать цельное представление о самих себе.
Наша жизнь — это сумма жизненных опытов, и воспитание детей играет важную роль в том, чтобы мы стали такими, каковы мы есть. И для некоторых из нас эта роль — главная.
Глава 1
Самостоятельность
Я поднял младенца к свету, посмотрел на врача налитыми кровью глазами и резко произнес: «Объясните мне, доктор… Вы уже так давно занимаетесь этим делом…» Я внимательно посмотрел на ребенка и продолжил: «Она разрушает мою жизнь. Она лишает меня сна. Она губит мое здоровье. Она портит мою работу и отношения с женой… и она… такая страшная…» Сглотнув, я наконец-то сумел сформулировать простой вопрос: «Почему же я ее люблю?»
Мелвин Коннер «Косое крыло» (1982)
Впервые мы встретились с Джесси Томпсон в середине марта — в сложное время для миннесотских родителей. Во всей стране уже наступила весна. В Миннесоте же до того момента, когда детей будет вполне гуманно держать на дворе, оставалось еще не меньше месяца. Всю неделю я посещала курсы семейного образования для родителей с маленькими детьми. Занятия проходили в Миннеаполисе и Сент-Поле. 125 родителей рассказывали о своей жизни. И всю неделю мы слушали примерно одно и тоже: нервы родителей на пределе, а детские игрушки уже захватили весь дом, превратившись в настоящую домашнюю диаспору. Каждый из родителей имел вид пассажира, который провел в автобусе слишком много времени и не может дождаться, когда же, во имя всего святого, его выпустят из этой клетки.
Курсы семейного образования в Миннесоте (ECFE) пользуются огромной популярностью. Это совершенно уникальная программа — именно поэтому я ее и выбрала. Система оплаты здесь скользящая — а некоторые родители могут пройти курсы бесплатно. В целом любой родитель, чей ребенок еще не ходит в детский сад, может пройти недельный курс. И родители проходят! В 2010 году около 90 000 матерей и отцов записались на эти курсы. Темы курсов различны, но главное — они дают родителям возможность поделиться сокровенным, многому научиться и выпустить пар.
Первая половина курса довольно проста: родители и дети взаимодействуют в группе. Занятия проводят сотрудники ECFE. Все самое интересное начинается во второй половине. Родители передают детей тем же самым сотрудникам и уходят в другую комнату. Шестьдесят благословенных минут они снова могут стать взрослыми. Здесь пьют кофе, здесь не кричат, здесь сравнивают свои впечатления. Дискуссию обычно направляет специально назначенный модератор.
С Джесси я познакомилась в небольшом классе ECFE в Южном Миннеаполисе. Она сразу мне понравилась. Джесси — одна из тех любопытных женщин, которые, кажется, не сознают собственной красоты и ведут себя слегка отстраненно. Ее выступления в дискуссии порой и были довольно едкими, но показывали, что она не боится своих темных, негативных чувств и относится к ним спокойно — как ученый-биолог относится к лабораторным крысам.
Примерно в середине курса, к примеру, Джесси упомянула о том, что прошлым вечером ушла из дома, чтобы встретиться с подругой, — настоящий триумф, учитывая, что у нее трое детей в возрасте до шести лет!
«В этот момент я поняла: вот что чувствуют мамы, когда уходят от своих детей! — сказала она. — Я поняла, почему мамы садятся в свои машины и просто… катаются».
Джесси в полной мере насладилась одиночеством — только она и дорога, и никаких пристегнутых на заднем сиденье детей.
«И тогда у меня даже возникла фантазия, — продолжала она. — Я подумала: а что, если мне действительно просто покататься?»
Фантазия просуществовала недолго…
Джесси — нормальная, уверенная в себе мать. Поэтому-то она и не побоялась признаться в этом мгновенном желании. Но в то же время было совершенно ясно, что она смертельно устала и силы ее почти на пределе.
Она пыталась расширить свой бизнес (Джесси занималась семейной фотографией, а студия ее располагалась в подвале собственного дома). Она жила от оплаты до оплаты. Ее младшей дочери было всего восемь месяцев. У Джесси не хватало денег, чтобы отдать детей на танцы и футбол, не говоря уже о такой роскоши, как детский сад. Она не могла позволить себе приглашать няню больше чем на полдня в неделю. Каждый раз, собираясь в магазин, ей приходилось запихивать в машину всех троих детей.
«Иногда у меня возникают эгоистические мысли, — сказала Джесси. — Я не хочу менять этот подгузник. Я не хочу, чтобы дети отнимали у меня все мое время. Я хочу спокойно поговорить по телефону, чтобы меня никто не прерывал».
Джесси просто хотела вернуть хоть какие-то осколки прежней жизни. Но это практически невозможно, когда в доме три маленьких ребенка. Эрма Бомбек прекрасно сказала об этом более тридцати лет назад, вложив в уста одной из своих героинь такие слова: «Я с октября не была в ванной одна!»
Только что вы были совершенно самостоятельной личностью. Вы жили, как хотели, и делали, что вам угодно. И вдруг вы стали родителем и полностью отключились от ритмов нормальной взрослой жизни. Не случайно первые годы родительства психологи считают самыми несчастливыми в жизни человека. Это годы, проведенные в бункере, довольно короткие относительно всей жизни, но часто кажущиеся бесконечными. Самостоятельность, которую родители некогда воспринимали как должное, просто исчезает. Об этом снова и снова говорили участники программы ECFE.
Один папа, который решил сам воспитывать детей дома, рассказал своей группе, которая состояла из таких же отцов-«домохозяек», о своей встрече с бывшим коллегой, летевшим в командировку на Кубу.
— Он воскликнул: «Надо же, как здорово!» Но при этом так усмехнулся, что я сразу понял — ничего хорошего он в этом не видит.
Наш участник продолжал:
— Я вижу совершенно свободных людей. Они делают то, что мне самому хотелось бы сделать, но ведь у меня есть семья. Хотел ли я иметь семью? Да, хотел. Доставляет ли мне радость общение с детьми? Да, доставляет. Но заниматься только семьей изо дня в день порой бывает тяжеловато. Редко выпадает возможность заняться тем, чем хочешь, и тогда, когда тебе этого хочется.
До недавнего времени то, что хотели родители, вообще не принималось в расчет. Но сегодня мы живем в эпоху, когда карта наших желаний заметно расширилась. И нам твердят, что удовлетворять их — это наше право (честно говоря, даже обязанность).
В конце прошлого века историк Дж. М. Робертс писал: «В XX веке людям как никогда прежде стало ясно, что счастье вполне достижимо и в этой жизни». Конечно, это замечательно, но достичь этой цели удается не всегда. Когда наши ожидания не оправдываются, мы начинаем винить себя.
«Наша жизнь превращается в элегию неудовлетворенных потребностей и принесенных в жертву желаний, отвергнутых возможностей и непройденных дорог, — пишет британский психоаналитик Адам Филлипс в сборнике статей „Отсутствующее“, вышедшем в 2012 году. — Миф о потенциале превращает оплакивание и жалобы в самые реальные наши действия».
Даже если наши мечты неосуществимы, если они были ложными с самого начала, мы все равно сожалеем о том, что они не сбылись.
«Мы не можем представить собственную жизнь без непрожитых жизней, которые в ней есть», — пишет Филлипс. И тогда мы спрашиваем себя: «А что, если я просто покатаюсь?»
Сегодня у взрослых еще больше причин для страданий по непрожитым жизням: у них больше времени для исследования своего потенциала до рождения детей. По данным национального статистического бюро, в 2010 году средний возраст, в каком женщина с высшим образованием решается завести первого ребенка, составляет 30,3 года. В отчете говорится, что женщины с высшим образованием «обычно рожают первого ребенка спустя больше двух лет после вступления в брак». Следствием этого является более резкий контраст между жизнью до рождения ребенка и после этого события.
Родители хорошо помнят, какой была их жизнь до появления детей. Они почти десять лет жили совершенно самостоятельно, экспериментировали с разными работами, разными романтическими партнерами, разными квартирами. Это вдвое дольше, чем они провели в колледже.
Когда я ходила на курсы ECFE, немногие говорили о разнице в жизни до и после рождения детей более честно и мощно, чем Джесси. Когда ей было двадцать лет, она преподавала английский язык в Германии, работала в английском пабе и даже какое-то время была стюардессой в компании «Дельта». Теперь же она все свое время проводит в небольшом бунгало с одной ванной (бунгало симпатичное, но очень тесное!).
Когда ей было около тридцати, Джесси решила заняться рекламой и уже начала реализовывать свой замысел — но тут родился первый ребенок. Сегодня она занимается другим, более совместимым с семейной жизнью (по крайней мере, так ей кажется) родом деятельности. Уютный офис в центре города сменился на небольшую комнатку рядом с гостиной, где работает телевизор.
— Мне все еще очень, очень тяжело, — сказала Джесси на дискуссии. — До тридцати двух лет мы жили просто вдвоем с мужем.
Появление детей придает нашей жизни смысл, о каком мы раньше и подумать не могли. Но в то же время это событие лишает нас самостоятельности — в столь же невообразимой степени. Причем неважно, идет ли речь о работе, отдыхе или банальной повседневности. Вот с этого-то мы и начнем нашу книгу — со вскрытия этой изменившейся жизни и попытки объяснить, почему она стала именно такой.
Недостаток сна
Одно из преимуществ прихода в дом в восемь утра — если, конечно, вас не смущает полный кавардак и вид домочадцев в пижамах, с помятыми лицами и растрепанными волосами — заключается в том, что по лицам родителей можно прочесть историю этого утра и предыдущего вечера.
Я приехала в дом Джесси в Южном Миннеаполисе через несколько месяцев после нашего знакомства на семейных курсах. Ее муж, инженер, уже ушел на работу. Но Джесси была дома — и уже успела устать. Было совершенно ясно, что она или рано встала, или поздно легла. Выяснилось, что справедливы оба моих предположения.
— До вашего появления я уже была в полном отчаянии, — призналась она, закрывая за мной дверь. На ней был полосатый спортивный костюм, влажные волосы собраны в конский хвост. Пятилетняя Белла и четырехлетний Эйб путались под ногами. Им было весело, но маме было явно не до веселья. Маленький Уильям спал наверху.
— Малыш проснулся рано, — рассказала Джесси. — И все остальные тоже поднялись рано. А потом малыш устроил истерику из-за своей мягкой игрушки.
В то же самое время Эйб описался, и пришлось менять простыни, а потом купать сына. Потом Уильям за завтраком начал весьма зрелищно плеваться соком.
— Это было в 7.37, — сказала Джесси. — Я помню, потому что подумала: еще слишком рано, чтобы все пошло вверх дном!
Вот почему Джесси встала рано. Почему она поздно легла — это другая история. Ночь — это единственное время, когда Джесси может поработать спокойно, а на следующий день ей нужно было сдавать работу. Кроме того, у нее было много других забот — семья собиралась перебираться в пригород, чтобы сократить расходы. Теоретически переезд должен успокоить Джесси («Половина налогов и половина аренды», — сказала она мне), но в том районе она не знает ни души. За этими тревогами и работой она и не заметила, как пробило три часа ночи. Только в три она смогла лечь.
Порой по утрам Джесси так устает, что сил у нее хватает только на то, чтобы рассыпать хлопья по мискам и залить их молоком. А потом она возвращается в постель.
— Я знаю пару мам, которые ухитряются высыпаться, — сказала она. — Не знаю, как им это удается. Лично мне не удавалось ни разу.
Из всех страданий молодых родителей недостаток сна — вещь самая неприятная. Но большинство будущих родителей, сколько бы их ни предупреждали, даже представления об этом не имеют, пока не появится их первый ребенок. Им кажется, что они знают, что такое недостаток сна. Но между постоянным недосыпом и случайной бессонницей есть большая разница.
Один из ведущих специалистов по частичной депривации сна Дэвид Дингес говорит, что по восприятию длительного недосыпа люди делятся на три категории: те, кто справляется с этим нормально; те, кто чувствует себя неважно; и те, для кого это полная катастрофа. Проблема заключается в том, что будущие родители понятия не имеют, к какой категории относятся, пока у них не появятся дети. (Лично я отношусь к третьему типу — достаточно двух бессонных ночей и я превращаюсь в безумную истеричку.)
К какому бы типу вы ни относились — а Дингес полагает, что это врожденная черта, одинаково свойственная и мужчинам, и женщинам, — эмоциональные последствия недосыпа весьма серьезны и заслуживают глубокого анализа, который и был проведен Дэниелом Канеманом и его коллегами.
Ученые изучили 909 жительниц Техаса и обнаружили, что они оценивают время, проведенное с детьми, ниже, чем потраченное на стирку. Женщины, которые спали шесть часов или менее, чаще говорили о недостатке счастья, чем те, кому удавалось спать более семи часов. Разница в ощущении благополучия была настолько разительной, что даже превзошла разницу в ощущениях между теми, кто ежегодно зарабатывал менее 30 000 долларов, и теми, чей годовой доход превышал 90 000 долларов. (Журналисты выразили эту разницу более образно: «Час сна стоит 60 000 долларов», — писали они. Это не совсем так, но близко к истине.)
В результате опроса, проведенного в 2004 году Национальным фондом сна, выяснилось, что родители, имеющие детей в возрасте двух месяцев и меньше, спят в среднем всего 6,2 часа за ночь. Впрочем, у тех, чьи дети младше десяти лет, этот показатель не намного лучше — им удается спать всего 6,8 часа. Другие исследования дали немного иные результаты. Известный ученый Хаули Монтгомери-Даунс, который много работал над этой темой, недавно установил, что родители новорожденных в среднем спят столько же, сколько люди, не имеющие детей, — 7,2 часа.
Однако большинство исследователей, на какое бы исследование они ни ссылались, сходятся в том, что молодые родители не высыпаются, потому что сон их прерывист, непредсказуем, а то и безнадежно испорчен. Им недостает того, что мы ценим в сне больше всего, что помогает нам восстановить физические и душевные силы.
Как я уже говорила в предисловии, даже короткий период депривации пагубно влияет на состояние человека. Это влияние можно сравнить с избыточным потреблением алкоголя. «Можете представить, какое влияние оказывает на человека хронический недосып в течение трех месяцев, — говорит исследователь проблем сна, директор медицинского центра Кеттеринга в Дейтоне, штат Огайо, Майкл Г. Боннет. — Мы выявили целый ряд вредоносных побочных эффектов, но важно именно сравнение с потреблением алкоголя, поскольку в нашем обществе вождение автомобиля в состоянии опьянения считается недопустимым и наказуемым».
Боннет добавляет, что хронический недосып повышает раздражительность и снижает уровень запретов — не самое лучшее сочетание для родителей, которые стремятся сохранить спокойствие. Психологи придумали даже специальный термин, характеризующий постепенное снижение уровня самоограничений и запретов: «разрушение эго».
В 2011 году психолог Рой Ф. Баумейстер и журналист «Нью-Йорк Таймс» Джон Тирни написали книгу «Сила воли». В ней они говорили о том, что самоконтроль, к сожалению, не является безграничным. В частности, они использовали данные одного из весьма интересных исследований. Изучая в течение дня поведение двухсот человек, ученые пришли к выводу: чем больше человек использует силу воли, тем выше вероятность того, что он не устоит перед следующим же искушением.
Подобные результаты приводят меня к очередному вопросу. Если родители значительную часть времени тратят на борьбу со сном — а потребность в сне является одной из двух самых распространенных потребностей, с которыми борются взрослые люди (вторая — это потребность в еде), — то каким соблазнам они могут уступить? И самый очевидный ответ весьма печален. Родители не могут устоять перед соблазном накричать и сорваться. Ничто не расстраивает мам и пап больше подобного поведения в отношении самых слабых и беззащитных существ на свете! Однако именно так мы себя и ведем.
Джесси призналась мне, что именно так и поступает, несмотря на самые лучшие свои намерения.
— Я кричу, — сказала она, — а потом расстраиваюсь из-за того, что накричала на детей. А потом я ругаю себя: ну почему я не могу нормально выспаться?
Падишах вседозволенности
Пятилетняя Белла входит в кухню, где мы беседуем с ее мамой. Джесси обнимает дочь:
— Что случилось?
— Я хочу есть.
— И что нужно сказать?
— Мамочка, пожалуйста, дай мне что-нибудь вкусное!
— Конечно, дорогая!
Джесси открывает холодильник. Белла с интересом в него заглядывает. Входит Эйб. Малыш Уильям пока еще спит.
— Эйб, хочешь йогурта? — спрашивает Джесси.
— Да…
— Да, мама, пожалуйста, — поправляет его Джесси. — Ты самая лучшая мамочка.
Джесси улыбается и закатывает глаза. Конечно, она просит слишком многого, но женщине же позволительно немного помечтать.
— Ребята, хотите сделаем яблочный пирог?
Джесси говорит не об обычном яблочном пироге, а об изобретении ее собственных малышей. Они обожают йогурт с яблочным соусом, бисквитами и корицей. Иногда они устраивают настоящие соревнования — кто сделает пирог лучше.
— Дааа!!!
Дети отправляются в гостиную, а мы остаемся на кухне. Тишина царит всего несколько минут. Но когда мы проходим через гостиную в кабинет Джесси, то видим, что Эйб раскладывает свои игрушки прямо в луже йогурта.
— Эйб, нельзя! — восклицает Джесси, быстро хватая тряпку, чтобы убрать грязь. Увы, слишком поздно!
— Немедленно уберите все со стола, чтобы я все вытерла!
Я впервые слышу в ее голосе нотки напряженности и раздражения. Она была так спокойна, что я почти забыла, что жизнь с маленькими детьми — это эксперимент по выживанию в постоянном бедламе.
Джесси вытирает йогуртовую лужу, а потом на мгновение останавливается, глядя на груду разломанного печенья вокруг высокого стульчика Уильяма — судя по всему, он еще утром успел намусорить от души. Убрать все сейчас или отложить на потом? Старшие дети уже занялись своими игрушками на большом обеденном столе — и мусора от этих игр явно будет предостаточно. «Уберу все потом», — решает Джесси, и мы с ней идем в ее кабинет.
Самое трудное в родительской доле — мириться с необходимостью злиться на собственных детей.
В сборнике очерков «Сохранить рассудок» Адам Филлипс сделал меткое наблюдение: «Младенцы могут быть милы, очаровательны и восхитительны. Но у каждого из них есть черты, которые, проявляясь у взрослых, кажутся нам просто ужасными». И он приводит список этих черт: младенцы раздражительны; они не говорят на нашем языке; они требуют постоянного внимания, иначе могут навредить самим себе.
«Они живут в атмосфере вседозволенности, — пишет Филлипс, — полагая, что являются единственными во всем мире». Именно так живут маленькие дети, которые хотят многого и многое получают при полном отсутствии самоконтроля. «Современный ребенок, — пишет автор, — это избыток желаний при отсутствии организации». Ребенок — настоящий падишах вседозволенности.
Если большую часть взрослой жизни вы проводите в обществе других взрослых — особенно на работе, где необходимо соблюдать социальные условности и вести себя соответственно, — то вам придется серьезно приспосабливаться к тому, что после рождения ребенка вы будете проводить время в обществе человека, который чувствует больше, чем думает. (Впервые я читала Филлипса с его параллелями между детьми и душевнобольными под крики моего трехлетнего сына: «Я! НЕ! ХОЧУ! НАДЕВАТЬ! ШТАНИШКИ!») Но дети себя так не воспринимают.
«Дети очень удивились бы, — пишет Филлипс, — если бы узнали, что их требования кажутся нам безумными». По его мнению, реальная опасность заключается в том, что дети способны свести с ума своих родителей. Экстравагантность детских желаний и поступков, их безграничная энергия становятся реальной угрозой упорядоченной жизни родителей.
«Вся современная литература о воспитании детей, — пишет Филлипс, — твердит о том, как не свести с ума ребенка и как самому сохранить рассудок».
Это замечание помогает нам понять, почему родители так часто чувствуют себя абсолютно беспомощными в общении с маленькими детьми, несмотря на то что вполне в состоянии сохранять контроль. Для дошкольника любой беспорядок в комнате — швыряние подушками, скакание на диване, переворачивание столов или тарелка со спагетти на полу — кажется совершенно нормальным. Но взрослому кажется, что мальчик или девочка неожиданно становится страшным героем книг Мориса Сендака[1]. Взрослый сразу же стремится положить конец детским проделкам, потому что такова задача взрослого человека и таковы правила цивилизованной жизни. Но интуитивно родители понимают, что дети созданы для беспорядка, проделок, шума и испытания границ.
«Все родители в тот или иной момент злятся на своих детей. Они чувствуют, что дети требуют от них больше, чем они в состоянии им дать, — пишет Филлипс в другом очерке. — Самое трудное в родительской доле — мириться с необходимостью злиться на собственных детей».
Почему маленькие дети сводят нас с ума? Тому есть биологическое объяснение. У взрослых префронтальная кора мозга, которая располагается в лобных долях, развита полностью. У детей же она почти не развита. Префронтальная кора управляет исполнительной функцией, то есть позволяет нам организовывать собственные мысли и, как результат, собственные поступки. Без этой способности мы не могли бы концентрировать внимание. А ведь именно это больше всего раздражает нас в маленьких детях: их внимание не сфокусировано (Филлипс называет такое состояние «явным недостатком организации»).
Но напомню вам еще раз: дети не считают свое внимание несфокусированным.
В книге «Философское дитя» психолог и философ Элисон Гопник приводит сравнение фонаря и направленного светильника. Направленный свет освещает только один предмет, а фонарь — все вокруг себя. Сознание взрослого — это направленный свет. Сознание же маленьких детей в большей степени подобно фонарю. Малыши и дошкольники очень легко отвлекаются — как жуки, глаза которых способны видеть все, что происходит вокруг них.
Поскольку префронтальная кора контролирует не только исполнительную функцию, но и систему запретов, маленькие дети не раздумывая бросаются на изучение любого объекта, который кажется им интересным.
«Любой, кто пытается уговорить трехлетнего малыша одеться для детского сада, формирует у ребенка систему запретов, — пишет Элисон Гопник. — Справиться с этой задачей было бы гораздо проще, если бы ребенок не отвлекался на каждую пылинку на полу».
Не нужно обладать недюжинным умом, чтобы понять, что взрослым и детям чрезвычайно сложно согласовать общую программу действий. Родитель хочет обуть ребенка и отвести его в детский сад. Ребенок, может быть, и не против, но в данный момент времени ему кажется гораздо более важным и интересным поиграть со своими носочками. Возможно, у родителя есть время на подобные развлечения, а возможно, и нет. Как бы то ни было, родителю нужно приспосабливаться, и это трудно.
Окружающий мир кажется нам комфортным в том числе и потому, что мы можем в той или иной степени предсказать поведение окружающих. Маленьким детям концепция предсказуемости абсолютно чужда.
Кроме здравого смысла, концентрации и системы запретов, префронтальная кора отвечает за нашу способность планировать, предсказывать и определять будущее. Но маленькие дети, у которых префронтальная кора только начинает формироваться, не могут предвидеть будущее. Они живут в перманентном настоящем — постоянно находятся здесь и сейчас. Иногда такое состояние сознания необходимо — для переговорщиков и посредников это желанная цель. Но для родительства такая стратегия никак не подходит.
«Всем хочется жить настоящим, — говорит Дэниел Гилберт, психолог из Гарварда, автор бестселлера „Застрять в счастье“. — Умение жить настоящим крайне важно для жизни человека. Это доказывают и мои собственные исследования». Разница заключается в том, что дети по определению живут только в настоящем. То есть у вас как у родителя нет ни единого шанса.
«Все движутся к будущему с одной и той же скоростью, — говорит Дэниел Гилберт. — Но ваши дети движутся с этой скоростью с закрытыми глазами. И именно вы должны направлять их движение. В начале 1970-х годов очень многие хотели жить настоящим. И это означало, что никто не платил ренты!»
Родители и маленькие дети относятся к времени совершенно по-разному. Родители устремлены в будущее. Маленькие дети пребывают в настоящем, и будущее для них не существует. Такое различие очень мучительно для ребенка. Малыш, в отличие от взрослого, не может осознать, что, хотя сейчас ему велят отложить свои кубики и заняться чем-то другим, позже он сможет вернуться к любимой игре. Он не понимает, что, хотя сейчас ему не дают еще одного пакетика чипсов, в его дальнейшей жизни этих чипсов будет предостаточно. Он хочет все здесь и сейчас, потому что именно тут он и живет.
Однако мамы и папы убеждены: если им удастся донести до детей логику своих решений, те их поймут. Именно так работал их взрослый мозг долгие годы до появления детей: он вел рациональный диалог, в котором анализировались и тщательно оценивались мотивы и логические доводы. Но маленькие дети живут интенсивной эмоциональной жизнью. Доводы здравого смысла на них не действуют. Их мозг для этого еще не приспособлен.
— Я порой совершаю ужасную ошибку, — сказала на семинаре группы ECFE женщина по имени Кения. — Я разговариваю с моей дочерью, словно она — взрослая. Я рассчитываю на то, что она меня поймет. Мне кажется, что, если я объясню все достаточно понятно, она прислушается к моим доводам.
Инструктор нашей группы Тодд Колод понимающе кивнул. Он слышал это много-много раз. Эту проблему он назвал «проблемой маленьких взрослых». Мы ошибочно полагаем, что детей можно убедить доводами здравого смысла.
— Но ваша трехлетняя дочь, — мягко объяснил он Кении, — никогда не скажет: «Да, мама, ты права, я тебя понимаю».
Поток
— Хочешь устроить танцы? — спросила Джесси. — Бой на подушках? Рыцарский турнир на мечах?
Уильям только что проснулся, поэтому Джесси пришлось оторваться от своей работы. Самое замечательное в этой маме то, как серьезно она относится к игре. Ей нравится танцевать вместе с детьми под музыку, заниматься рисованием или лепкой, разгадывать загадки и устраивать шарады.
— Слезай с моего корабля! — крикнула она Эйбу, который увлекся игрой в пиратов. — Устрой собственный корабль!
Джесси подхватила световой меч и начала фехтовать с малышом одной рукой, а другой стала выбирать музыку на своем iPod.
— Я захвачу твой корабль! Я заполучу все твои сокровища!
Эйб бросил световой меч на пол.
Джесси озадаченно посмотрела на сына:
— Не делай этого. Ты можешь сломать свой меч.
И затем она снова вернулась к игре:
— Меньше слов, больше действия!
Джесси наклонилась и атаковала Эйба, а потом передала меч Уильяму, чтобы он сделал то же самое. Она поставила Уильяма на землю и начала нападать на Эйба. Поначалу тому нравилось, но когда меч коснулся его живота, он возмутился.
— Не делай так! — закричал он. Ритм схватки нарушился.
— Как не делать? — спросила Джесси. — Знаешь, почему я так поступила? Потому что я тебя люблю!
Она повалила сына на ковер и обняла.
— Нет! — вырвался Эйб.
Джесси внимательно посмотрела на сына.
— Ты слишком рано поднялся, верно? Ну хорошо, больше никаких игр.
Джесси решила сменить и стратегию, и тактику. Она подхватила сына правой рукой и включила красивую испанскую балладу. Мама с сыном начали танцевать медленный танец. Это было замечательно. Музыка окутала их словно коконом. Они забыли о моем существовании. Эйб приник к материнскому плечу, она прижалась к его уху губами.