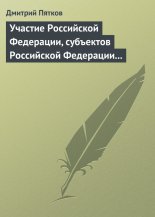Имя женщины – Ева Муравьева Ирина

– А знаешь? – сказала жена. – Он начал скучать по тебе. Он взрослеет.
Ему показалось, что Эвелин произнесла это не случайно и сознательно нажала на болевую точку. Как ни тянуло его к Еве, но даже сейчас, когда перевернутый ее письмом, весь в мыслях о ней, он поцеловал Джонни в затылок, подул на его легкие, такие же как у Эвелин, золотистые волосы, кровь прилила к его лицу, и он поспешно зарылся в эти золотистые волосы, спрятал в них глаза и губы, потому что нужно было выбирать между любовью и ребенком, и на секунду возникло такое чувство, словно в руки ему дали топор, велели проломить кому-то из двоих череп.
А там, в Ленинграде, глубокая ночь. Фишбейн представил себе мрачный, погруженный во тьму величественный город, пронизанный тенями разной длины, с его свежо пахнущей сонной рекой, обморочно спящими дворцами, с огромной чужой ему жизнью, забившейся во все щели. Он понимал, что связь с этой жизнью разорвана, и даже если ему посчастливиться вновь попасть туда, она, издалека равнодушная к нему и почти призрачная, отвердеет, словно бетон, как только он сделает попытку выловить из ее глубины одно-единственное необходимое ему существо – женщину.
Принесли мороженое. Он быстро съел, не почувствовав вкуса. Зубы заныли от холода. Дома он сказал, что хочет спать, пошел к себе в спальню и лег.
Через полчаса постучалась жена. Она была в коротком черном платье, лицо серебристо и нежно напудрено.
– У нас с тобой билеты на «Вестсайдскую историю», – сказала жена. – Джонни останется с – няней.
Больше всего хотелось побыть одному и думать, и думать, и думать, как быть. Иногда мелькало странное ощущение: если забыть обо всем остальном и целиком погрузиться в заботу о том, что нужно скорее проникнуть в Россию, догадка, как это устроить, внезапно вдруг вспыхнет сама, подобно зарнице на небе. Он хотел сказать Эвелин, что смертельно устал за день, но понял, что она уже нарядилась для выхода и, если он откажется, наверное, обидится. Значит, выбора не остается: сегодня театр. А сын его Джонни останется с няней. Вот так все и будет.
На Таймс-сквер было, как всегда, полным-полно народу, небо переливалось от звезд, которые стремились доказать маленьким и суетливым людям далеко внизу, что свет их намного светлее, пышнее, чем свет человеческой иллюминации, всегда кем-то сделанной, кем-то зажженной. Мало кто, однако, удостаивал небесные огни своим вниманием. На Таймс-сквер кипела жизнь, которую было странно даже представить себе замедлившейся или, не дай бог, остановившейся. С двух сторон к освещенным подъездам театров подъезжали машины, из которых выпрыгивали женщины с голыми плечами и выпуклыми коленями, их кукольные ресницы скользили по круглым щекам, подлетали к высоким бровям, зрачки их сужались и вновь расширялись, и все эти женщины были готовы к тому, чтобы жить здесь, на этой земле, крикливо, и весело, и бесконечно. Мужчины, чья энергия всегда проигрывает по сравнению с женской, вели себя тише. От женского вида, от этих ресниц, коленей, плечей их, нормальный мужчина сжимается в жгучем желании, и многие страшатся в себе этих яростных чувств, весьма первобытных, нецивилизованных, поэтому только кривая усмешка, немного всегда не по делу, не к месту, слегка выдает их звериную силу. Конечно, в саду этих диких цветений, наполненном острым инстинктом, заботой и страхом, конечно, – ох страхом! – конечно, старухам и их старикам, приехавшим также на праздник, хотелось забыть о своих дребезжащих суставах, своих сизых венах и впалой груди, поэтому старцы, готовясь к отплытью туда, где мигают счастливые звезды, старались и двигаться как-то живее, и даже смотреть молодецки, как будто они, в своих платьях, костюмах и бусах, желают быть тоже цветами, корнями, вцепляться колючками, ждать жирных пчел.
Двигаясь внутри этой разгоряченной толпы вслед за нежно-золотистым затылком Эвелин, к форме и цвету которого он привык настолько, что уже не замечал их изящной красоты, Фишбейн невольно восстанавливал в памяти то, как совсем недавно они с Евой шли по улице Горького, на которой гремел фестиваль, и тоже огни были, лица, гудки… И как он был счастлив. За что же нам всем наказание такое? Что значит, черт вас побери, быть счастливым? Состав, что ли, крови меняется в теле, а может быть, слепнет душа, забывает и голод, и холод, и грязь, и испуг, одно остается в ее детской памяти: какие-то травы, какие-то звуки, какие-то теплые капли дождя, упавшие с неба на серые крылышки… Стучит в тебе – и не поймешь даже где, как будто ты – лес, и тебя кто-то рубит, а ты поддаешься, ты весь замираешь, и птицы твои вылетают из гнезд, и солнце тебя заливает, и только бы осталось все так, как сейчас, не менялось бы…
Когда актер с таким белым широким пробором в приклеенных черных волосах, что за этим пробором следили не только первые ряды партера, но и вся галерка, взяв за руку стройную, с круглыми бедрами актрису, у которой было глубокое декольте, красные чулки и туфли, почти как у девочки-школьницы, запел вместе с нею известную песню, ему стали вдруг подпевать и с галерки, и с первых рядов, и с последних рядов, и эта наивная песенка вызвала у Эвелин слезы.
- Сделай из двух наших рук одну,
- И общее сердце из двух сложи…
Эвелин закрыла глаза.
- Сделай из двух наших жизней одну
- День изо дня, из минуты в минуту…
- Пока мы живем, пока смерть не пришла…
Эвелин вытерла ладонью слезы и мокрой рукой сжала его руку. Он искоса посмотрел на нее и осторожно высвободил пальцы, улыбкой давая понять, что зря она плачет на публике. Но плакали многие. И руки, которые люди сжимали, порой были старыми, с толстыми пальцами. Сплетаясь, они помогали друг другу стать крепче, живучей, слияние рук дарило иллюзию, что не напрасно дана была жизнь, и вот если в театр, к примеру, ворвутся бандиты, с глазами, горящими от нетерпения и злобы, то выживет тот, кто любим и кто любит, а вовсе не тот, кто сидит равнодушно и пялит на сцену сухие глаза.
Жена держала его за руку, он чувствовал прикосновение ее обручального кольца к своему и думал о Еве. Под влиянием музыки и простодушных слов этой песни в нем поднимался гул, похожий на гул огня в печи или ливня за окнами дома. Он знал по себе, что уж если придется ему разлучиться когда-нибудь с Евой, то смерть непременно вмешается в это, куда-нибудь уж проскользнет, просочится, – без всякой косы, без скелета, без черепа, – а буднично, неторопливо и нагло. Разные, надо сказать, мысли приходили в голову Фишбейна во время этого спектакля. Иногда он словно бы смотрел на себя со стороны и удивлялся, как это случилось, что он, взрослый человек, прошедший войну, хлебнувший всякого, и в том числе грубой продажной любви, отбившей в нем всякую сентиментальность, как это случилось, что, будучи в общем удачно женатым, привязанным к дому, жене и ребенку, он вдруг умудрился влюбиться так сильно, что все остальное не только тускнеет – и с каждой минутой все больше и больше, – а словно уходит под воду, как части разбитого судна.
Каминные часы в гостиной пробили двенадцать, когда они вернулись домой.
– Давай выпьем шампанского, – сказала вдруг Эвелин. – Потому что я хочу сказать тебе одну очень важную вещь.
– Какую?
– Сначала налей.
Фишбейн достал из холодильника на кухне голубоватую бутылку «Veuve Clicquot», вернулся к столу. Эвелин держала по бокалу в каждой руке. За спиной ее в открытом и незадернутом окне стояла звезда, сияя, как капля того же шампанского.
– Я, – сказала Эвелин, пригубив из своего бокала, – я должна сказать тебе, Герберт, что я в жизни своей не встречала ни одного человека, хоть сколько-нибудь похожего на тебя.
– Ты хочешь польстить мне или наоборот?
– Не смейся, пожалуйста. – Она медленно, не отрываясь, сделала несколько больших глотков. – Я смотрела на тебя сегодня в театре и чувствовала, что я – самая счастливая женщина в мире, потому что ты – мой муж. У тебя было лицо, совсем не похожее на остальных. У тебя… – Она замешкалась, подбирая слово. – У тебя все настоящее. Все из глубины. И это было на твоем лице.
– Что именно было?
– Смятение, страх. И любовь. Ведь это любовь ко мне, Герберт?
Эвелин близко подошла к нему и, отведя в сторону руку с недопитым шампанским, потянулась к его губам раскрытыми губами. Он слегка, так, чтобы она не обиделась, отстранился:
– Что с тобою сегодня?
– Со мной? Ничего. – Она всхлипнула. – Герберт! Я снова беременна. Скоро три месяца.
Он почти машинально, чувствуя, что нужно что-то сделать, обнял ее, опустил голову и прижал свой лоб к ее голому плечу. Новость, только что произнесенная ею, была не по силам.
– Ты рад? – прошептала она.
Он мотнул головой.
– Сестричка для Джонни. А может быть, брат, – сказала жена и опять громко всхлипнула. – Как нас с тобой соединило! Ведь правда? Вот мы и ругаемся, и раздражаемся, а этот ребенок… Ведь он уже есть. И он – мы с тобой. Правда, Герберт?
– Конечно, – сказал он в невнятно и быстро. – Иди, дорогая, ложись. Я сейчас.
– Куда ты?
– Пойду прогуляюсь немножко. Я выспался днем. Подышу на ночь глядя.
Она удивленно взглянула на него:
– Послушай… Да что с тобой, Герберт?
– Опять подозрения! – Он не сдержался. – Со мной все в порядке. Я счастлив, я рад! Не цепляйся ко мне!
Она побледнела:
– Ты чем-то расстроен?
– Я просто устал, – сказал он. – Все в порядке. Я просто устал, дорогая. Ложись.
Посмотрев, как она медленно поднимается по лестнице, он вышел на улицу. Только что прошел дождь, земля дышала цветочными испарениями, и мрак вокруг дома был странно упругим, как будто живым. Внутри темноты замаячило что-то, составленное из тумана и влаги, с большим, очень мелко дрожащим лицом. Как только Фишбейн протянул вперед руку, видение исчезло.
В субботу Эвелин с Джонни и няней уехали на Лонг-Айленд, а он остался в городе под предлогом работы. Теперь он жил в каком-то лихорадочном ритме, его гнало чувство, что нужно успеть, все успеть: и дописать диссертацию, и защитить докторскую степень, и найти работу, и самому участвовать в воспитании Джонни, и главное – это поехать в Москву. В течение ближайшего года, а то и полутора лет он не смеет заикнуться о разводе. Эвелин должна спокойно доносить, родить, потом сколько-то месяцев кормить младенца – она придерживалась пуританской традиции, следуя которой мать кормит сама, – и только потом можно будет сказать ей. Представить, как это случится, – и то было жутко.
Он пошел в библиотеку и углубился в работу. Письмо Еве, написанное ночью, лежало во внутреннем кармане его летнего пиджака.
«Не бойся ничего, я приеду, и мы будем вместе. Я верю в это и знаю, что иначе не может быть. И знаешь почему? Потому что, как только я увидел тебя на перроне, я узнал в твоих движениях и в выражении твоего лица свою умершую мать. Я бросился догонять тебя, чтобы убедиться в том, что это так, и я не ошибся. Ты и в самом деле на нее похожа. Не лицом, но тем, как ты двигаешься, как ты говоришь. Люблю всю тебя: твой голос, твой смех, то, как ты удивляешься, как злишься, вздыхаешь, торопишься, спишь. Ты утром немножко храпела во сне. И я даже это в тебе полюбил. Меня приводит в бешенство, что ты продолжаешь жить в одной квартире с мужем и он может в любую секунду войти к тебе и потребовать, чтобы ты снова стала его настоящей женой. Я чувствую, что ты моя, и с каждой минутой я чувствую это все острее».
5
В третьей главе диссертации, которая по принятым нормам должна насчитывать пять глав и заключение, Фишбейн описывал особенности поведения волков и приводил примеры их интеллекта.
«Волки появились на Аравийском полуострове больше двух миллионов лет назад, – быстро записывал он, перелистывая то один, то другой том и множество справочников почти одновременно. – Никто не может сказать наверняка, каким образом это животное умудрилось расселиться по всему свету. Мы полагаем, что ответ один: именно интеллект позволил волкам удачно перекочевывать с места на место и организовывать свою жизнь в разных климатических и географических пространствах. Примеров особенного интеллекта насчитывается огромное множество. В этой работе мы приведем несколько самых выразительных. Стаю волков отстреливали из вертолетов. Волки забежали в поросший редкими лиственными деревьями овраг. Дело было в середине зимы, голые деревья не могли защитить волков от выстрелов. Погибли все, кроме одного. Вертолет завис над оврагом, пытаясь обнаружить пропавшего волка. Прошло не меньше пятнадцати минут, пока его увидели: волк стоял на задних лапах, крепко обняв ствол дерева и практически слившись с ним. Второй остановивший наше внимание случай произошел на европейском севере России. Старая и уже физически слабая волчица попала в капкан, но каким-то образом ей удалось вырваться. На трех лапах, с капканом на четвертой, волчица неделю уходила от охотников. За все это время ей ни разу не удалось поесть. Трижды она выводила преследователей к медвежьим берлогам. Потревожив медведей, погоня приостанавливалась, и волчице снова удавалось оторваться. Наконец она обессилела и была в упор убита на месте.
Чувства волков отличаются силой и определенностью. Если волк А любит волка Б, то это значит, что он любит именно волка Б, а не кого-то другого. Однако трудности выживания часто диктуют поведению волков особую пластичность. У этих животных очень развит механизм пассивно-оборонительной реакции, который лежит в основе их постоянной осторожности и опасения за собственную жизнь и жизнь своего потомства. Предельно развитая рассудочная деятельность обуславливает наиболее адекватный выбор решения в каждый момент борьбы за свое существование».
«Почти про меня», – усмехнулся Фишбейн, и в ту секунду, как он подумал это, на соседний с ним стул кто-то поставил большой черный портфель.
Он поднял глаза и увидел маленького, почти карликового роста, человека с немного обезьяньим лицом и быстро бегающими глазами.
– Не помешаю? – спросил его этот человек по-английски, но с сильным польским акцентом, который Фишбейн сразу же распознал, поскольку тот же самый акцент был у Барбары, когда-то варившей «чернину».
– Нет, – сухо ответил Фишбейн и сделал попытку опять углубиться в работу.
– Вы, наверное, уже догадались, – широко улыбаясь мягким обезьяньим ртом, сказал карлик, – что если в этом зале столько свободных столов, а я подсаживаюсь именно к вам, значит, именно с вами я хотел бы поговорить.
Библиотечный зал был почти пустым.
– Давайте о деле, – спокойно сказал напросившийся в собеседники незнакомец. – Рышард Кайдановский. Я рад нашей встрече.
– Вы из ЦРУ? – усмехнулся Фишбейн, почувствовав себя тем самым волком, которого обстреливают из вертолета.
– Знаете, – сказал карлик, – я бы рад был служить в таком солидном учреждении, но врать не хочу. Я не из ЦРУ. Я просто сотрудник радиостанции «Свободная Европа», вещаю на Польшу, мою бывшую Родину, и изредка на вашу бывшую Родину, господин Фишбейн-Нарышкин.
– Нет слов! – засмеялся Фишбейн. – Меня уже и на радиостанции знают! Тогда давайте по-русски разговаривать, мне практика нужна.
– У меня довольно слабенький русский, – вздохнул Кайдановский. – Учить нас, конечно, учили, но плохо. Да и по-английски приятней. У нас, собственно говоря, вот какой вопрос: не хотите ли вы освещать вопросы музыкальной культуры на нашей радиостанции? У вас приятный тембр, вы меценат, недавно побывали в Москве… Музыку любите…
– Послушайте! – перебил его Фишбейн, хватаясь за голову и смеясь одновременно. – Перестаньте меня морочить! Какая еще музыка? Что вы все наседаете на меня со всех сторон?
– Ах, боже мой! Матка Боска![4] Вы разве не знаете, мистер Нарышкин, как устроен наш мир? Вы еще молодой человек, вами правят чувства, женщины, все эти глупые страсти. А я человек уже старый и много хлебнул. И я вам скажу: наседают все на всех и всегда. Я вам даже больше скажу: наш мир – сумасшедший. Если бы он мог самого себя запереть в дом умалишенных, всем стало бы очень легко и приятно!
– Кому же? – спросил Фишбейн, удивленно, но уже заинтересованно присматриваясь к подвижному обезьяньему лицу с мягкой улыбкой. – Кому же стало бы легко и приятно, если бы мы все вместе сидели взаперти в доме для умалишенных?
– Ну, кто-нибудь, вышел бы, наверное, все-таки… Нельзя же всех сразу. Всем места не хватит. – Кайдановский поставил на стол свой огромный портфель и поудобнее уселся на стуле, пододвинув его поближе к стулу Фишбейна. – Мы с вами смеемся, мешаем читателям. Давайте потише. Отец Теодор, которого я недавно навестил, рассказал мне о вашем к нему визите. Он мне намекнул, что к вам уже начали притираться оттуда. Но он вас жалеет.
– Откуда вы знаете Ипатова?
– Это долгая история. В двух словах: я знаю его по Латинской Америке.
– А вы как попали туда?
– Война, дорогой мой, война! Она заносила людей не только в Аргентину. Потом я вернулся в Польшу, но в Польше был приговорен к смертной казни. Спасло меня чудо.
– Какое?
– Меня и еще двоих смертников вывезли из Польши с помощью ЦРУ. Один из этих смертников был полковник Цуклинский. Не слышали о таком случайно?
Фишбейн покачал головой.
– Он в течение двух лет передавал в Вашингтон варшавские стратегические планы. Разведчик. А проще сказать, что шпион. Америка отблагодарила его тем, что спасла жизнь. Его бы, конечно, повесили. Ну а я и еще один малый оказались там же. Троих было легче вытащить, чем одного. Да, вот такой парадокс, представьте себе.
– Так вы теперь молитесь на ЦРУ? – Фишбейн усмехнулся.
Кайдановский перестал улыбаться:
– Милый вы мой молодой человек! Молиться лучше Богу. А все остальные инстанции, даю вам голову на отсечение, мало чем друг от друга отличаются. Везде одно и то же: деньги, честолюбие, месть, убийства. Вы думаете, советская власть – это плохо, а Белый дом – хорошо? Не упрощайте. И там, и там есть добро и есть зло. И там, и там есть отъявленные мерзавцы и есть приличные люди. Мерзавцев намного больше. Но и это не более чем арифметика, но жизнь не арифметика, а частный случай. Есть, однако, такая странная штука, которая называется «государственная политика». Люди могут быть мерзавцами, но они служат своему режиму. И если свой режим не приказывает расстреливать поляков в Катыни и жечь евреев, то они этого не делают. Их дрянная природа выражается как-то иначе. Они, например, мучают животных или тиранят своих жен, детей.
– А если – хорошие люди? – спросил вдруг Фишбейн.
– А если хорошие, так они все равно пострадают. Не за себя, так за ближнего. Иначе что же в них хорошего?
– Зачем вы все это мне рассказываете? Вы ведь меня тоже вербовать пришли? И я за кого? Или против кого? Или это уже не важно?
– Ну вы ребенка-то с водой вместе не выплескивайте! – живо перебил его карлик. – Беседую я с вами, можно сказать, из чисто гуманных соображений. Отец Теодор попросил: «Жаль, Рышард, он пропадет. Заглотит ведь сразу два острых крючка».
– Сплошные гуманисты вокруг меня! – засмеялся Фишбейн.
– Нет, не скажите! Я, например, очень злой человек. Кусаюсь я! Ух! Хотя вот и ростом не вышел, да злой! Но может быть, именно от маленького роста я такой злой. Говорят, что у маленьких мужчин – комплекс неполноценности и они мстят окружающим. Я уж столько понаделал всякого в жизни – и хорошего, и совсем гадкого, – меня ничем не удивишь. Есть две вещи на свете, которыми я дорожу: мои детки и дружба с отцом Теодором. Я учусь у него.
– Чему? – Фишбейн выкатил на карлика воспаленные глаза.
– А что? Интересно? – с некоторым ядом в голосе спросил Кайдановский. – Еще бы! Живет человек, почти старик, с помешанной калекой, на очень скромные деньги и не жалуется! Действительно ведь непонятно, как это он не жалуется?
– Я никому из вас не верю, – сказал Фишбейн. – Мне наплевать на все, что вы сейчас говорите.
– А я вас и не прошу мне верить, – пожал плечами Кайдановский. – Глупая вещь: верить посторонним людям. Если собственному мужу или жене нельзя верить, то как можно верить любовнику, например? Или любовнице?
– Почему вы сказали «любовнице»? – У Фишбейна сел голос.
– Да бросьте ломаться! – с досадой сказал Кайдановский. – Мы с отцом Теодором отлично понимаем, как ловят людей. На клубничку, на сладкий мед. А как же еще? Деньги вам не нужны.
– Ну, все. Я пошел. – Фишбейн сгреб книги в кучу и встал. – С меня вроде хватит.
– Садитесь, – звонким шепотом приказал ему Кайдановский. – Садитесь и давайте рассуждать здраво: почему вы так уверены, что эта женщина не была к вам подослана?
– Вы что? Вы рехнулись, наверное? – тоже шепотом ответил Фишбейн, чувствуя, что сейчас вцепится в горло этому маленькому, полному яда существу.
– Я совершенно здоров психически, – холодно отреагировал Кайдановский. – Если вы мне доверитесь и расскажете, при каких обстоятельствах вы встретили в Москве свою пассию, я с точностью до ста процентов скажу вам, как обстоит дело.
Фишбейну стало весело, как будто ему вспрыснули что-то под кожу или дали понюхать веселящего газа.
– Знаете, мне с вами даже забавно. Вы странным образом поднимаете настроение. Я, пока вы не пришли, почти засыпал, а теперь – ни в одном глазу!
– Так вы мне расскажете?
– Да, расскажу. Я ждал поезда на вокзале. Хотел удрать в Ленинград. Ленинградский поезд подошел, и она спрыгнула на перрон со своим чемоданчиком.
– Ах вот что? – вдруг заинтересовался Кайдановский. – Не в гостинице, не в ресторане, не на улице? Не в театре, не на концерте, не в парке?
– Да я же сказал вам: ждал поезда.
– Вы кому-нибудь говорили, что собираетесь в Ленинград?
– Кому? Я сам ведь не знал.
– Это другая история… – пробормотал Кайдановский. – Вернее сказать, это может оказаться совсем другой историей. И вы влюблены?
– Да, я очень влюблен, – спокойно ответил Фишбейн, чувствуя сильную усталость от этих расспросов.
– Но мы-то с отцом Теодором думали, что вы один из многих, которые просто попались. А поскольку мы с ним еще в Аргентине привыкли прочищать людям мозги… Там тоже ловили таких простаков. Он вам говорил?
– Говорил.
– Поработайте у нас. Это, может быть, приоткроет для вас щелочку в Россию.
– Что именно мне приоткроет щелочку? Работа на враждебной Союзу радиостанции?
– Никогда нельзя знать. Вы, конечно, очень мелкая сошка, мистер Фишбейн-Нарышкин, но на вас, как на червяка, можно поймать рыбу покрупнее. Вами интересуются оба ведомства. И русские, и мы. Przystojny facet!
– Что это?
– Это по-польски. «Красивый парень» – вот что.
– Вы собираетесь меня превратить в наживку? В червя, что ли?
– У нее, кстати, есть дети? – не отвечая на его вопрос, спросил Кайдановский.
– Дети? – вспыхнул Фишбейн. – Нет. У нее нет детей.
– А у вас?
– У меня есть сын. И будет еще. Жена ждет ребенка.
Кайдановский весело присвистнул:
– Хорошо, когда много денег! Завидую вам.
– О чем вы?
– Ну как же без денег? Неимущий человек за голову бы схватился: один ребенок уже есть, второй будет, здесь жена, там, за железной стеной, – еще женщина. Тут уж не до чувств! А вам – зеленый свет, мистер Фишбейн-Нарышкин, вам о завтрашнем дне голову ломать не нужно.
Фишбейн покраснел.
– Хорошо, – сказал он. – Хорошо, мистер Кайдановский. Вы меня уговорили. Диссертацию я практически закончил, о деньгах беспокоиться не нужно. Всю мою подноготную вы почему-то не хуже меня знаете. Один вопрос: под какой фамилией я буду работать? Под своей?
Кайдановский замахал на него маленькими и короткими руками:
– Да боже избавь! Ваша женщина узнает вас по голосу, мистер Фишбейн-Нарышкин.
6
У директора радиостанции Билла Глейзера тяжело заболела жена, и врачи советовали ему бросить Нью-Йорк, переселиться куда-нибудь подальше – хоть в Кению, хоть на Гавайи – и заняться исключительно ею. Кайдановский, который сопровождал Фишбейна по узким коридорам радиостанции, с ненужной веселостью подчеркнул странную общность между директором Глейзером, Фишбейном и Ипатовым.
– Забавная штука, дорогой Фишбейн-Нарышкин, что при всем разнообразии испытаний, обрушенных на голову бедного человека с покон веков, Бог иногда завязывает маленькие узелочки между судьбами, очень похожие узелочки, а люди этого почти не замечают. Вот у отца Теодора супруга уже двенадцать лет почти не встает с инвалидного кресла, и отец Теодор служит ей, как серый волк в русской сказке, а у мистера Глейзера, которого я уважаю всей душой, – это непростой человек, но его добродетели уравновешивают его грехи, – у мистера Глейзера супруга заболела душевно по странной причине. Состарилась и пережить этого не смогла. А вы, мой друг, вы вдруг умудрились влюбиться так сильно, что больно смотреть на вас. Biedny![5]
– Что это вы сказали? – перебил его Фишбейн. – Она заболела от того, что состарилась?
– Ах, это бывает. Матка Боска, чего не бывает! Была красивая женщина. Perfekcija![6] Такая красавица, что побоялась завести ребенка, чтобы не испортить фигуру. И вдруг постарела. Сначала, наверное, толком и не поняла, что произошло. То все вокруг умирали, проходу не давали, то стали отдаляться. Она, моя душенька, села к зеркалу и давай в него смотреться часами. Но ведь ничего не помогает, дорогой мой Нарышкин! Тогда она стала пить. Спиваться. Билл, я имею в виду мистера Глейзера, начал прятать спиртное, нанял прислугу, чтобы глаз с нее не спускала. Но он же занят! У нас тут война двух миров! – Карлик радостно потер свои короткие ручки. – Женский алкоголизм не лечится. Да она и не признает, что больна. Ну, мы пришли. Вот его кабинет. Он ждет вас. Сейчас все увидите сами.
Фишбейн, постучавшись, приоткрыл дверь в большую, хотя немного обшарпанную комнату. За столом сидел окутанный плотным табачным дымом старый, но еще крепкий, с мощно развитой грудной клеткой человек, глаза которого быстро сменяли выражение затравленности на холодную, почти брезгливую непроницаемость.
– Нарышкин? – по-русски, но с сильным английским акцентом спросил Билл Глейзер. – Рад познакомиться. Мне Кайдановский сообщил, что вы можете взять на себя музыкальную программу. Это не бог весть как тяжело. Две передачи в неделю. Мы платим прилично.
– Цель моей работы на вашем радио одна, – решительно сказал Фишбейн, внутренне сжимаясь от этих ставших почти ледяными глаз. – Мне нужно получить визу. Почему работа на радиостанции поможет мне в этом, я не понимаю.
– Поймете, – кивнул Глейзер. – Мне донесли, что у вас личные причины для поездки. Вы нас простите, но мы собираем досье на сотрудников.
– Это я понял, – стараясь сдержаться, сказал Фишбейн. – Мне казалось, что в Америке придерживаются других правил.
– Правила везде одни, – забегав внезапно обезумевшими глазами, буркнул Глейзер. – Потом все поймете.
– Вы мне можете объяснить, – рот у Фишбейна наполнился кислой слюной, – почему я вдруг стал таким популярным?
– Подождите! – перебил его директор радиостанции. – Сейчас четверть первого. Жена ждет моего звонка.
Он быстро пододвинул к себе телефон и прыгающими пальцами набрал номер.
– Девочка, ты? Уже вызвала машину? Через сколько? Через пятнадцать минут? Я спускаюсь.
Он испуганно посмотрел на Фишбейна.
– У меня через пятнадцать минут свидание с женой. Мы обычно обедаем здесь, неподалеку, в одном тихом китайском ресторанчике. Там отличную рыбу готовят. Не хуже, чем готовила моя бабушка, которая приплыла в Нью-Йорк из Одессы в девятьсот третьем году. От нее я и знаю русский язык. О чем это мы? Ах да! О том, что вы хотите поехать в Россию. Они впускают к себе только аспирантов русистов и деятелей культуры, прокоммунистически настроенных. Меня, например, никогда не впустят. Но я и сам бы никуда не поехал. А вас могут впустить. Как деятеля культуры. Это раз. Но и не только поэтому. А потому что вы попались на женщину и не хотите расставаться с ней надолго. А может, и жениться на ней хотите. Лицо у вас какое-то отчаянное. Поэтому из вас можно вить веревки. Вы следите за моей логикой, мистер Нарышкин?
Он нервно взглянул на часы. Глаза опять стали рыбьими, безучастными.
– У меня свидание с женой, – спохватился он. – Это очень важно, чтобы она не обедала одна. – Глейзер подозрительно покосился на Фишбейна. – Я не могу вас пригласить с собой обедать, Нарышкин. Я очень дорожу этим временем с ней.
– Вы разве живете не вместе? – не удержался Фишбейн.
– Мы вместе живем, – спокойно ответил Глейзер. – И спим в одной кровати. Как, впрочем, и вы. Разве нет?
Фишбейн багрово покраснел и промолчал.
– Вы хотите взять на себя музыкальную программу? – вдруг снова задергался Глейзер. – Тогда Кайдановский вам все объяснит. Честно говоря, не знаю, что я бы делал без него. Хотя он меня продает на каждом шагу.
– Что значит «продает»? – У Фишбейна округлились глаза.
– Если бы не он, никому бы и в голову не пришло, что я собираюсь оставить свой пост и уехать. А теперь об этом знают все, и каждая секретарша прочит себя на мое место. А я вот возьму и останусь! И с Нэтэли все тоже будет в порядке. – Он подошел к окну. – Ах, боже мой! Вот и она! Ну, все. Мне пора. Не грустите, Нарышкин.
Они вместе вышли в коридор, и Глейзер сразу бросился к лифту. Фишбейн начал спускаться по широкой лестнице и на первом пролете посмотрел в окно. Он увидел выскочившего из подъезда директора радиостанции, к которому неуверенной походкой приблизилась очень высокая и очень тонкая женщина в дорогом белом с черным костюме и в черной шляпе с такими большими полями, что лица ее почти не было видно. Он догадался, что это и есть Нэтэли Глейзер. Директор взял жену под руку и вдруг отшатнулся. Из-за шума и гудков Фишбейну не было слышно, что он говорит, – к тому же дело происходило на улице, а он стоял на третьем этаже, – но по разгоряченному лицу директора и по тому, как он размахивал руками и кипятился, можно было понять, что он за что-то выговаривает жене и не владеет собой. Дорого одетая Нэтэли Глейзер топнула худой ногой и быстро повернулась, чтобы уйти, но тут же остановилась, схватившись за локоть мужа. Фишбейну хотелось разглядеть ее, и, словно почувствовав это, она закинула голову, так что поля шляпы уже не заслоняли ее лица. Фишбейн увидел бледный покатый лоб, сильно нарумяненные щеки и огромные, удлиненные к вискам карие глаза. Когда-то это лицо, наверное, притягивало к себе как магнитом, им любовались, ему жгуче завидовали. Сейчас, напудренное, накрашенное, с горячим страдальческим блеском в глазах, оно говорило о том, что уходит, кончается, гаснет, оно умирало, и не было средства спасти его, не было средства помочь. Ее слишком элегантная и старательная внешность не вызывала ничего, кроме жалости, и по тому отчаянно-резкому жесту, которым она закинула голову и устремила глаза в пустоту, было видно, что она живет не так, как живут остальные люди, а в долгой тяжелой агонии, которая давно должна была бы убить ее, если бы рядом не было человека, насильно вытягивающего ее обратно в ту действительность, которая не вызывала у нее самой ничего, кроме страха и отвращения. Директор радиостанции, как догадался Фишбейн, почувствовал запах спиртного, как только жена подошла к нему, и это и вызвало сцену. Глядя на них с третьего этажа, Фишбейн вдруг почувствовал, что знает этих людей давным-давно, еще, наверное, до своего рождения, так же, как до рождения он, вероятнее всего, знал и старика Ипатова, и Нору Мазепу, уютно устроившуюся в инвалидном кресле, которое муж ее плавно катил от синей воды прямо к синему небу.
«Что это за deja vu? – подумал он. – С ума я схожу, черт возьми!»
В Центральном парке уже наступила осень. Едва уловимая зыбь стояла в воздухе и терпко, с раздирающей сердце тоскою, пахло увядшими цветами. В прозрачном, насквозь освещенном небоскребе быстро взмыл лифт, наполненный черными фигурками людей, зачем-то стремящихся вверх, и Фишбейну показалось, что эти люди, которых он видит, опустившись на краешек скамейки рядом с ярко-желтой бабочкой, боятся того же, чего так боится и он: безнадежности. Страх остановиться гонит людей по кругу, и только скорость, пусть даже и мнимая, приводит их к неуравновешенному и ломкому согласию с собой.
Эвелин менялась на глазах. Лицо ее округлилось, ноги и руки налились яблочным соком. Несмотря на то что беременность не насчитывала еще и трех месяцев, в походке появилась размеренная и осторожная плавность.
– Ты знаешь, мне снятся какие-то сны, – сказала она. – Такие, что и просыпаться не хочется.
– Хорошие?
– Не то что хорошие. Сильные, яркие. Сегодня мне снилось, что мама вернулась и ищет меня. И я объясняю, что – вот я, жива, сижу на диване. Она идет мимо, такая тревожная, не видит меня. Но здоровая, бодрая…
Фишбейн молча поцеловал ее в щеку.
– Герберт! – засмеялась она. – Ты тоже как будто во сне. Я даже не знаю: ты слышишь меня?
– Конечно, я слышу. Что доктор сказал?
– Скорее всего, будет дочка, сказал. Ведь правда приятно?
– Еще бы. – Он вздрогнул всем телом.
7
На радиостанции кипели страсти, как это обычно бывает во всяких подобного рода местах, где люди, чувствуя свою зависимость от работы, живут так, как будто к ногам их привязаны тяжести, но при этом они должны не только делать вид, но верить, что служат во имя идеи, а все остальное – уж как получается. Сотрудников было много, каждый боялся сокращения, и поэтому все с тревогой следили за трагедией в семье директора Глейзера, боясь, что если он не выдержит и бросит все, – уедет на Гавайи или в Кению по совету психотерапевта, вот уже третий год выкачивающего деньги из его кармана, то всем будет хуже. Каким бы ни был Глейзер – хорошим, плохим, взрывным, равнодушным, уставшим, кусачим, – но он знал свое дело, а главное, прекрасно чувствовал, откуда и куда дует ветер. Несмотря на то что репутация у радиостанции считалась откровенно антисоветской, в конце октября самому директору дал очень откровенное интервью молодой стажер Колумбийского университета аспирант Арабов Владимир Егорович, приехавший из Москвы в целях повышения квалификации и ознакомления с американской действительностью. В этом интервью директор Билл Глейзер тряхнул, как говорится, стариной и, выбрав самый низкий, вязкий и одновременно шелковистый тембр, сообщил своему собеседнику, что, несмотря на то что его, директора Глейзера, дразнят «дистиллированной водой», он и впредь намерен бороться за сбалансированность информации и категорически не приветствует тех ведущих, которые берут чью-то сторону и сбиваются на саморекламу.
– Вот, например, полгода назад в одном из провинциальных русских городов произошло смешное недоразумение: неопытный радиотехник по ошибке врубил нашу программу, и весь город, то ли Волоколамск, то ли Владимир, не помню, три часа слушал нашу радиостанцию!
Арабов Владимир затрясся от смеха.
– И что вы думаете? – с мягкой и притягательной улыбкой продолжал директор Глейзер. – Ведь ничего, ровным счетом ничего не случилось! Войны не началось, никто не умер, никто даже насморком не заболел!
– Насморком, может быть, и не заболел, но чья-то голова с плеч слетела, – шутливо, в тон ему, ответил Арабов.
Все отлично знали, что Арабов приехал из Москвы на стажировку не один, а со своим бывшим однокурсником и тоже аспирантом Ветлугиным Петром, и каждый из них присматривает за другим, чтобы кому надо сообщать о результатах этого своего, так сказать, ненавязчивого присматривания. То, что Арабова пригласили на интервью с директором радиостанции, больно задело Ветлугина Петра, который тоже был человеком свободных взглядов и считал себя другом катившейся в пропасть Америки. Возможно, именно по этой причине и не желая оставаться за бортом истории, Петр Ветлугин и подошел очень раскованно и дружески к Фишбейну и сообщил, что ему очень понравилась последняя музыкальная передача. Событие, о котором живо и воодушевленно рассказал в этой последней передаче Фишбейн, было действительно из ряда вон выходящим: в прекрасный и теплый ноябрьский день на Рузвельт-авеню состоялось выступление знаменитой ливерпульской четверки «Битлз», причем не в концертном зале, а прямо на стадионе «ШИ», который буквально ломился от зрителей. Зрителей, то есть тех счастливчиков, которым удалось купить билеты на это историческое событие, было почти шестьдесят тысяч человек. Лохматые парни наскоро пропели двенадцать самых знаменитых своих песен и через сорок минут были увезены на бронированном автобусе в неизвестном направлении.
Стажер Петр Ветлугин расспрашивал нового сотрудника радиостанции Герберта Фишбейна, что он думает о музыкальной поп-культуре, которая, по мнению Ветлугина, должна в скором времени сожрать всю мировую классику и выплюнуть косточки. Фишбейн отвечал как умел, но при этом, глядя в живые янтарные глаза Петра Ветлугина и на его обмотанную красным шарфом шею, думал, что этому типу, наверное, ничего не стоит в любой момент улететь обратно в Россию и там, в величавом, заснеженном городе случайно увидеться с Евой. В планы Ветлугина Петра не входила вербовка нового сотрудника радиостанции, поэтому он разговаривал с Фишбейном от чистого сердца, почти по душам.
– Я, вы знаете, даже как-то беспокоюсь, – с неподдельным энтузиазмом сказал аспирант Ветлугин. – Беспокоюсь, что наша молодежь останется без правильной информации о тех процессах, которые идут в музыке.
– Так вы не глушите им нашу программу, – засмеялся Фишбейн.
– Да, да! – согласился Ветлугин. – Глушить, разумеется, нужно, но в меру.
– Я в третий раз подаю на визу, – с отчаянием сказал Фишбейн, – и мне отказывают. Почему? Я просто турист. Что во мне интересного?
– На Родину тянет? – потуже обматывая шею красным мохером, поинтересовался Ветлугин. – Зачем вам туристом? Езжайте с рок-группой.
– Никто не зовет, – сказал мрачно Фишбейн.
– Вот это большая, большая ошибка! – воскликнул Ветлугин. – Будет съезд ВЛКСМ, и я поставлю вопрос ребром: если мы не хотим, чтобы наша молодежь проявляла нездоровый интерес к культуре Запада в ущерб своей родной национальной культуре, она должна иметь широкую и объективную информацию. Тогда у молодежи будет свобода выбора. Вы согласны со мной?
– Согласен, – кивнул равнодушно Фишбейн.
В голове Петра Ветлугина созрел между тем осторожный, но полезный план: донести до сведения там, что вовсе не все лица, перемещенные в процессе истории на Запад, не оглядываются назад, то есть на Россию, и не высказывают желания как можно чаще навещать ее. А поскольку Ветлугин не смотрел на жизнь с точки зрения отдельно взятой человеческой единицы, а смотрел исключительно с точки зрения массы, группы, роты, взвода, ячейки и прочее, ему очень приглянулась мысль остаться после стажировки в Америке на какой-то неопределенный срок и самому заняться объединением этих исторически ущемленных лиц в стройную, идеологически правильную общественную группировку.
За эти четыре месяца Фишбейн получил от Евы всего два письма. У него не было ее фотографии, и постепенно память его начала какую-то почти ювелирную работу по восстановлению малейших черт ее облика, стремящихся вырваться из него и раствориться в не принадлежащем ему пространстве. Он чувствовал, что если не нащупывать внутри самого себя оттенки ее румянца в мягко шумящей от скорости полутьме вагона, запах ее предплечья, к которому он прижался губами, когда они сидели на лавочке в Летнем саду, горячее прикосновение ее колена во сне, – если довольствоваться только той общей судорогой боли и желания, которая сводила его с ума, как только он думал о Еве, то время обрушится прямо на них, обрушится яростно и хладнокровно, зальет их холодной и мутной водой, забьется песком им в глаза, уши, ноздри. Сам он по-прежнему писал ей каждый день, но знал, что она получала его письма не чаще чем раз в две недели. Ожидание, что вот-вот должно что-то произойти, не покидало его, и постепенно мысль, что не ему одному выпало на долю подчинить свою жизнь женщине, вернее сказать, не он один так «попался», укоренилась внутри, поэтому, глядя на Билла Глейзера или думая о странной судьбе Ипатова, он чувствовал поддержку. При этом он понимал, что не обладает ни железной выдержкой Ипатова, ни лисьей изворотливостью Глейзера, которые при всей своей поглощенности страстью сохраняли независимость мужской жизни с ее чисто мужскими и твердыми поступками. В отличие от них он ежесекундно ждал чего-то, что либо поможет ему, либо потопит его окончательно, и это постоянное ожидание, составленное из внешней неподвижности, неизменности и одновременно мучительно неостановимого движения внутри всего его существа, привели к тому, что по нему словно бы все время проходил электрический ток, – не той силы, которая сразу убивает человека, а той, которая приводит к незаметному для окружающих сокращению мышц и ослаблению дыхания.
В середине ноября позвонила Бэтти Волстоун.
– Герберт, – сказала она, и он по ее голосу услышал, как Бетти улыбается в трубку своими большими сахарными губами, – помоги нам. Сделай передачу о Поле Робсоне.
– Друге великого вождя Иосифа Сталина? – машинально съязвил он. – Моего покойного учителя?
Бэтти глубоко вздохнула.
– Меня не интересует политика, Герберт. У меня дочка, которой скоро семь, два брата. Один в тюрьме, другой еще в школе. Отец Пола был нашим пастором, когда я жила в Пенсильвании. Теперь Пол сказал, что хочет помочь и мне, и всей нашей группе. Его все время приглашают в Союз, он же лауреат Сталинской премии. Сейчас вот опять пригласили.
– Он едет? – спросил ее Герберт Фишбейн.
– Да, и он собирается включить в свою программу псалмы. Так как мы, чернокожие, поем их. Мы хотели записать кусок и предложить это тебе в передачу. Ты же не только о джазе рассказываешь.
– Я могу войти в состав группы? – замирая, спросил Фишбейн. – Как спонсор, к примеру?
– Да, боже мой! Герберт! Конечно!
О Поле Робсоне ходили самые противоречивые слухи. Сын пастора прославился на весь свет, получил несколько высших образований, выучил двадцать языков, на русском говорил свободно. В Советском Союзе его носили на руках, он лично знал Сталина, гордился премией за мир, врученной ему генеральным секретарем, и с особенным чувством пел знаменитую песню: «Я другой такой страны не знаю…», вкладывая в нее глубоко личный смысл. В одном из своих интервью сказал очень прямо, что любого, кто посмеет оклеветать красную Россию, готов убить лично. Но это все мелочи ведь, чепуха: подумаешь, брякнул. Ну, погорячился. В Нью-Йорк доплыла и другая история. Давно, еще в сорок втором, Робсон Пол сдружился с советскими антифашистами: актером Михоэлсом и драматургом, поэтом, писателем Ициком Фефером. Они оказались в Нью-Йорке для сбора вещей, средств, лекарств и т. д. для Красной, воюющей с немцами, армии. И так подружились, водой не разлить: ни Волгой рекой, ни рекой Миссисипи. Прошло еще шесть лет, а может, чуть больше. Приехал Пол Робсон в Москву песни петь и тут же почувствовал, как он скучал, не видя столь долго Михоэлса с Фефером.
– Актера Михоэлса сбило машиной, – печально сказали ему. – Он погиб.
– А Фефер? – воскликнул сын пастора. – Фефер?!
А Фефер был жив, но сидел в подземелье, хотя был внештатным сотрудником Берии и тоже его, стало быть, верным другом. Ах, грязь это, грязь – человечьи дела! Копнешь чуть поглубже и – нате вам: черви! Ну что бы там розам лежать да фиалкам? Итак, заложивший Михоэлса Фефер сидел на Лубянке, где бедного Фефера пытали и били. Некстати приехавший друг из Нью-Йорка, не то по наивности, свойственной в целом народу, еще не забывшему рабства, не то в романтизме борьбы за свободу и мир во всем мире, пристал хуже пиявки: «Желаю увидеться с Ициком Фефером!» Желаешь – пожалуйста. Надели на Фефера новый костюм, запудрили ссадины и привезли. И начался странный у них разговор. Конечно же, Фефер на что-то надеялся, когда говорил вслух одно, а сам все строчил на листочке бумаги ужасную правду: убили Михоэлса, сам он в тюрьме, костюму не верь, ничему здесь не верь, все антифашисты в тюрьме, ждут расстрела. Потом разорвал окаянный листочек и лично отправил его в унитаз. Пол Робсон, обнявший сутулого Фефера, почти разрыдался, шепнув, что поможет. На этом простились у самого лифта. А вечером в Зале Чайковского мощно гремел бас борца за свободу и мир. Он пел на английском, на русском и идише. Но все, что на идише, он посвятил погибшему другу актеру Михоэлсу. И в зале ему долго хлопали. Похлопали и разошлись. Пол Робсон, уставший, поехал поужинать и ночью заснул, но кошмарные сны терзали его, не давая покоя.
Сначала приснилась пустыня: песок, белесое небо и снова песок. Он гол и измучен. Куда он идет, ему не известно. Идет и идет. Потом слышит голос:
– А вот и ты, Пол!
И видит: Михоэлс, живой-живой-невредимый
– Постой! – говорит ему голый. – Ведь ты, – мне Фефер сказал, – был убит?
– Убит был не я, это Фефер убит. К тебе привели мертвеца, он солгал. Но он и при жизни лгал, Пол. Он боится. А мы продолжаем бороться за мир, за братство народов, за наших детей, которые жить будут при коммунизме.
– Мой дед был рабом, – говорит ему Пол. – У нас черным людям не так, как у вас. Река Миссисипи – большая река, но я не хозяин ей. Нет, не хозяин.
– Вот это ты так и скажи им всем, брат. Приедешь в Нью-Йорк и скажи им: полей у нас очень много, лесов еще больше. Мы ходим по ним, но они необъятны. Я должен спешить. И запомни, мой брат, что Фефер – мертвец и всегда был – мертвец. Где эта бумажка проклятая, Пол?
– Да он ее сразу спустил в унитаз!
Михоэлс захлопал в ладоши.
– Спустил? Ну, видишь? Я прав. Заметает следы! А ты и поверил ему, бедный Пол? Евреи и негры наивны, как дети. Поэтому мы будем вместе держаться и вместе бороться за мир во всем мире.
Михоэлс пожал ему руку. Рука была невесома, прозрачна и вдруг растаяла в воздух вместе с актером.
Пол Робсон проснулся в холодном поту. Блестели кремлевские звезды на небе. Одни эти звезды и знали всю правду.
Теперь уже никто и никогда не восстановит действительного хода событий: то ли великий певец, сын пастора, не поверил напудренному и подрумяненному Ицику Феферу, привезенному к нему в «Метрополь» прямо с Лубянки, а поверил странному своему сновидению, – что тоже случается в яркой среде певцов, драматургов и прочих художников, – а может быть, кто-то ему и шепнул, что если живешь в «Метрополе» и к завтраку тебе подают блины с черной икрой, шампанское, ягоды в сахарной пудре, то лучше забыть про сутулого Ицика. Тем более что Ицик, может, и врал.