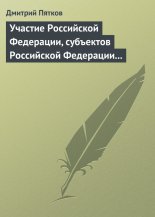Имя женщины – Ева Муравьева Ирина

Вернувшись в Нью-Йорк, чернокожий певец всей мощью обрушился на негодяев, лжецов и прислужников капитализма, которые сеют вокруг клевету и только мешают рабочему делу.
Теперь Пола Робсона, недавнего лауреата Сталинской премии, опять пригласили приехать в Москву. Стояли последние дни ноября. Герберт Фишбейн ждал разрешения на въезд в Союз Советских Социалистических Республик. Передача, посвященная искусству Пола Робсона, прошла на радио с большим успехом. Джазовая группа в составе пяти человек и Бэтти – шестая – уже получили советские визы. Билл Глейзер купил тем временем дом в Кении и всем на радиостанции показывал фотографии этого дома с огромной открытой террасой.
– Да, да! Красота! – говорил он рассеянно. – Жена будет очень довольна. Саванна! Вокруг антилопы, слоны и косули. Есть змеи, ручные и неядовитые, их можно брать в дом, можно дрессировать. Займемся хозяйством, открою там школу. Нет, это прекрасная мысль! Слава богу, что мы с ней решились.
Нэтэли Глейзер больше не приезжала обедать вместе с мужем в итальянском ресторанчике неподалеку от радиостанции, состояние ее ухудшалось с каждым днем. Кайдановский, всей душой преданный Глейзеру, жарко переживал все, что происходит в семье директора.
– Biedastwo![7] – Кайдановский морщил свое маленькое лицо с выпуклым лбом и густыми бровями. – Она спивается. Билл не покупает спиртного, в доме ничего нет, кроме воды и молока. Он оставляет ее без денег, отобрал чековую книжку. И что вы думаете? Она продала соседке все свои колечки! Пошла и продала за копейки. А та, merzavka[8], взяла! А Нэтэли спрятала деньги и ничего не сказала Биллу. Он возвращается домой, она лежит пьяная. Он ничего не понимает! Откуда же деньги на виски? В конце концов он заставил ее признаться. Матка Боска, что там творилось! Она рыдала и стояла перед ним на коленях. Конечно, он все ей простил. Но я не верю, что Африка пойдет на пользу. Она здесь, в Нью-Йорке, собак боится, а Билл думает, что ей понравятся слоны и тигры прямо во дворе! Какие слоны, Матка Боска? Я первый буду ликовать, если случится чудо! Вы меня не узнаете, такой я буду счастливый! Но здравый смысл говорит мне, что чуда не будет.
Глейзер срочно заканчивал дела.
– Я знаю, что без меня здесь все рухнет! – В глазах его вспыхивала паника и тут же гасла. – Может быть, я и вернусь через полгода. Но что я застану? Друзья мои, вы же пожрете друг друга! От вас ничего не останется!
Однажды он налетел на Фишбейна, который выходил из лифта.
– Герберт! – Директор обеими руками сжал его локоть. – Вы, конечно, еще не получили визу? Я так и думал. Опять приходил этот парень, Ветлугин. Он вами отчаянно интересуется. Они живут вместе с Арабовым, делят одну небольшую квартирку: две комнатки, гостиная общая, душ и уборная. И глаз не спускают друг с друга, клянусь! – Он вдруг рассмеялся почти что до слез. – На женщин у них здесь положен запрет. Ведь это же хуже тюрьмы! Вы согласны?
Фишбейн покраснел и поскреб подбородок.
– Вы знаете, Герберт, про наше несчастье? – Директор вдруг словно решился на что-то. – Она у меня заболела, Наталья! И, знаете, что послужило причиной? Да врете вы, Герберт! Как это «не знаете»? Все знают, а вы что? Оглохли, ослепли? Но я вам больше скажу, чем другим. Потому что вы чем-то похожи на меня самого. К сожалению. Все думают, что я сделал большую ошибку, Герберт. А я думаю наоборот. Может быть, такие, как вы и я, выпивают чашу жизни и смакуют каждую ее каплю. Видите, как я поэтично выражаюсь? – Он опять рассмеялся до слез. Фишбейну показалось, что сегодня пьян сам директор. – Вы думаете, что я выпил? – зорко поглядел на него Глейзер. – Нет, Герберт! Не выпил, а пьян! И пьян я всю жизнь. И вы поймете почему. Никто бы не понял, но вам объясню. Потому что я страстно вожделел одну-единственную женщину. Понимаете? Нет? У меня было много баб, но это – как у всех, это чепуха. У вас их, наверное, тоже было немало? Ну, бабы и бабы. И вдруг… Вы поймите! Мне тридцать восемь, и я жду поезда в сабвее. Мимо меня проходит Нэтэли. Я ее зову на русский лад «Наталья», у меня же русские корни, Герберт, мне нравится это имя. А у нее ни капли русской крови: отец – итальянец, а мать – египтянка. И поэтому такая немыслимая красота! Немыслимая, невыносимая! Вы ведь ее видели?
Он подозрительно замолчал. Фишбейн торопливо кивнул головой.
– Да, немыслимая красота! Нефертити! Нет! Какая, к черту, Нефертити! У той уши оттопыренные, вы помните? А эта… – Директор безнадежно махнул рукой. – Она прошла мимо меня, и я пошел за ней. Через три месяца я на этой красоте женился. Вы чувствуете, как это страшно? Это жутко, вы мне поверьте! Я… – Он понизил голос и оглянулся. – Я обладал этой красотой много-много лет. Каждый день. Была какая-то жизнь, все куда-то бежали, дрались, шла война. Вы понимаете, Герберт? Война! Денег было в обрез, я работал в двух газетах сразу, мой русский язык пригодился. Но я не хочу, я не собираюсь рассказывать вам свою биографию! Каждую ночь я ложился с женщиной, которую не переставал вожделеть ни на минуту! Вы слышите меня? Поверьте мне, Герберт, это самое страшное, что может случиться с человеком! Потому что вся его остальная жизнь, кроме этой женщины и этого зверского к ней вожделения, не имеет почти никакого значения! Я притворялся, что мне нужно то же самое, что нужно остальным людям. Да, именно так! Я очень хорошо притворялся! И никто меня не раскусил! Может быть, только Кайдановский, но он хитрюга и сплетник. Она спросила меня: «Ты хочешь детей?» Она несколько раз задавала мне этот вопрос. И я каждый раз отвечал правду. Что мне никого и ничего не нужно, кроме нее. Да, я был пьян! Можно сказать, что я прожил целую жизнь под наркотиком! Можно и так! Что это вы побледнели?
– Да нет, ничего, – пробормотал Фишбейн. – Вспомнил один свой опыт…
– С наркотиком? – откликнулся Глейзер. – Похоже, похоже! Потому что перестаешь соображать, ничего не боишься и всех любишь. Впрочем, я терпеть не могу наркотики. Вы, я думаю, тоже? Таким, как мы с вами, они ни к чему.
– Так это вы не хотели детей? – спросил Фишбейн.
– Ну, я не хотел. И она не хотела. Мы были мучительно счастливы вместе, мучительно! Вы знаете? Счастье всегда ведь мучительно. Иначе оно и не счастье, а так…
Фишбейн кивнул.
– Да не кивайте вы! – вдруг разозлился директор. – Ничего вы не понимаете! Через сколько-то лет, – двадцать или тридцать, много лет! – она начала меняться. Что-то с ней произошло. – Глейзер замолчал. – Пойдемте ко мне в кабинет, я не хочу, чтобы нас кто-нибудь услышал.
Они вошли в прокуренный директорский кабинет, и Глейзер плотно закрыл дверь.
– Она заметила, испугалась, стала беспокоиться и очень много времени уделять своим прическам, косметике, туалетам. Я уже хорошо зарабатывал и старался, чтобы ей на все хватало. В нашей жизни появилась какая-то тень. Мы оба чувствовали эту тень, но каждый скрывал ее от другого. Но главное не в этом. – Он быстро вскочил и легко, как мальчик, прошелся по комнате. – Главное в том, что мои физические возможности – вы понимаете, о чем я? – они уже не были прежними. И это ужасно! Это было еще ужаснее, чем ее угасание. И она соединила в своем сознании две эти вещи, понимаете? Она соединила свое старение – хотя кто же назовет ее старухой? – и эту мою проклятую слабость, мой страх, что я уже не тот, каким был все эти тридцать с лишним лет нашей с ней жизни! Мы стали обманывать друг друга. Я был настолько напуган тем, что ничего не получится, что начал допоздна засиживаться то за письменным столом, то за телевизором, хотя раньше набрасывался на нее, как только переступал порог нашей квартиры… – Он слегка задохнулся. – Теперь я ждал, пока она заснет, и тогда осторожно ложился рядом и гасил лампу. Несколько раз я просыпался от того, что она плакала. Она давилась слезами, а я делал вид, что сплю и ничего не слышу. Вдруг оказалось, что мы совсем не так близки, как я думал. Ни один из нас не признавался другому в том, что с ним происходит. Вы понимаете, Нарышкин, что это ад? Это ежедневный, ежесекундный ад! Какая, к черту, радиостанция, политика, холодная война, теплая война? У каждого человека свой ад и свой рай и свой конец света – вот это я понял! Нету общего рождения и нету общей смерти! То есть, может быть, есть и то и другое, но это вопрос одновременности, вы слышите меня? Чисто технический вопрос! А общего нет ничего. Если сейчас рухнет этот потолок и прихлопнет нас с вами, то вы умрете своей смертью, а я своей!
Он опустился на стул и уставился в одну точку. Фишбейн молчал.
– Ну, дальше вы знаете. Все знают. Наталья пристрастилась к спиртному, и это переросло в болезнь. Я хочу увезти ее из Нью-Йорка, и у меня есть надежда. – Директор понизил голос почти до шепота. – Там, в Кении, никто не будет знать, какая она была прежде. Это первое. И там ко мне, может быть, вернется моя сила. Кто знает? Пойду к колдунам, пусть помогут.
Фишбейн понимал, что перед ним сидит конченый человек, и больше всего его удивило то, что при всех сплетнях о жизни директора, при всех разговорах, бушующих на радиостанции, никто до сих пор и не понял, что Глейзер – конченый человек. И Кения им не поможет.
– Вы точно получите визу, – вдруг сказал Глейзер. – Если Робсон включил вас в свою команду, они не откажут. Все это одна большая и нечистоплотная игра, Нарышкин. Уж кто-кто, а я-то знаю.
8
Визу принесли вместе с утренней почтой. Стараясь ничем не выдать своего волнения, от которого у него сразу похолодели руки, Фишбейн поднялся на второй этаж в спальню, удивляясь, что Эвелин еще спит, хотя было почти одиннадцать. Теперь нужно было спокойно и весело сообщить ей, что он едет в Россию вместе с джазовой группой и Полом Робсоном. Она удивится, что муж не посвящал ее в свои планы, но тут нужно будет отговориться тем, что получение въездной визы – это чистая случайность, для него самого неожиданная. Он и не думал об этом всерьез. Диссертация почти дописана, и защита докторской степени назначена на шестнадцатое декабря.
Эвелин не спала, а была в ванной. Он услышал ее тихие стоны и ровный звонкий шум льющейся воды. Потом она выключила воду и приоткрыла дверь.
– У меня кровотечение. Звони доктору!
Фишбейн почувствовал, что он превращается в шевелящуюся груду чего-то раздавленного, бесформенного и отвратительного самому себе. Он бросился к телефону, и, пока глаза его лихорадочно искали в справочной книге фамилию доктора, внутри поднялась волна страха: теперь он не сможет уехать отсюда.
– Не бойся! – сказала жена. – Ведь это так часто бывает. Мне нужно, наверное, лежать. Вот и все!
Набирая номер, он подумал, что, если бы сейчас кто-нибудь увидел то, что у него внутри, любому бы стало неловко и гадко.
Доктор сказал, что нужно немедленно вызвать «скорую» и ехать в больницу.
– Спросите у вашей жены, когда это началось.
– Эвелин, – спросил он, – когда это началось?
Она была бледна, черты ее лица резко заострились. Стояла, завернутая в огромную махровую простыню, под ногами ее, по белому кафелю ванной, расплывалось кровавое пятно.
– Я точно не знаю. Я, может быть, не сразу почувствовала. Я очень крепко спала. Не бойся, родной мой!
– Сейчас приедет «скорая», – сказал Фишбейн. – Я уже вызвал.
– Ты только будь все время со мной, – попросила она, всхлипывая. – Прошу тебя: только никуда не уходи.
– Куда я уйду?
«Скорая» приехала через несколько минут. Кровотечение усилилось. Два огромных санитара, осторожно, приговаривая «That’s O.K. Don’t worry»[9], положили Эвелин на носилки и бережно перенесли в машину. Один из них сел рядом с шофером, а другой вместе с Фишбейном поместился на маленькой лавочке рядом с носилками. Эвелин сжала его руку и зажмурилась:
– Мы не дадим ей погибнуть.
Слезы текли по ее щекам. Она слизывала их и проглатывала.
– Кому? – спросил он.
– Нашей дочке. Она будет похожа на тебя. Она будет!
– Конечно, будет. Не волнуйся, моя радость.
Она улыбнулась сквозь слезы. Огромный рыжий санитар, скорее всего ирландец, деликатно отвернул голову.
– Герберт! – прошептала Эвелин. – Я не боюсь смерти. Мама не боялась и меня научила этому. Но я знаешь чего боюсь?
– Чего? – пробормотал он, догадываясь, что она сейчас скажет.
– Я боюсь только обмана. Мне иногда казалось, что ты обманываешь меня. – Она опять зажмурилась и судорожно проглотила лившиеся слезы. – Я знаю, что не права! Я глупая, дикая, я старомодная! Требую от тебя невозможного и сама понимаю это. Я очень вас люблю: тебя и Джонни. Ты только поверь мне и никогда не сомневайся. – Рыдания послышались в ее шепоте, и санитар укоризненно покачал головой.
– Эвелин, – сказал Фишбейн деревянным голосом, – прошу тебя, успокойся. Тебе нельзя сейчас так нервничать.
– Но если я не скажу тебе сейчас, я уже никогда не скажу! – Она еще крепче сжала его руку. – Ведь мы так боимся быть до конца откровенными! Мы все так боимся друг друга!
Он остался ждать в приемном покое, ее увезли. Прошло минут двадцать. Толстая чернокожая медсестра с огромной грудью, в голубом больничном халате и таком же голубом высоком чепце, вышла к нему и попросила подняться вместе с ней на третий этаж.
– She’s gonna be fine[10], – с южным акцентом сказала она. – She’s gonna be fine.
Эвелин лежала под капельницей. Глаза ее были закрыты.
– Холодно, – тихо сказала она, не открывая глаз. – Попроси, чтобы меня чем-нибудь накрыли.
Медсестра принесла подогретое тонкое одеяло и набросила его на Эвелин.
– You gonna be fine, – сказала она. – The doctor is coming again. He is checking your blood work[11].
Пришел доктор, совсем молодой, с кирпичным румянцем. Откинул одеяло, пощупал живот и нахмурился.
– Кровь пока в норме. Но двенадцать недель – самое опасное время для выкидыша.
– Да. Я знаю, – прошептала Эвелин.
– Я не могу гарантировать, что кровотечение не возобновится. Вам придется полежать у нас дня три. И потом, если все будет в порядке, мы вас отпустим домой, но ничего не поднимать, не двигать, не бегать, не суетиться. Сколько вашему сыну?
– Три, – ответил Фишбейн. – Три года и два месяца.
– Ни в коем случае не поднимайте ребенка.
– У него папа есть, он будет его поднимать, – слабо улыбнулась Эвелин.
– Вашу жену сейчас переведут в палату. Вы пойдете с ней? – спросил доктор так, словно он не сомневался в ответе Фишбейне.
– У меня есть кое-какие дела, – пробормотал Фишбейн. – Я отлучусь на пару часов и потом вернусь.
Доктор удивленно посмотрел на него. Бледное лицо Эвелин ярко вспыхнуло от стыда.
– Какие дела? – прошептала она.
Ему не хотелось ничего другого – только остаться одному. Остаться одному и напиться так, как он не напивался с тех пор, как вернулся из Москвы. Нет, это неправда. Один раз он все же напился – от счастья. Когда вдруг получил первое письмо от Евы. От невыносимого счастья, с которым не смог даже справиться. Он никуда не полетит, останется дома, в Нью-Йорке, будет присматривать за Джонни, следить, чтобы Эвелин не поднимала ничего тяжелого, не бегала, не суетилась и сохранила ребенка, который окажется только помехой к тому, чтобы… Он стиснул зубы. Ребенок. Его плоть и кровь. А вот перевесила женщина. Не плоть и не кровь. Тогда что?
Эвелин опять закрыла глаза. Слезы ее высохли, и на лице появилась та самая жесткая складочка, которая была у ее матери.
– Родная моя, – пробормотал он тем же деревянным голосом, который с бессмысленным упорством рождали его голосовые связки. – Я должен предупредить, что не смогу полететь в Москву, и попросить, чтобы все отменили: билеты, гостиницу…
– В какую Москву? – Раскрывая глаза так широко, что их потемневшая голубизна плеснула прямо ему в лицо, и он не успел увернуться. – Ты что, улетаешь в Москву?
– Я не успел сказать тебе, потому что это был только план, в осуществление которого я ни секунды не верил. И вдруг сегодня пришла виза из советского посольства…
Он оборвал свое бормотание. В ее неподвижно устремленных на него глазах было новое выражение. Это было выражение тихого безнадежного презрения, как будто удар, только что обрушенный на нее, не стоил ни злобы, ни упреков, ни даже боли, и только презрение, безысходное, само себя несущее презрение, и было ответом на то, что он сделал с ней.
– Не нужно ничего отменять, – хрипло и медленно сказала она. – Мне будет даже легче без тебя. А няня поживет у нас. И Барбара в любую минуту готова приехать помочь.
– Ты не поняла меня! – Он схватился за голову. – Откуда я мог знать, что мне пришлют визу? Откуда я мог знать, что у тебя будет кровотечение?
Она покачала головой, словно ей было трудно слышать его голос, и снова закрыла глаза.
– Я вернусь к вечеру, – сказал он и, наклонившись, поцеловал ее в лоб.
Она не ответила, не отреагировала. По дороге в «Белую Лошадь» он попросил таксиста остановиться у здания радиостанции и подождать его. Нужно уволиться и забыть обо всем этом. Сегодня же поставить в известность Глейзера, чтобы тот подыскал ему замену. И главное – делать все быстро, скорее! Отменить поездку в Москву, помириться с Эвелин, следить, чтобы она не поднимала тяжестей. Воспитывать Джонни, защитить диссертацию. Никаких связей с Россией, никаких надежд. Но самое главное: в «Белую Лошадь» и выпить за столиком Дилана Томаса. О Еве забыть. Не судьба.
9
Его лихорадило, во рту было сухо и горько. Коридор на четвертом этаже оказался непривычно пустым. Из мужской уборной, курлыкая и напевая, вывалился Кайдановский.
– Куда вы, Нарышкин-Фишбейн? – со своей обычной веселой иронией спросил он.
– Я увольняюсь, – грубо ответил Фишбейн. – Нечего мне здесь делать!
– Да вы же в Россию торопитесь! – присвистнул Кайдановский. – А в России, знаете, о чем вас попросят?
– О чем?
– Вас попросят разнюхать… А ну, покажите свой нос! Разнюхать тайны эмигрантского движения. Всемирные заговоры, все такое… – Кайдановский заколыхался маленьким плотным телом.
– А вам все смешно, Кайдановский! Боюсь я веселости вашей!
– Меня-то чего бояться? – Засверкал зубами карлик. – Меня на Родине к смертной казни приговорили, я вполне историческая личность. Страх страху рознь. В России продолжается эпоха национальной паранойи, они боятся Запада и готовы к отпору, хотя никто на них не нападает. А Запад, в свою очередь, не знает, чего ждать от страны белых медведей, которая двадцати миллионов своих людей не пожалела, а войну выиграла, и поэтому Запад навострил ушки, наточил зубки и ждет. Ах, милый Нарышкин-Фишбейн! Нет ничего глупее политики и ничего злее, чем она. Я даже завидую Биллу, который удирает в Африку под видом того, что спасает Наталью.
– Под видом?
Кайдановский прищурился:
– Ах, он и вам наплел про свою нечеловеческую любовь? Признайтесь. Наплел ведь? Про то, как он встретил свою Нефертити? И как он был счастлив с ней все тридцать лет?
Фишбейн промолчал.
– Ну да, ну да! – замахал толстыми ладошками Кайдановский. – У нас тут даже лифтер знает про эту любовь! А то, как Билл изменял ей налево-направо, он вам, наверное, не успел рассказать? И как он от этой ее красоты куда только не убегал?! Тоже нет? А он убегал! Еще как убегал! К простым толстым девочкам. И там отдыхал на их теплых животиках.
– Он, значит, все врет?
– Зачем же вы так? – Кайдановский весь сморщился. – Кто врет? Это просто его версия. Он уверен, что рассказывает чистую правду. А у Натальи есть ее версия, и, если вы спросите, почему она хлещет виски, она вам своим итальянским пальчиком и ткнет прямо в Билла! – Он мокрыми глазками всмотрелся в Фишбейна. – А с вами-то что? Лицо у вас перевернутое.
– Жена в больнице. В Москву я не еду. Да черт с ней, с Москвой! Мне все вообще осточертело!
– Так многим осточертело, – спокойно ответил поляк. – Вы думаете люди живут потому, что у них есть потребность жить? Ошибаетесь. Они живут от страха умереть, вот и все.
– А вы?
– Я? – Кайдановский переступил с пятки на носок. – Я люблю своих хлопцев. Я вам не говорил, что у меня мальчик шестнадцати лет и мальчик восемнадцати? Moi chlopci[12]. Их мамочка бросила нас, когда Янушу было три года, а Михасю пять. Сбежала с любовником. – Он опять весь заколыхался. – Мы даже не знаем, в какой она теперь стране. Biedjastwo![13] А детки остались со мной. И вы только представьте себе, милый Нарышкин, эта лысая коротышка, этот государственный преступник – иными словами, я сам умудрился вырастить таких чудесных, восхитительных деток! – Он опять всмотрелся в воспаленное лицо Фишбейна. – Вы куда-то торопитесь, а я вас задерживаю?
– Я хотел директору сообщить, что больше не работаю, – хрипло ответил Фишбейн.
– А Билла-то нет. Поехал с Натальей к ее психиатру. Он верит мошенникам. А я бы их всех утопил с удовольствием! – Кайдановский сделал такое движение рукой, как будто запихивает кого-то под воду. – Но вам я советую: не горячитесь. К отцу Теодору сходите, поможет.
– К Ипатову? – внезапно расхохотался Фишбейн. – А вдруг и там тоже какая-то версия? Вдруг матушка Нора возьмет да расколется?! Нет, лучше напьюсь!
– То дело! Напейтесь, конечно! И я бы напился, но я не могу: ребятки обидятся.
Со вчерашнего вечера сильно похолодало, и таксист, поджидавший его у подъезда, вязаной перчаткой смахивал с машины легкий колючий снег.
– Рождество, говорят, в этом году будет белым! – радостно сказал он Фишбейну. – Я родом-то из Колорадо, у нас Рождество всегда снежное, белое. Совсем по-другому тогда на душе. А то как начнет эта слякоть «кап-кап», так просто хоть вой! А вот и снежок, хоть какой-никакой!
Место Дилана Томаса было занято, и Фишбейн сел по соседству. Официант принес ему бутылку «Блэк Лейбл», блюдо с устрицами. Он отодвинул от себя устрицы и принялся пить. Голова медленно закружилась, но сознание продолжало быть ясным и четким. Он прощался с Евой. Память о ней окружала его со всех сторон, как вода окружает остров, и по мере того как усиливается ветер, и выше становятся волны, земля уступает воде, подчиняется ей, и остров, затопленный морем, вдруг кажется зернышком. Вся жизнь, кроме нее, казалась ему теперь зернышком, зато эти дни, проведенные с нею, окутывали, обволакивали, они прожигали насквозь, и чем резче приказывал мозг его телу проститься, тем только упрямее сквозь пелену сигарного дыма сквозили то плечи, то руки ее, то глаза, то втянутый, скользкий от пота живот, который он гладил и гладил губами. Мимо его столика прошел какой-то человек, и с тою прямотой, которая бывает только во снах и никогда не поддерживается действительностью, Фишбейн узнал в нем покойного Майкла Краузе, и сразу привстал и окликнул его. К его удивлению оживший друг не только не раскрыл объятий, но отстранился от его протянутой руки с некоторой даже брезгливостью, и тут же лицо его стало другим, напомнило деда, потом мужика, который ел суп из чернины и спал на кровати Фишбейна еще до войны. Официант поддержал его за локоть, потому что привставший Фишбейн облокотился обеими ладонями о стол и грозил вот-вот перевернуть его вместе с нетронутыми устрицами и дрожащими яркой желтизной дольками лимона.
– You better not drink any more[14], – сказал ему кто-то.
Фишбейн оглянулся, и ему показалось, что это Брюханов, тот самый московский Брюханов, который подбивал его шпионить в Нью-Йорке за эмигрантами, грозит ему пальцем.
– А вы здесь откуда, товарищ? – спросил его мрачно Фишбейн. – Меня, что ли, ищете? Я вас убью.
Он говорил по-русски, и поэтому никто из присутствующих не понял того, что он сказал.
Брюханов куда-то исчез, испарился, и с того места, откуда Фишбейн только что слышал его голос, раздался тихий звон колокола. Он затаил дыхание, но никакой ошибки быть не могло: это били колокола на Петропавловской крепости, но били они еле слышно, и всем этим пьяницам, шумным, крикливым, припавшим к бутылкам, услышать их голос, наверное, было трудней, чем под снегом услышать шуршание старой листвы. Фишбейн опустился обратно на стул. Воспаленное, мокрое от слез и пота лицо его приняло почти торжественное выражение.
– Еще мне бутылку! – сказал он. – Не бойтесь! Я тут не помру, как ваш этот писатель! Допью и уеду. Дела у меня!
В половине первого ночи вызванное официантом такси доставило его к подъезду особняка на Хаустон-стрит. Фишбейн расплатился не считая, и шофер, очень довольный смятой пачкой денег, перекочевавшей в его карман из кармана ночного пассажира, ласково обняв пьяного за талию, помог открыть дверь. Фишбейн, чертыхаясь, нащупал выключатель и зажег свет. Навстречу ему по лестнице со второго этажа неторопливо спускалась кузина Виктория, высокая, сухая и тонкая, как все родственницы Эвелин по материнской линии. Делая вид, что она не замечает того состояния, в котором он ввалился в дом, кузина Виктория, блеснув кольцами, положила руку на горло и приглушенно спросила:
– Ты голоден, Герберт?
– Я пьян, а не голоден, – ответил Фишбейн. – Джонни спит?
– Давно. Он ужинал с няней, пока меня не было. Потом я его уложила.
– Как Эвелин?
– Иди к себе, Герберт, – сказала она. – У нас все в порядке. Я завтра тебе объясню, что и как.
– Не завтра! – И он пошатнулся, схватился за вешалку. – Я, может, до завтра и не дотяну. Сейчас говори!
Легкое раздражение скользнуло по ее сухому, но все еще красивому лицу.
– Эвелин разрешили вставать, она уже ходит. Кровотечение остановилось полностью.
– Я рад, – сказал он. – Значит, будет ребенок?
Виктория быстро перекрестилась, опять блеснув кольцами.
– Конечно. Врачи говорят: все в порядке. И вот еще, Герберт, ты, кажется, хочешь поехать в – Россию?
– Хотел. – Он опять пошатнулся. – Теперь не хочу.
– Мы вечером долго говорили с Эвелин по телефону, – сказала Виктория. – Никаких причин отменять свои планы у тебя нет, Герберт. Эвелин завтра вернется домой, и мы решили, что я поживу здесь, пока тебя не будет. Она сама хочет, чтобы ты поехал.
– Сама?
– Да, сама.
Какая-то странная нотка в ее голосе насторожила его.
– А ей-то зачем? – грубо спросил он, не сдержавшись.
Виктория отвела глаза.
– Эвелин просила меня сказать тебе… – Она запнулась. – Герберт, ты сейчас, может быть, не в самой лучшей форме…
– Ну что за семейка! – воскликнул Фишбейн. – Какие все сдержанные, все воспитанные! А я вот другой! Психопат, идиот! А может быть, и алкоголик! Беда ведь!
– Беда, – согласилась она. – Но что делать? С мужьями нам всем не везло. Даже мне.
Фишбейн не ответил и, обогнув ее, пошел наверх. Он не видел того, что Виктория закрыла лицо руками и постояла так, словно с открытым лицом ей было бы труднее сдержаться и не высказать ему всего, что бушевало у нее внутри.
В спальне он бросился на кровать не раздеваясь и сразу заснул. Ему казалось, что он откатывает от себя огромные, жгуче-соленые морские валы, а солнце, обведенное черной тенью, как будто бы что-то говорит ему, но он не может понять ни одного слова, потому что слова сразу плавятся и, расплавленные, горячие, цвета почти белого меда, стекают ему на затылок.
Утром он привез Эвелин домой. Она была еще очень бледна, но казалась спокойной и первая заговорила о его поездке в Россию.
– Мы же решили, что я никуда не еду, – замирая, сказал он.
– Мы ничего не решили, – возразила она. – Я зря подняла такую панику.
Он подозрительно посмотрел на нее. Эвелин отвела глаза. Радость, от которой его лицо стало темно-красным, дикая радость, которую, может быть, испытывают только те, смертельный диагноз которых не подтвердился, или те, которых милуют при вынесении приговора, было невозможно скрыть.
– Лети куда хочешь! – вдруг вскрикнула жена низким, словно лопнувшим в горле, голосом. – Живи так, как хочешь! У нас ничего нет общего с тобой! И никогда не было! И ничего не будет!
Фишбейн опомнился.
– Ты не поняла меня, дорогая. – Он осторожно обнял ее, и на секунду его руки, как будто они были чем-то отдельным ото всего остального – души и тела, ощутили знакомую горячую хрупкость ее спины и шеи. – Ты зря обижаешься…
Она хотела что-то сказать, но не смогла из-за судорожных злых слез, которые хлынули потоком.
– Зачем ты напился вчера?
– Испугался, – ответил он, ненавидя себя за то, что лжет.
– Чего испугался?
– Того, что случилось с тобой. – Он лгал ей в лицо.
Она махнула рукой и быстро, почти бегом, заспешила вниз по лестнице на звук открываемой двери и радостный возглас вернувшегося с прогулки Джонни.
Билет на самолет лежал во внутреннем кармане его пиджака, и теперь нужно было только одно: чтобы ничего не удержало его здесь до той минуты, пока самолет не поднимется в воздух.
Часть IV
1
В Шереметьевском аэропорту дорогого гостя Пола Робсона или, как называл его весь Советский Союз, Поля, что придавало простому его американскому имени французскую мягкость, и свежесть, и нежность, встречала целая делегация. Кроме белобрысого молодого человека в добротном зимнем пальто и мерлушковой шапке пирожком, который руководил этой встречей, присутствовали двое странно похожих друг на друга, как будто они были однояйцовыми братьями, сотрудника Москонцерта – оба крепких, черноусых, с бицепсами, выступавшими под драповыми рукавами, – круглолицая, молодая красавица с малиновыми губами, такими вкусными, что всякому, даже и совершенно не причастному к искусству человеку, хотелось расцеловать их, еще одна женщина, с большим круглым хлебом на желтом подносе, и дети великой страны – пионеры – в наглаженных галстуках, красных, как кровь. Всего человек восемнадцать, не больше. Пол Робсон раскрыл огромные руки для объятий еще в кабине самолета. Вот как приземлились, так он и раскрыл. Поэтому навстречу пионерам, женщине с малиновыми губами, женщине с большим белым хлебом, двум однояйцовым, усатым, и главному, нервному в новой мерлушке, он шел, возвышаясь до самого неба, руками крутя, как голландская мельница, а следом за ним в длинном сером плаще, совсем не годящимся для снегопадов, шел Герберт Фишбейн и, совсем уж в ботиночках для климата штата Флориды и в курточках, от вида которых хотелось заплакать, плелась остальная команда артистов. Как и следовало ожидать, первым делом Пол Робсон впился своим темпераментным поцелуем в подставленные ему губы малиновой царевны и долго их грел и терзал своим плотным запекшимся ртом. Пионеры с него не сводили восторженных глаз. Затем, оторвавшись с большой неохотой, он чмокнул зачем-то большой белый хлеб и, сильной рукой оторвав хрусткой корки, сжевал ее быстро, как будто был голоден. Товарищ в мерлушковой шапке хихикнул, слегка обнажив гниловатые зубы, а однояйцовые так и зашлись. Короче, пошла демонстрация дружбы, борьбы за свободу и мир во всем мире. Затем пионер с очень тоненьким горлом, которое все напряглось, как у птенчика, когда он хватает червя из уст матери, завел очень звонко «Катюшу», и Робсон, уже прослезившийся, басом подпел. В машину, блестящую, кварца чернее, уселись сам Пол, молодой человек и женщина в жаркой помаде, отчасти размазанной от поцелуя с артистом. В другую машину залезли сотрудники, а в третью – джаз-банд. Судьба пионеров в сверкающих галстуках – увы – никому не известна, но может, их всех постепенно забрали родители.
Затем состоялся прием в «Метрополе», куда поселили прибывших.
– Я съел здесь и буду съедать, – сказал, улыбаясь, Пол Робсон.
Советская сторона тоже заулыбалась и, неправильно истолковав заявление певца, принялась наперебой угощать его, со всех сторон придвигая то черную икру, то красную, ту кулебяки всех видов, то малосольные огурчики, то утку, то разную прочую птицу, то нежный, с дымящейся пенкой жульен. Вскоре выяснилось, что за годы проживания за границей, когда у него была почти отнята возможность практиковаться в русском языке, Пол Робсон, имея в виду глагол «сидеть», перепутал его с глаголом «съедать» и хотел сказать, что ему так уютно и хорошо очутиться наконец в этом прекрасном ресторане в окружении милых его сердцу русских людей, что он вот как сел, так и будет сидеть. Опять пошел смех, поцелуи и тосты.
Фишбейн не мог есть, хотя не ел со вчерашнего дня и в самолете выпил только стакан ледяного апельсинового сока, сильно разбавленного водкой. Он написал Еве, когда они прилетают, и даже указал, каким рейсом. То, что она не приехала в аэропорт, удивило его. Судя по последнему месяцу их письма доходили. Он знал, что ее не пропустят в гостиницу, где рядом со швейцаром круглосуточно дежурили два милиционера, а за спинами миловидных девушек в белых кофточках и строгих черных юбочках, выдававших тяжелые позолоченные ключи от комнат и оформлявших проживание, виднелись молодые люди с лицами, очень похожими на лицо сотрудника в модной мерлушковой шапке. К полуночи гулявшие в ресторане разошлись по комнатам, и в коридоре на четвертом этаже, где располагались особенно роскошные номера люкс, к Полу Робсону незаметно присоединилась та самая женщина с малиновыми губами, которая поджидала гостей в Шереметьевском аэропорту, так что от нахлынувшего волнения великий певец долго не мог попасть ключом в замочную скважину. Фишбейн выскочил на улицу, которая вся переливалась праздничными огнями и гирляндами, поскольку столица уже готовилась к встрече Нового года, и под равнодушно-твердым взглядом милиционера принялся расхаживать взад и вперед, закинув слегка голову и подставляя мягкому московскому снегу свое разгоряченное лицо. Он вдруг отчетливо представил себе, что Ева либо передумала встречаться с ним и решила оборвать все сразу, либо не пустил муж, либо ее арестовали, как Лару, героиню романа Бориса Пастернака, который он недавно прочел в Нью-Йорке.
«А может быть, она больше не хочет? – думал он. – И зря я так рвался сюда. Мы не виделись почти полгода. Она писала, что любит меня и жить хочет только со мной, но при этом она все время повторяла одно и то же, одно и то же! Что этого никогда не будет, что это невозможно. И я чувствовал, что она чего-то не договаривает, что она боится. Но ведь и я не написал ей ни слова ни о Ветлугине, ни о Меркулове! Она знает, что я веду музыкальные передачи, но она ни разу не сказала мне, что слушает нашу станцию. Ей, наверное, и в голову не приходит, зачем я пошел туда работать! Она не знает, что все это только ради нее, а я ненавижу все это! Ненавижу, не верю никому и боюсь. Если бы не она, я бы спокойно занимался своими волками… Они много лучше людей!»
Голова его горела, мысли путались. Этот огромный, переливающийся огнями чужой город давил на сердце, каждая лампочка впивалась в мозг. Он увидел себя со стороны: бегающего по улице с непокрытой головой, бормочущего что-то, жестикулирующего…
«А есть дом, сын, жена! И все это я взял и предал, налгал им, примчался сюда! Зачем? Чтобы с ней переспать? А дальше-то что? Ничего! Пустота!»
Он вошел обратно в подъезд гостиницы, поднялся к себе. Пока открывал дверь, из соседнего с ним номера высунулась Бэтти в нейлоновом стеганном халатике, уже без косметики.
– Нам запретили исполнять псалмы, – шепотом сказала она. – Министр культуры вмешался. Они атеисты.
– А Полу сказали?
– Герберт, зайди ко мне на секунду. Не бойся! – Она усмехнулась.
Он вопросительно приподнял брови. В номере Бэтти сильно пахло духами, лаком для ногтей. Она опустилась на уже разобранную постель и закурила. Фишбейн сел на кресло.
– Ты не заметил ничего на банкете?
– Нет.
– А я заметила. Они все подливали и подливали Полу. А он вообще не пьет, ему нельзя. Почему он сегодня пил, я не понимаю. Потом ему подлили из другой бутылки, не открытой, официант принес ее из бара и сразу унес. Что-то здесь не то, Герберт.
– Бетти, ты насмотрелась идиотских фильмов и наслушалась идиотской пропаганды.
– Я вообще не смотрю фильмы. Ты знаешь, что здесь эта женщина, которая нас встречала?
– Где здесь? В ресторане?
– Она сидела в холле перед входом в ресторан и делала вид, что читает газету. Когда Пол пошел к лифту, она пошла за ним.
Фишбейн пожал плечами:
– Нас с тобой это не касается.
– Тебя тоже что-то беспокоит, Герберт. Я вижу.
– Меня? Да. Тоже что-то беспокоит.
– Я тебя ни о чем не спрашиваю, ты не обязан мне отвечать.
Она была умницей, эта певичка, голос которой нравился ему больше, чем голос самой Эммы Фицджералд. У нее было прекрасное, светло-шоколадное тело с сильными руками и длинной шеей, шелковистое на ощупь. Почему, например, Бэтти, которую он познал тогда, шальной летней ночью в московской гостинице, не оставила в его душе никакого следа?
– Завтра нас везут на Рождественский детский праздник в Кремль. Пол будет там петь, – сказала она.
– Они атеисты. Какой же Рождественский праздник?
– У них это не называется «Рождественский». Просто праздник в честь Нового года. А я буду раздавать детям подарки.
Фишбейн вспомнил, как давным-давно, в его детстве, в школе устраивали новогоднюю елку, и Снегурочка из отдела народного образования раздавала малышам кулечки с подарками. Вспомнились даже вафли и вкус кислого недозревшего мандарина, всегда вложенного в кулек.
– Бэтти, – пробормотал он, – если ты действительно подозреваешь, что нам готовят какие-то сюрпризы, скажи лучше Полу. А то он уж слишком веселый.
– Он совсем не веселый, – выдохнула она сквозь сигаретный дым. – Ты плохо знаешь Пола. Он большой политик. Хотя иногда и бывает наивен.
Фишбейн вернулся к себе. В то, что они с Евой встретятся, он больше не верил. Странное безразличие охватило его. Она знает, что он уже в Москве, знает, в какой он гостинице. Тут он вспомнил, что нужно позвонить домой, и снял телефонную трубку.
– Соедините меня с коммутатором, пожалуйста.
– Сейчас. Номер говорите.
Он сказал. Эвелин подошла к телефону.
– Hello?
– Как ты? – волнуясь, закричал он, хотя слышно было так хорошо, как будто она была рядом. – Как Джонни?
– Все хорошо, – спокойно ответила она. – Я занимаюсь с Ализой.
Ализа была дочка няни, которую Эвелин учила музыке.
– В Москве очень холодно? – спросила она.
– Да, кажется, очень. – И он усмехнулся. – Я как-то еще и не понял. Я скоро вернусь.
– Я жду. – Тут голос жены слегка вздрогнул. – Мы ждем тебя, Герберт.
Несколько раз за эти месяцы ему приходило в голову, что она должна была бы догадаться о его измене, но он тут же отбрасывал эту мысль: Эвелин слишком чистоплотна душевно, слишком бескомпромиссна, сильна и брезглива, чтобы жить с этим. Тут что-то другое: четыре с половиной года брака она наблюдала его и в конце концов поняла, что жизнь свела ее с неуравновешенным и вспыльчивым человеком, прошедшим через войну, потерю дома, еще одну войну, – человеком, от которого можно ждать чего угодно, но не предательства и не обмана. Когда по дороге в больницу она вдруг призналась ему, что боится обмана больше, чем смерти, он должен был в это поверить и больше не лгать. А он испугался другого: того, что ее внезапное кровотечение не даст ему улететь в Москву, где он опять предаст ее. Какой же он грязный и низкий мерзавец.
– Ты будь осторожна, – сказал он жене. – Целую вас с Джонни.
– Ты будь осторожен, – сказала она. – И мы тебя тоже целуем.
Он положил трубку и посмотрел на часы: была почти полночь.