Другой Путь (адаптирована под iPad) Акунин Борис
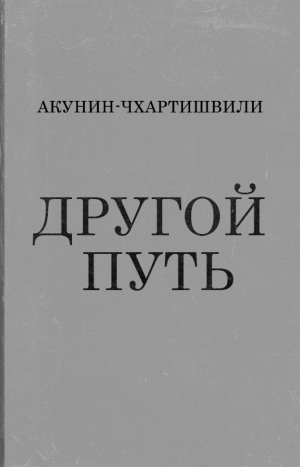
Этот проблемный период жизни у мужчин и женщин приходит в разное время, и переживают его они тоже по-разному. Меня в данном случае занимает лишь один аспект этого состояния: воздействие на Любовь.
Многие мужчины на пороге сорокалетия (в девятнадцатом веке это происходило раньше; сейчас в связи с информационным усложнением и соответственным замедлением ментального развития – позднее) вдруг осознают, что старение и смерть не за горами, что многие возможности упущены, шансы не реализованы, мечты неосуществимы, а остающийся набор вариантов ограничен, и впадают в своего рода экзистенциальную панику: совершают иррациональные поступки, судорожно пытаются пересмотреть координаты своего существования, прожить «пока не поздно» еще какую-то нереализованную жизнь. Ревизии подвергается всё, в том числе и Любовь. Настоящее чувство, конечно, выдержит эту бурю, но тут женщине приходится проявить немало такта, терпения и понимания.
Когда же мужчина миновал этот опасный поворот, тяжелое время наступает у женщины. В предменопаузный период, на исходе пятого десятка, она начинает остро ощущать утрату физической привлекательности. В этот период на помощь отступающему эросу должен придти филос, и здесь уже от мужчины требуются те же самые качества – такт, терпение, понимание, мало свойственные «сильному» полу и потому трудно ему дающиеся.
«Вторая молодость»
Когда потомство подрастает и покидает родительский дом, Любовь вновь проходит некоторую реадаптацию. Даже если она продолжала оставаться приоритетом и при наличии детей, ей все же пришлось потесниться, расширить свой ближний круг. И когда дети отдаляются, возникает некий эмоциональный вакуум, на который в идеале должна была бы распространиться высвободившаяся энергия. В действительности такое случается нечасто. Мне доводилось видеть очень мало пар, которые в период «второй молодости» испытали бы и новый старт своей Любви. Скорее возникает нечто вроде постампутационного синдрома с фантомными болями. Это связано с возрастным истощением Любовного горючего – либидо. Правда, гормональный спад дает и позитивный эффект – в том смысле, что половые различия начинают постепенно нивелироваться; впервые мужчина и женщина реагируют на ситуацию по одной и той же схеме. На смену страсти приходит сострадание, понимание друг друга без слов, а привязанность к детям переносится на внуков. Если отец, как правило, менее интенсивно, чем мать, любит сына или дочь (на что есть биологические и социальные причины), то к внукам оба привязаны уже совершенно одинаково.
Старение
Физическое увядание мужчине дается хуже, чем женщине, поскольку делает человека слабее, что воспринимается «сильным» полом болезненно. На этом этапе психоэмоциональный баланс перераспределяется: сильной становится женщина, мужчина от нее зависим. Его Любовь становится благодарностью, ее – благодеянием.
Смерть
Ничто так не страшит Любящих, как весьма вероятная возможность, что один супруг умрет раньше, причем ужас вызывает не мысль о собственной смерти, а мысль о смерти партнера. После долгой счастливой Любви одиночество представляется невыносимым, однако, по моим наблюдениям, уход Любимого оказывается для того, кто остался, благом. Поскольку все мысли старого, одинокого человека обращены к ушедшему, который находится уже по ту сторону, собственная смерть перестает быть страшной; часто ее ждут безо всякого тягостного чувства, без боязни, а встречают – я не раз видел это собственными глазами – с улыбкой.
Так НЛ делает Любящему последний и очень ценный подарок.
(Фотоальбом)
Дверью он еще будет хлопать! Сбежал, как последний трус, не дослушав! Думает, она покипятится и остынет.
Я тебе покажу «права и обязанности»!
Не выплеснувшаяся ярость требовала выхода, и Мирре пришла в голову отличная, просто архиправильная идея.
К осуществлению приступила сразу же.
Начала с самого чувствительного: потащила от стены на середину комнаты письменный стол. Конечно, шум, грохот, треск – а вы как думали? В чертовом столе, с пузатыми ножками, с грудой книг наверху, сто кило весу.
Ну и, ясно, Шапирова, нижняя соседка, жуткая сука, заколотила в пол деревяшкой. Наверно, шваброй. Пяти минут не может потерпеть. Еще и завопила визгливо: «Прекратите безобразие! У меня люстра трясется». Люстра у нее! У всех лампочка с газетным, максимум с тряпичным абажуром, а у этой хрустали. Жирует у себя в Мосторге, ворюга.
Довольная, что можно отыграться-оттоптаться не на безответном столе, а на живой гадине, Мирра надела тяжелые клобуковские башмаки и оттопталась в самом буквальном смысле: запрыгала так, что у Шапировой ее люстра поганая должна была вся иззвенеться. Ну-ка, кто кого?
Сука постучала-постучала и капитулировала. Балансировать на стуле со шваброй, когда с потолка на рожу сыплется штукатурка, тяжелее, чем скакать.
Внизу стало тихо.
Удовлетворенная победой, Мирра переобулась в тапочки, однако пообещала себе, что потом еще обязательно скажет соседке пару ласковых. В порядке воспитательной работы.
Злости немного поубавилось, но оставалось еще изрядно.
Нет, каков гусь! Встал над дверным люком с чемоданчиком и важно так: «Обязанность мужчины – обеспечивать достаточный заработок для достойной жизни. А право мужчины – самому решать, чем именно он зарабатывает». И нырнул вниз, смылся. Не дал ответить как следует.
Ничего, не захотел услышать ответ – так увидит его.
Права у него, значит? А у нее? Хватит ей жить тут на положении приживалки! Что она ему, собачонка с подстилкой и миской?
Нынче не старый режим. У советских женщин и мужчин, гражданин Клобуков, права равные. А равные – это значит всё поровну. Пополам.
Реализуя свою замечательную идею, Мирра стала делить жилплощадь на две равные части. Взяла кусок мела, которым летом забеляла свои парусиновые туфли, и провела по полу границу – от стены до стены. Левая половина будет наша, правая – ваша. Места общественного пользования останутся в общественном пользовании, это ясно. А вот письменный стол как средство производства разделим по-честному. Хватит ей с книгами и тетрадями на подоконнике ютиться.
Выволокла дубовое чудище точнехонько на середину, провела по зеленому сукну белую черту. Всю клобуковскую талмудистику сдвинула вправо. Туда же свалила начинку из левых выдвижных ящиков. Вернется Клобуков – пускай сам разбирается.
Своё хозяйство – учебники, справочники, конспекты – аккуратно и привольно разложила на освобожденной территории. Красота!
Что теперь?
На Мирриной стене остались клобуковские картинки: гравюра со старинными шприцами, классификация лекарственных растений, литография с видом Цюрихского озера, которая Мирру давно раздражала.
Всё на фиг.
Сняла, повесила своё, а то перевезла из общаги, да некуда было: грамоты за общественную работу, вымпел за первое место по лыжному кроссу, портрет Ильича, отделы носа в разрезе, челюстно-лицевая мускулатура.
Даешь! А ты, анестезия, помощница хирургии, знай свое место.
Подняла листок, упавший со стола. Там смешным почерком гимназиста-отличника были записаны какие-то химические формулы, а на полях всё в мелких рисуночках: кораблики, самолетики, кинжальчики. У Антона привычка: задумается – начинает калякать всякую чепуху. Тридцать лет скоро, а как мальчишка!
Листок бережно положила на клобуковскую половину стола. Мало ли что там, в формулах. Может, нужное что.
Всё клобуковское барахло со своей половины жилплощади Мирра эвакуировала, свалила в кучу. Вернется из своего Саратова – рассортирует.
Перед дверью их маленькой спальни остановилась в нерешительности. Ладно, это будет нейтральная зона. Как место водопоя у зверей. Или тоже провести демаркационную линию посреди кровати?
Хихикнула. Вся злоба куда-то подевалась. Наверно, истратилась на физическую работу.
Нет, какая он все-таки сволочь, уже без ярости, а с тоской подумала Мирра. На целых три дня уехал! Ладно бы еще жизнь кому-то спасать. Или из-за науки. А то просто для заработка. Это всё Логинов, паук. Вертит Антоном как хочет.
Снизу снова донесся визгливый голос стервы Шапировой, которая, кажется, все-таки не поняла, как надо разговаривать с Миррой Носик:
– Я тебе постучу! По башке себе стучи!
Ах ты так?
Мирра откинула люк и высунулась, готовая, если понадобится, к высадке десанта.
Оказалось, Шапирова кричала не ей. Соседка стояла на пороге своей комнаты в халате, с папильотками на рыжей башке, а перед дверью топтался какой-то гражданин. Сверху было видно, как через пушистые серо-седые волосы светится проплешина – мятую шляпу человек держал в руке.
– …Извините, – пробормотал он, шепелявя. – Мне сказали, Антон Маркович живет наверху, а где именно, не… Вот я и постучал… Ради Бога, извините.
Голос был знакомый, не спутаешь.
– Иннокентий… (как его?)…Иванович! Вам сюда! – крикнула Мирра.
Бах испуганно задрал голову, соседка молча ретировалась за дверь, но щелку, конечно, оставила.
– Здравствуйте! – Иннокентий Иванович сделал попытку поклониться, что с запрокинутой головой было не просто. – А я вот в город приехал… Подумал, не навестить ли, не посмотреть…
– Заходите. Хорошо, что пришли.
– А… А как же к вам?
Она уже спускала лестницу. Бах карабкался по ней так долго, так неуклюже, что под конец, не выдержав, Мирра бесцеремонно взяла его под мышки и подтянула.
– Антон только-только, час назад, уехал на несколько дней. В Саратов, со своим профессором. На операцию.
– Наверное, что-нибудь очень сложное? – почтительно спросил Бах, тяжело дыша после подъема.
– Денежное. Нэпач какой-то оперируется. Хорошо платит, – покривилась Мирра. – Вы куда подевались-то? Антон был на кладбище, заходил к вам. Церковь закрыта, в будке живет другой сторож. Сказал, съехали вы, а куда, не знает.
– Отца Александра взяли вторым священником в Вешняковскую церковь. Это по Казанской дороге, недалеко от Москвы. Он меня дворником пристроил. Ужасно повезло. Там, правда жилищные условия… Ах, неважно… – Иннокентий Иванович дернул плечом. Видно было, что ему действительно это неважно. – С каким же профессором поехал Антоша? Не с тем ли, который…
Мирра насупилась.
– С тем. Только ваш конверт брать за границу Логинов отказался. Потому что он сволочь и шкурник. Говорит, инструкция для выезжающих в загранкомандировки воспрещает, а у вас на снимке еще и служитель культа. Мне, говорит, неприятности не нужны… Вы заберите свою карточку. И извините, что так вышло.
– Нет-нет, оставьте у себя, пожалуйста. – Бах умоляюще приложил руку к груди. – Профессор, конечно, прав. Зачем ему рисковать? Но у вас, наверное, есть и другие знакомые, кто бывает за границей. У меня-то совсем таких нет…
Мирра отобрала у него шляпу, заставила снять длинный линялый пыльник.
– Я без галош… Но я сниму башмаки.
Он хотел согнуться, но Мирра удержала.
– Не надо. На улице чисто.
В этом году весна была стремительная, как атака красной конницы. Снег стаял в четыре дня, грязь подсохла за неделю. Конец апреля, а тротуары уже сухие. Небо синее, в нем с утра до вечера солнце. Красота! Но эта весна вообще была особенная. Она никак не могла оказаться плаксивой и грязной.
– Наводите порядок? – Бах глядел на сваленное кучей клобуковское шмотье. – Большая весенняя уборка, да? – Заметил жирную меловую черту, замигал. – …Как у вас необычно… – На тощем лице появилось тревожное выражение. – Что у вас? Всё ли хорошо?
– Нормально, – коротко ответила Мирра. – Живем. Вы чего приехали? – Спохватилась, что прозвучало невежливо. – В смысле, по делам? Здорово, что зашли, а то Антон волновался. И я тоже.
Это, между прочим, было правдой. Всего один раз Баха этого видела, а как-то беспокойно стало, когда он пропал. Не раз думала: где он, птаха божья? Есть ли у него крошки – поклевать? Не зацапала ли кошка?
– Я на суд приехал.
Бах осторожно пристроился на край стула – Мирра уже несколько раз жестом показала: садитесь, садитесь, чего вы?
– На суд?! А что вы такого натворили?
– Нет-нет, суд не надо мной. – Засмеялся. – Кому я сдался? Я на «Процесс палачей». Посмотреть.
– А-а…
Мирра успокоилась. Последний год по всему СССР шли судебные процессы над слугами старого режима и активными деятелями контрреволюции. Дошли наконец руки у советской власти, давно пора. Про московский «Процесс палачей» все газеты пишут.
– Зачем вам жандармы эти? – удивилась Мирра. – Ладно попы какие-нибудь, а палачи-то вам что?
– Это я им нужен. Нужнее, чем когда судят духовных особ за верность священническому сану. Потому что таким многие сочувствуют, хоть и втайне. Молятся за них. И Бог таких не оставит. А эти совсем скверные, никому не нужные. Все только проклинают и плюют. Потому и хожу. Молиться нужно за всякую душу. Особенно за такие…
– Осуждаете, поди, советскую власть за мстительность, за расправу с врагами? – спросила Мирра, не очень поняв, о чем это он.
– Нисколько. Это суды нужные и правильные, – неожиданно сказал Иннокентий Иванович. – В старой России творилось много зла, в том числе и теми, кто был обязан охранять справедливость. Я против смертной казни, узаконенного убийства. Но я не против возмездия. Злодеев обязательно нужно судить. Потому что зло должно быть выставлено напоказ и осуждено.
– Ишь ты, – поразилась Мирра. – Не думала, что вы сторонник пролетарской справедливости.
– Справедливость – слово, которое не терпит прилагательных. Как только прицепляешь к ней какое-нибудь уточнение – «пролетарская», «классовая», да хоть бы даже и «высшая», – от справедливости ничего не остается. Вот какая, скажите мне, справедливость в том, что у нас целые категории граждан подвергнуты тотальной люстрации?
Такого слова Мирра не знала.
– Чему подвергнуты?
– Люстрации. Ограничению гражданских прав. Я про «лишенцев» говорю. Разве это справедливо? – Иннокентий Иванович покачал головой. – Когда миллионы людей не могут голосовать, работать в государственных учреждениях, учиться в ВУЗах, хотя не совершили никакого преступления, а просто родились в «неправильной» семье, или когда-то, в совсем иной стране, выбрали себе не ту профессию, или ведут дело, для которого необходим наемный труд.
– Это мера пролетарской защиты! – горячо сказала Мирра. – Не так уж их и много, лишенцев, всего два или три миллиона на всю страну, но член эксплуататорского класса хитрее, образованнее, пронырливей простого человека, у которого не было возможности учиться уму-разуму. Если не поставить преграды на пути бывших дворян, купцов, попов, они, с их демагогией, с их подвешенными языками, очень скоро опять пролезут наверх, займут все ключевые места во власти, в индустрии и не дадут народу построить коммунистическое общество! Какая же это справедливость, если равный доступ к должности или к депутатскому мандату получит вчерашний батрак, едва научившийся грамоте, и какой-нибудь жучила с гимназическим аттестатом, прочитавший в своем галантерейном детстве тысячу книг и знающий три иностранных языка? Когда-то его предки хитростью и силой уселись на шею трудового люда, помыкали им, сосали из него кровь, и теперь снова-здорово?
– Когда два или три миллиона человек (а, сколько я слышал, намного больше, чуть ли не десять процентов населения) делаются людьми второго сорта, это отвратительно и нечестно, – тихо, но твердо ответил Бах. – Девяносто девять процентов из них ничего плохого не совершили и наказывать их не за что. Человек, всякий человек, должен отвечать за то, что он сделал – или за то, чего не сделал, хотя был должен. Коллективная ответственность – это по-ветхозаветному, когда за общую вину следовало уничтожать весь город или весь народ. А Христов Завет учит иначе. На Божьем Суде спросят не с классов и не с сословий, а персонально с каждого. Судить человека за содеянное им справедливо и правильно. А карать целые профессии и сословия – скверно, ничего хорошего из этого не выйдет.
– Ну, это мера временная, – пожала плечами Мирра, которой про ветхие и неветхие заветы слушать было скучно. – Пока социализм не достроим. Пускай те, кому от пролетариата нет доверия, постоят в сторонке и не путаются под ногами, не мешают. Вам обидно, я понимаю. А нам было не обидно жить в грязи, в унижении, по подвалам да по чертам оседлости, когда вы в гимназиях учились и в чистеньком ходили? Девяносто девять процентов, говорите, не виноваты? Так мы их и не трогаем. Но с одного процента, кто особенно подличал и зверствовал, спросим строго. Уж будьте уверены.
Иннокентий Иванович вздохнул:
– Спрашивайте. Но и жалеть судимых не мешайте. Кого и жалеть, если не самых жалких? Например, таких, как убийцы доктора Караваева.
– Кого?
– Александра Львовича Караваева. Вы не помните, вы были ребенком, а в свое время, в 1908 году, это злодеяние всколыхнуло всю мыслящую Россию. Марк Константинович, Антошин отец, лично знал доктора Караваева. Достойнейший был человек. Земец, просветитель. Бесплатно лечил бедных, заступался за бесправных. Его выбрали депутатом Государственной Думы от Екатеринослава. И пришли к нему домой двое, под видом больных. Застрелили в упор. Убежали. Было расследование. По тем временам, конечно, схватили какого-то еврея, попытались свалить на него. Но потом один агент Охранки, в котором Бог пробудил совесть (бывают такие чудеса), – Бах перекрестился, – некто Казаков, признался, что Караваева убили черносотенцы, члены Союза русского народа. Ничего им за это не было. Замяли дело, полиция постаралась. Гнуснейшее из злодейств!
– А-а, знаю. В газетах писали. Две или три недели назад, – вспомнила Мирра. – На Украине суд был. Точно – в Екатеринославе. Какие-то трое на «Ш».
– Шальдо и Щеконенко – убийцы и Шелестов, организатор. Еще протоиерей Балабанов, бывший секретарь черносотенного Союза. Я очень хотел поехать, особенно из-за священника, да негде было денег на билет взять. – Бах повздыхал, перекрестился дважды. – Убийц расстреляли. Шелестову дали десять лет. А Балабанова, дряхлого старика, слава Богу, отпустили. Сжалились.
– Ну вот, видите! – обрадовалась Мирра за екатеринославский суд. – Пролетариат кого надо карает, а кого можно – жалеет.
– Это хорошо, когда жалеет. Это очень важно. Я прошлым летом был на суде провокаторши Серебряковой, знаменитой «Дамы Туз», которая в свое время отправила в тюрьму и на каторгу множество революционеров. Ах, какой это был хороший суд! Истинно промысел Божий! Скверную это женщину Господь покарал, по справедливости.
– А что было на суде?
Летом Мирра работала в детской коммуне, с беспризорниками. Там было не до газет.
– Она ведь вела двойную жизнь, Серебрякова эта, – увлеченно стал рассказывать Бах. – У нее дома собирались социалисты, вели всякие прекрасные разговоры – про социальную справедливость, про народ, про светлое будущее. Я помню, я и сам в свое время… А у Серебряковой семья, которая ни о чем не подозревала. Муж, дети. Муж дружит с подпольщиками, сочувствует им, помогает. Дети сызмальства впитывают революционные идеи, любуются яркими, свободными людьми. И через какое-то время оказалось, что «Дама Туз» в собственной семье чужая, таится от своих, страшится разоблачения… Кончилось тем, что муж, узнав правду, в ужасе от нее ушел. Дети выросли врагами царизма, которому Серебрякова так истово служила… На нервной почве она ослепла. И на скамье подсудимых сидела сгорбленная, слепая, всеми брошенная старуха. Семь лет ей дали, всего лишь. Какая кара горше, чем проклятье собственных детей? То же самое ведь сейчас и с Фунтиковым произошло! Вы следите за Бакинским процессом?
Кажется, Иннокентий Иванович сел на любимого конька. С загоревшимися глазами он вытащил из кармана аккуратно сложенную газету.
– Это гад, который отдал на расстрел двадцать шесть бакинских комиссаров? – кивнула Мирра. – Читала. К стенке его приговорили. Но вам это вроде не должно нравится?
– Что приговорили к казни и отвергли просьбу о помиловании, это, конечно, плохо. Но меня поразило другое. Он ведь скрылся тогда, в Гражданскую, Фунтиков этот. Жил себе на хуторе, крестьянствовал. Собственная дочь его выдала. Дочь! Вот где тайна, которую я очень хотел бы знать! – Бах поправил сползшие с носа очки. – Почему она это сделала? От каких-то бытовых причин? Или желала, чтобы отец принял страдание за свое страшное преступление? И что происходит в ее душе? Я думаю об этой девушке, я молюсь за нее!
Вдруг он встрепенулся, прижал к носу очки, глядя на стенные часы.
– Половина десятого! Скоро начнется. Поедемте со мной. Процесс, конечно, не громкий – не «Дама Туз» и не дело Фунтикова. Там совсем пешки, мелкие исполнители. Но у Бога пешек не бывает. Право, едемте. Вам это нужно видеть.
– Мне? Зачем?
– Нужно, – убежденно повторил Бах. – Очень жаль, что Антоши нет. Ему это тоже было бы важно.
Мирра посмотрела на перевернутую вверх дном комнату.
Занятий сегодня нет, только вечером практикум. Не сидеть же в этом бардаке, на Клобукова беситься.
– Ладно. Поехали.
Процесс над палачами, вешавшими осужденных во дворе Хамовнической полицейской части после первой революции, происходил по месту преступной деятельности – в районном Хамовническом суде, в бывшем Штатном, ныне Кропоткинском переулке, в каких-нибудь десяти минутах ходьбы от сарая-«давилки», где совершались казни. Всего в 1907–1910 годах там умертвили тридцать восемь приговоренных. Всех – по ускоренной процедуре военно-полевого суда, при закрытых дверях и без адвокатов.
Народу в зале было немного – дело давнее, с тех пор чего только не произошло: большие войны, красный террор, белый террор, миллионы убитых, казненных, умерших от голода и эпидемий. Показательные процессы над слугами царского режима уже приелись и любопытства не вызывали. Добро бы среди повешенных или полицейских оказался кто-нибудь знаменитый, а тут одни неизвестные вешали других неизвестных. Первые два ряда, зарезервированные для членов Общества политкаторжан, были наполовину пусты; двое или трое журналистов, явно скучая, лениво что-то записывали в блокноты; еще человек двадцать всякой пестрой публики наблюдали внимательно, даже жадно, но опытный Иннокентий Иванович шепнул, что это судебные завсегдатаи. Есть такая малоприятная категория зевак, которая не пропускает ни одного процесса, особенно если дело может закончиться высшей мерой.
– Вот вши тифозные, – громко сказала Мирра, брезгливо оглядывая соседей.
– Зря вы, – укорил ее Бах. – Таких людей нужно не осуждать, а жалеть. Они, должно быть, чувствуют себя несчастными, и вид тех, кто еще несчастней, помогает им выносить тяготы жизни.
– Ладно, не вши. Трупоеды.
– Не следует из всех возможных объяснений человеческих поступков сразу выбирать самое некрасивое. Лучше ошибиться в противоположную сторону. Посмотрите, например, вон на ту женщину. – Иннокентий Иванович интеллигентно, не рукой, а чуть качнув бороденкой, показал на худющую гражданку в черном платке и черном жакете, которая сидела прямо напротив загона для подсудимых. – Она не похожа на зеваку. И потом, разве мы с вами здесь для того, чтобы упиться чужим несчастьем?
– Не знаю, зачем я здесь. – Мирра недовольно ерзала, жалея, что притащилась в это тухлое место. – Вас надо спросить.
– Тсс! Начинается, – шепнул Бах.
Он и дальше все время шептал ей на ухо, то объясняя что-нибудь, то просто комментируя происходящее. У Мирры закралось подозрение: не за тем ли он ее с собой и приволок, чтоб было с кем делиться переживаниями. Иннокентий Иванович волновался так сильно, будто судили его близких родственников. При виде судей он радостно прошелестел:
– Как хорошо! Председателем Кандыбин, рабочий с Михельсоновского завода. Вдумчивый такой, с природным чувством справедливости. Двое остальных не имеют значения, это юристы, которые следят, чтобы приговор не противоречил закону. Но решать будет Кандыбин, у него и полномочия, и авторитет.
Мирра уважительно посмотрела на пожилого мужчину лет сорока пяти или пятидесяти, в стальных очках и серой косоворотке. Судья-рабочий, вот это по-советски!
Об обвинителе – довольно молодом, но болезненно желтолицем и каком-то неестественно деревянном из-за тугого, наглухо застегнутого френча – Бах отозвался кисло:
– А с прокурором не повезло. Это Лацис. Ловкий и совершенно безжалостный. Всегда требует «высшей меры социальной защиты».
Конвойные привели пятерых обвиняемых. Мирра с интересом уставилась на них, но разглядывать было нечего: какие-то жухлые, мятые, старые, ничем не примечательные. Двое совсем пентюхи деревенские; один пучеглазый, усатый, похож; на пожарного; седенький, улыбчивый старикашка и какой-то очкастый, дерганый. На палачей нисколько не похожи. Встретишь на улице – не взглянешь.
Адвокат на всех пятерых был один, по назначению.
Он сразу сделал заявление, что не имел времени подробно ознакомиться с делами, однако же, если не возражает уважаемый суд, желал бы выразить свою позицию.
Суд не возражал: заседатели взглянули на председательствующего, тот кивнул – этим формальности и ограничились.
Защитник, заглядывая в бумажку, сказал, что всех его клиентов, невзирая на разную степень их вины, объединяют два обстоятельства, позволяющие уповать на снисхождение. Во-первых, никто из них никогда не боролся с советской властью, и социальной опасности для государства рабочих и крестьян они не представляют. Это люди тихие, немолодые, честно зарабатывающие свой хлеб. Граждане Жабин и Фролов, оба пролетарского происхождения, после революции крестьянствуют. Гражданин Грудцин работает железнодорожным кондуктором. Гражданин Чугунов служит счетоводом в потребкооперативе, содержит большую семью. Гражданин Веселитский – участковый врач с прекрасными характеристиками по месту работы, отец инвалидки-дочери. А во-вторых, следует учитывать исторические обстоятельства, в которых находились обвиняемые во время совершения инкриминируемых деяний. Здесь адвокат взял и раскрыл книгу с закладкой.
– Вот цитата из речи Столыпина, определившей тогдашний курс государственной политики: «Бывают, господа, роковые моменты в жизни государства, когда государственная необходимость стоит выше права и когда надлежит выбирать между целостью теорий и целостью отечества». Конечно, эти слова были произнесены реакционером и врагом революции, однако разве не той же логике следовала и советская власть в «роковые моменты» истории? Правительство ставило государственную необходимость выше прав отдельных граждан, и низовым работникам – таким вот Жабиным, Фроловым, Чугуновым – приходилось выполнять полученные сверху приказы. Законные, подчеркну, приказы!
– А вот это смело, – возбужденно шепнул Бах. – Но и опасно! Когда адвокат красуется и дразнит судей, обвиняемым только хуже!
Председатель и вправду рассердился. Сдвинув кустистые брови, он стукнул ладонью по столу.
– Это вы, гражданин, бросьте! Нечего тут протаскивать! Сатрап Столыпин действовал в интересах кучки эксплуататоров, а советская власть во время военной диктатуры проявляла суровость ради счастья трудового народа! Нашел что сравнивать!
Защитник и сам, кажется, понял, что его занесло.
– Да-да, конечно. Я лишь хотел обратить внимание уважаемого суда на то, что обвиняемые – мелкие винтики машины, которой управляли совсем другие силы. Только и всего…
И свернул свое выступление.
Приступили к допросу подсудимых.
Вопросы задавал только судья. Двое остальных не раскрывали рта – тот, что справа, в пенсне, пару раз тихо сказал что-то Кандыбину на ухо. Левый откровенно скучал. Обвинитель сидел с непроницаемым лицом, сложив руки на груди. Защитник все время гримасничал – будто хотел вмешаться, но не решался.
– Странно, конечно, устроено, – шепнул Бах. – Раньше в судах в основном говорили прокурор и адвокаты, судья больше слушал. Но я уже привык. Кандыбин любит сам во всем разобраться.
– И правильно. Что ж тут странного? – удивилась Мирра, никогда прежде в суде не бывавшая.
Начали со смотрителя арестного дома Чугунова, который по должности руководил проведением казней. Это был сухонький, сутулый старичок, угодливо кланявшийся перед каждым ответом и беспрестанно разводивший руками.
Да, он имел несчастье получить место смотрителя в то тревожное время, но куда же ему было деваться? Он поначалу и понятия не имел, что в его обязанности входит наблюдение за «специальными процедурами» (так на их полицейском языке назывались казни).
Отказаться? Нет, это было совершенно невозможно! Шестеро детей, в ту пору еще маленьких, а служба была единственным источником существования семьи, ведь он не из помещиков, не из капиталистов, привык жить своим трудом. Опять же виды на пенсию. И куда уйдешь? Кому потребен бывший полицейский с его весьма специфическим профессиональным опытом?
– И как вам спалось по ночам? После повешений? – спросил судья, глядя на обвиняемого с брезгливым любопытством.
Очень плохо, с готовностью ответил Чугунов, будто ждавший этого вопроса. Он ужасно страдал и мучился после каждой из семи казней, которые произошли в период его смотрительства. Как, разве уважаемый гражданин судья не знает? Да-да, Чугунов устроил только семь «специальных процедур», а потом упрощенный порядок судопроизводства был отменен, и ужасные времена, слава богу, закончились. От облегчения он даже заказал поминание казненным и поставил в церкви семь больших рублевых свечей. Можно разыскать отца Лаврентия, бывшего настоятеля храма Николы в Хамовниках, – он подтвердит.
Тут же встал защитник, объявил, что гражданин Чугунов попал на должность смотрителя только в 1909 году, когда волна репрессий уже шла на спад. Никаких новшеств в отработанный его предшественником порядок не вносил, излишней суровости не проявлял и даже распорядился сделать послабление – при нем осужденным позволили перед казнью говорить последнее слово, которое записывалось протоколистом и потом передавалось в архив.
– Последнее слово – это важно, – задумчиво сказал Кандыбин, кажется, вспоминая что-то свое. – Человеку перед смертью есть что сказать… Ладно. У обвинителя вопросы есть?
Бах щекотнул Мирре ухо усами:
– Ох, сейчас Лацис в беднягу вгрызется…
Но Иннокентий Иванович ошибся.
– У меня вопросов нет, – пожал плечами прокурор. – Однако, с позволения суда… – Обернулся к залу. – Тут присутствует гражданка Сонцева, вдова казненного в 1909 году социал-демократа. Он при аресте толкнул полицейского, тот упал и получил сотрясение мозга. По закону о военно-полевых судах сопротивление властям, отягощенное причинением телесного вреда, каралось смертью. Гражданка Сонцева просила предоставить ей возможность задать обвиняемым вопрос… Надеюсь, суд не откажет.
– Спрашивайте, гражданка, спрашивайте. – Кандыбин сочувственно смотрел на поднявшуюся с места женщину – ту самую, в черном платке. – Подите ближе.
– Благодарю, ничего… Я отсюда.
Все смотрели на вдову, она же – только на Чугунова. Безо всякой злобы, без враждебности, а, наоборот, будто бы с нетерпеливым ожиданием или даже надеждой.
– Вы такого Сонцева Николая Дмитриевича помните? – спросила она дрожащим от волнения голосом. – Его при вас…? – Не договорила.
Смотритель глядел на ее бледное, еще не старое, но странно высохшее лицо с испугом.
– Виноват… Не припомню… Давно было.
– Я не из мести. Не чтобы отяготить вашу участь или что-то такое, – быстро сказала вдова. – Просто, может быть, он что-то произнес или передал… Вот вы говорили: последнее слово. Но полицейский архив сгорел в революцию… Вспомните, пожалуйста. Мне это очень, очень важно… Ведь увели, даже попрощаться не дали. И всё. Никогда больше… – Она растерянно поглядела на хмурящегося судью и криво улыбающегося прокурора. – Если не по фамилии, то хоть по внешности. У Коли вот здесь, – она коснулась острой скулы, – приметная такая родинка была. Будто сердечко.
– Нет, такого при мне не было, – с облегчением сказал Чугунов. – Я бы запомнил. До меня, значит.
– Вас ведь в феврале назначили? – подал голос обвинитель. – А Николая Сонцева повесили 24 апреля. Как же так?
Чугунов пробормотал:
– Я не очень в лица вглядывался… Знаете, как-то неловко было…
По залу прошел гул.
– Ох, неудачно сказал, – скривился Бах, но сочувствия у Мирры не нашел. Она смотрела на черную женщину, представляла себя на ее месте. Думала, что она с этим гадом разговаривала бы по-другому.
Потом, по одному, вызвали «специальных лиц», то есть исполнителей.
Главным был Жабин, из рязанских крестьян. Отвечая судье, он косноязычно, но очень подробно рассказал, как угодил в палачи.
Работал санитаром в медицинском пункте при полицейской части. Сначала за дополнительную плату укладывал трупы в гробы. В ту пору вешал какой-то присылаемый из градоначальства человек – в синих очках, «намалеванный» (должно быть, загримированный). Но в одиночку «намалеванному» было управляться трудно, и он позвал Жабина в помощники. Платили по три с полтиной. Однажды штатный палач почему-то не приехал, и господин смотритель предложил Жабину провести «прасадуру» самому.
– Сколько денег дали? – небрежным тоном вставил вопрос прокурор.
Десять целковых, большие деньги. У санитара месячное жалованье было двенадцать с полтиной.
– А себя на должность исполнителя вы после этого сами предложили?
– Ага, сам. Потому там уже одного жалованья тридцать пять в месяц выходило, не считая «ночных», – пояснил Жабин. Он, похоже, был совсем дурак.
– А не страшно было? – с болезненным любопытством спросил Кандыбин. Мирра и сама бы про то же спросила.
– Конечно страшно. – Обвиняемый вздохнул. – Жизнь отнимают от человека. Но мне в деревню надо было деньги слать. Чтоб жена с дитями не голодовали. А так они и приоделись, и приобулись. Болеть перестали, потому я крышу худую поменял.
«Так, так», – кивал, будто подсказывая, Иннокентий Иванович.
Но Лацис мягко поинтересовался:
– Когда казнили в других полицейских частях, вы ведь тоже не отказывались помочь, правда?
– Бывало, – кивнул палач, и Бах безнадежно махнул рукой: «Всё, конец Жабину».
И снова вышла черная вдова, и спросила про своего Колю с родинкой в виде сердечка.
– Не помню, – ответил Жабин. – Всех рази упомнишь?
Третий, Фролов, ночной сторож; при полицейской части, только помогал Жабину: отмерял и намыливал веревку, помогал переносить мертвые тела.
– Почему пошел помогать? – переспросил он. – Характер у меня такой. Никому не могу отказать. И начальства боюсь. Я тогда начальство слушал и теперь слушаю. Смотритель мне говорит: «Иди, говорит, Жабину поможешь. Трудно ему. Нужно, брат, помочь». Как откажешь – смотритель же… Сколько раз? А вот сейчас посчитаю. Значит так, девять человек перед Масленой, потом еще шесть. И летом двое… Это сколько ж всего?
На вопрос судьи, что он может сказать в свое оправдание, Фролов быстро и уверенно ответил – видимо, заранее заготовленное:
– Я не Жабин. Мне по десяти целковиков не платили. Когда рубль поднесут, когда просто водки нальют. Чтоб руки не дрожали. Жена, и то ругала: что ж ты даром горбишься? Я ходил к господину, то есть к гражданину Чугунову – а он говорит: «Нет, говорит, у меня такой статьи расхода. Наградные могу выписать». И дал пятнадцать рублей один раз. Я жене все до копейки отдал. Ничего себе не взял…
Сонцева спросила Фролова про мужа. И тоже впустую.
– Извиняйте, гражданочка. Мое дело снизу стоять было. Чтоб ноги не развязались. А то иной начнет ими дрыгать – нехорошо.
Четвертым шел бывший постовой Грудцин – помоложе остальных, молодцеватый. Тянулся в струнку, руки держал по швам, ел судью глазами, отвечал четко и ясно, по-военному.
Он явно чувствовал себя в привилегированном положении, поскольку «помогал» всего однажды.
– Фролов ушел в отпуск, Жабин говорит: давай, будешь помогать. Я отказывался – профессия неважная, прямо сказать. А Жабин смотрителю пожаловался. Тот мне: я тебя выгоню, мерзавец! Пришлось согласиться. Я тогда женился только, по большому любовному чувству. Как же, думаю, можно жену обмануть? Она выходила за справного человека на хорошем месте, а я ей свинью подложу? Ну и скрепил сердце. Виноват.
Прокурор Лацис приберег для этого подсудимого, наименее виновного из всех, особый прием.
– Если вы участвовали в экзекуции всего один раз, то должны были запомнить ее во всех подробностях. Расскажите суду, как это происходило.
– Слушаюсь. – Грудцин сделал полуоборот, щелкнул каблуками. – Мне было велено делать, как Жабин скажет. Порядок был такой. Сначала мы всё приготовили. Я только помогал: подай то, сделай сё. Там как было, в специальном сарае? Помост из досок, высокий, в полтора роста. Сбоку лестница, над ней веревка с крюком. Это потому что некоторые отказывались сами идти, или ноги у них не шли, ну тогда цепляли крюком за ворот, сзади, и подтягивали. Быстрее выходило. Но этот, который на мою смену достался, сам шел.
– Опишите его, – приказал прокурор.
– Фамилии не знаю, нам было не положено знать. Худой такой, чернявый. Жабин еще сказал…
– Это Коля! – вскочила женщина. – У него вот здесь была родинка, да?
– Не разглядел, – обернулся на нее обвиняемый. – Темно было. Только по углам керосиновые фонари горели. Ваш, гражданка, чахоточный был?
– Нет. Почему чахоточный?
– Ну, значит, не он. Этот говорит: «Странно. Думал, от чахотки задохнусь. Мне недолго осталось. А задохнусь не от чахотки. Хорошо, говорит. Быстро». И засмеялся. А потом закашлял. А Жабин говорит: «Тощий больно, легкий. Шея может не переломиться. Как он провалится, ты, говорит, Груднин, прыгай к нему, за пояс обхвати и книзу дергай, со всей силы». А этот докашлял и опять смеется. «Да уж, Груднин, обними меня покрепче. Неохота мучиться». Но я отказался. Приснится еще, как с покойником обнимался…
Постовой хотел перекреститься и уже поднял сложенные щепотью пальцы, но спохватился, что советскому суду такое не понравится, и спрятал руку за спину.
– И как? Мучился он? – вкрадчиво спросил Лацис.
– Это надо у Жабина спросить. Он сам на повешенном висел, а я отвернулся.
– Брешешь! – приподнялся с места Жабин. – Никогда я на них не висел, у меня ревматизм в руках! Ты его за ноги тянул!
– Это ты меня на тот свет за собой тянешь! – бешено рявкнул на него Грудцин. – Неохота тебе одному к стенке идти! Граждане судьи, не слушайте его!
Судья Кандыбин смотрел на допрашиваемого с отвращением.
– Какая разница – кто тянул, а кто рядом был. Оба вы друг дружки стоите…






