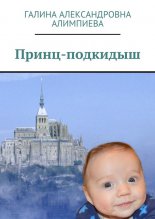Обратная перспектива Столяров Андрей

То есть о визите Старковского, вероятно, можно забыть. И все же какая-то ноющая тревога не дает мне покоя. Пассажиры корабля, плывущего в океане, безмятежно взирают на облачко, подползающее с далекого горизонта. Подумаешь, перистый завиток! А капитан, обветренный морской волк, хмурится, поглядывает на барометр и распоряжается прибавить ход. Опыт подсказывает ему, что надвигается шторм.
Так же и здесь.
Вокруг меня еще полная безмятежность. Сияет солнце, овевает раскрытые окна шелест листвы. Щебечут птицы, доносятся голоса с первого этажа…
Полуденная жара.
Покой.
Запах разомлевших цветов.
Зачем тревожиться ни о чем?
И все же пальцы у меня немного дрожат. Мне почему-то кажется, что где-то за невидимым горизонтом уже сгущается мрак, летит пена, вздымаются свинцовым весом валы, свистит ветер, и небо, просевшее чуть ли не до воды, уже расколото слепящим зигзагообразным огнем…
Здравствуй, старик! Не успели, вероятно, остыть у тебя эмоции от предыдущего моего письма, а я уже, как маленький гномик, трудолюбиво пишу тебе следующее. И причина этому гораздо более серьезная, чем в прошлый раз. Произошла со мной странная, я бы сказал, загадочная история, насчет которой, как мне кажется, ты должен быть в курсе. Собственно, этих историй две, и хотя каждая, на мой взгляд, заслуживает, чтобы ее исполнили как отдельную песнь, но поскольку они, видимо, связаны между собой (чего доказать я, естественно, не могу), то излагаю их единым, извини за выражение, нарративом.
Так вот, зацепил ты меня своим вопросом об осовецких хасидах. Во-первых, взыграло мое исследовательское самолюбие: как это так я по данной теме – ни в зуб ногой? Хасидизм, разумеется, не относится к области моих непосредственных интересов, и все же оставлять такие пробелы, пусть даже на периферии, конечно, не следует. Всегда кто-то может ядовито спросить: «А что вы, уважаемый господин Зенковский, думаете по этому поводу?» Вот тут-то я ему и – преподнесу. А во-вторых, элементарно захотелось помочь бедному российскому историку, измученному патриотической трескотней и придавленному вертикалью власти. Тяжела, наверное, эта державная вертикаль? Или отсюда, из края либеральных свобод, она выглядит страшней, чем на самом деле?.. И ведь не сумел я, дурак такой, сообразить, что ни одно доброе начинание не остается безнаказанным. Вылетело из головы, что еще Талейран когда-то предупреждал: бойтесь первых порывов души, они самые благородные.
В общем, оказавшись на прошлой неделе в Нью-Йорке, где у нас проходил очередной «философический семинар», я за рюмкой чая осторожно поинтересовался, кто может что-то сказать за осовецких хасидов, и мне в один голос посоветовали обратиться к ребе Шлемону, который возглавляет одну из тамошних нью-йоркских общин, – если уж он не знает, то не знает никто. Ну, я попросил, чтобы меня ему рекомендовали (надеюсь, что и он обо мне тоже хотя бы мельком слыхал), подъехал к синагоге на соответствующей авеню и после долгого ритуального танца, выказывающего уважение, без чего в беседе ни с одним цадиком, ни с одним раввином не обойтись, наконец задал ему этот вопрос. И что ты думаешь? Уважаемый ребе, который Талмуд знает практически наизусть, подскочил, словно ему воткнули шило в зад, а потом произнес монолог, длившийся не менее двадцати минут, из которого следовало, что бльших мерзавцев, мошенников, жуликов, прохиндеев, отщепенцев и еретиков, искажающих начертание божье, которое запечатлено в Книге книг, мир сроду не видывал и не увидит, по мнению ребе, в ближайшую тысячу лет. Ни один благонравный еврей не должен о них даже упоминать… Я, честно признаюсь тебе, слегка ошалел. Конечно, цадики, как известно, не испытывают друг к другу особой любви: святой есть святой, и никаких других святых, кроме умерших, он в принципе не признает. Но тут было что-то особенного. Уже давно, пожалуй с полузабытых российских времен, я не внимал такой богатой обсценной лексике с использованием такого разнообразия грамматических форм. Причем словаря иврита ему с очевидностью не хватало: время от времени ребе Шлемон переходил на великий и могучий русский язык и так при этом разгорячился, что дважды, ярстно жестикулируя, сбивал с себя штраймл (такая хасидская ритуальная меховая шапка наподобие колеса). На крик его прибежали еще четыре еврея и сначала почтительно цокали, восхищаясь, по-видимому, образной речью ребе, в чем тот, нельзя отрицать, преуспел, но потом весьма недвусмысленно начали указывать мне на дверь. Пришлось, сам понимаешь, уйти. Однако ребе Шлемон проводил меня чуть ли не до такси, потрясая руками и продолжая свой монолог. Мы уже ехали по авеню, а он все стоял и выкрикивал что-то вслед, пугая шофера. Хорошо еще, херем (проклятие) не наложил, забыл, наверное, а то как бы я дальше жил?
Вот, старик, такой получился абзац. Но это лишь присказка, далее начинается самое интересное. Буквально в день моего возвращения из Нью-Йорка в Иерусалим мне позвонил некий молодой человек и, представившись сотрудником Центра по изучению иудаизма одного из провинциальных американских университетов (где такой Центр, как я знаю, действительно есть), попросил уделить время для небольшой консультации. Встретились мы с ним на следующее утро в кафе, и этот молодой человек, кстати визитки не давший и представившийся просто Арон, наговорил мне множество комплиментов, с некоторой запинкой перечисляя названия моих книг (видимо, как раз перед встречей лихорадочно их зубрил), заверил, что он давно является моим последователем и восхищенным учеником, что он счастлив наконец узреть воочию человека, перед которым преклонялся всю жизнь, а далее безо всякого перехода спросил, чем вызван внезапный мой интерес к осовецкому хасидизму и какими материалами я на эту тему располагаю. Я довольно легкомысленно ответил ему, что, вообще говоря, хасидизм, тем более такого крайнего толка, в сферу моих интересов отнюдь не входит, я просто наводил справки по просьбе одного моего коллеги и старого друга; вам, видимо, следует обратиться к нему. Молодой человек немедленно поинтересовался фамилией моего старого друга, с которым, как выяснилось, он просто жаждет установить прочный рабочий контакт, и вот тут, старик, до меня наконец дошло. Все-таки не зря я первые двадцать пять лет жизни провел в СССР. Я выпрямился, принял холодный академический вид и надменным голосом заявил, чтобы он таки не морочил мне голову: если он из «Моссада», пусть так прямо и говорит. Я таки хочу знать, чем вызван этот допрос? И представляешь, старик, что самое удивительное? Молодой человек, этот Арон, вдруг засмущался, как девушка, и покраснел. Несколько минут он бормотал что-то невразумительное, ерзал на стуле, чертил пальцами по столу, а потом, извинившись, сказал, что ему требуется позвонить. Сквозь распахнутое окно я видел, как он говорит – зачем-то горбясь и прикрывая трубку рукой. За сто метров было понятно, что человек ведет секретные переговоры. А когда минуты через четыре он вернулся в кафе, то, по-прежнему краснея и запинаясь, сказал, что он действительно из «Моссада», удостоверение мне показал и признался, что им было бы очень важно выяснить фамилию моего друга. Если я, конечно, сочту возможным ее назвать. Знаешь, этот Арон был трогателен в своей наивности. У него пламенели даже мочки ушей. Ну, тебе, вероятно, можно не объяснять, как я, проведя молодость в Советском Союзе, отношусь ко всякого рода спецслужбам. И хотя «Моссад» – это, конечно, не КГБ, но формат тот же самый – ползание по крысиным ходам. Терпеть этого не могу. В общем, я тем же тоном ему заявил, что никаких сведений ни о ком никому давать не обязан, что я ученый, а не проплаченный «крот» в научной среде и чтобы больше ко мне с подобными предложениями не обращались – в противном случае я буду вынужден этот наш разговор огласить. Тогда мой Арончик совершенно завял. Он стал похож на студента, который пришел на экзамен абсолютно неподготовленным. Рассчитывал, вероятно, на чудо, а чуда не произошло. Мне даже стало его немножечко жаль. Стажер, наверное, еще практикант, и вот пожалуйста, провалил первое же задание. На том мы с ним и расстались. Причем Арончик на прощание пролепетал, чтоб я, если вдруг передумаю, обязательно ему позвонил.
Загадочная история, не находишь? Не думаю, что в «Моссад» стукнул сам ребе Шлемон, скорее – кто-то из его близких учеников. Напомню, кстати, что израильская разведка считается одной из лучших в мире, и это не «этнический нарциссизм», как ты где-то писал, а установленный медицинский факт. Если уж она что-то почуяла – будет копать. А теперь скажи мне, пожалуйста – чем это ты в действительности занимаешься? Какое осиное гнездо ты разворошил? Это случайно произошло или, может быть, ты ввязался по глупости в какой-нибудь полукриминальный гешефт? Старик, на тебя это не похоже. Ты всегда был человеком разумным и от такого рода вещей старался быть в стороне. Или я чего-то не понимаю? Имей в виду, хоть я твоей фамилии героически не назвал, но выяснить ее, как мне кажется, труда не составит. Так что будь на всякий случай готов. И это, по-моему, одна из самых неприятных сторон, которой обладают спецслужбы любой страны. Они заражают подозрительностью все вокруг. Теперь, общаясь с любым человеком, ты будешь думать, он просто так разговаривает с тобой или скачивает информацию, чтобы представить соответствующий доклад? Ладно, мое дело – предупредить, а дальше сам уж соображай – где, что и зачем.
Скажи лучше, как ты живешь? По-прежнему, дыша пылью веков, лелеешь гениальные замыслы? Если так, молодец! Это я тебе говорю и как человек истинно русский, и как слегка сумасшедший еврей. Жить надо так, чтобы вокруг было сияние. Иначе скучно, старик! Скучно, муторно, сперто, как в тараканьей норе. Да, и, чуть не забыл, как там неутомимый наш Еремей? Мне тут случайно попалась в руки пара его публикаций. Одна о державности, коя есть историческое предназначение великой России, а другая о врожденной духовности русской нации, коя опять-таки есть ее исторически предначертанная судьба. Очень своеобразный концепт! Наш Ерик что – ударился о православный патриотизм? Так ведь недолго и голову зашибить. Нет, пора-пора, чувствую, посетить мне мою малую родину, все-таки не был там – страшно представить – аж двадцать лет! Целая жизнь, можно сказать, прошла. Говорят, что у вас уже и на улицах перестали стрелять, и медведи по Невскому больше не бродят, и водку, трудно поверить, продают на каждом углу. Так что жди, постараюсь приехать где-нибудь в октябре. Заодно и Ерику вправим мозги. Жалко, честное слово, совсем пропадет человек. В общем, до встречи, ауфвидерзеен, чао, гудбай, или как говорят на другой моей малой родине, лы хаим!..
Я иногда сочувствую этому мальчику. Иллюзии его развеиваются, превращаясь, как выразился один из философов, в «слепое ничто». Облетает декоративная позолота, вздуваются пузыри, сквозь фантомы сладкого бытия проступает облупленная фанера.
Вот он приходит в семинар профессора Милля, и под лампой, похожей на керосиновую, висящей в ребрах цепей над громадным дореволюционным столом, под звяканье мельхиоровых ложечек, в разговорах, в слоях дыма от сигарет с ним происходит преображение, которого сам он первоначально не замечает. Дремота неведения сменяется разрушительным знанием, смутные предчувствия и догадки кристаллизуются в сердце и начинают покалывать изнутри, картина мира разламывается на фрагменты и пересоставляется, оказываясь совершенной иной. Это своего рода ментальный метаморфоз, принудительное взросление, прощание с остатками детства.
Собственно, никакого семинара формально не существует. Просто два раза в месяц, по четвергам, Евгений Францевич Милль, профессор кафедры, доктор наук, приглашает избранных студентов к себе – якобы для консультаций по курсу, который он им читает.
Странная эта фигура, Евгений Францевич Милль. Ничего определенного им, студентам, о нем, разумеется, не известно. Однако по случайным обмолвкам, по догадкам, по слухам можно понять, что учился он в Московском университете у самого Е. В. Тарле, сотрудничал с Платоновым, Любавским, Готье (дневник которого мальчик прочтет значительно позже), был вместе с ними арестован по «делу четырех академиков», вернулся из ссылки в середине тридцатых годов, снова был арестован в начале пятидесятых, после смерти Сталина вновь вернулся, только почему-то уже не в Московский, а в Ленинградский университет. С тех пор более тридцати лет преподает на историческом факультете.
Не из этой эпохи был человек. Гостей встречал в мягком клетчатом пиджаке, который на лекции, естественно, не надевал, обязательно – галстук (это ж надо – дома галстук носить!), очки, похожие на пенсне, бородка, как у товарища Луначарского. Квартира вообще – будто царского времени: театральные бархатные портьеры, бронзовые, со звериными головами ручки дверей, вместо стульев вокруг стола – тяжелые кресла, стены даже не в фотографиях, а, насколько можно было понять, в расплывчатых коричневатых дагерротипах, несколько небольших странных картин, про одну из которых Зенковский шепотом пояснил, что это сам Фальк. Имя мальчику ничего не сказало. Непонятно было, как это все пронеслось сквозь революцию, войну и блокаду. Прошлое, отвердевшее в неких культурных формах. Когда темнело и зажигалась та самая лампа, сияющая раздутым стеклом, казалось, что из черноты за двумя окнами, обращенными в колодезный двор, смотрит на них вовсе не Ленинград, уютный, спокойный, привычный, а все тот же мрачный, лихорадочный Петербург, сотрясаемый голодом, тифом и безумной революционной стихией. Шагают суровые отряды матросов, прибывших из Кронштадта, становится у Николаевского моста легендарный крейсер «Аврора», нечеловеческая энергия исходит из Смольного, где за стенами в метр толщиной мечутся в приступе социального творчества Лев Давидович и Владимир Ильич. Всё, «социалистическая ггеволюция, о необходимости котоггой так долго говоггили большевики, свеггшилась!.. Ура-а-а!..» А теперь – танцы, ехидно добавлял Ося Зенковский.
Собиралось обычно человек десять-двенадцать. По какому принципу Евгений Францевич их отбирал, тоже оставалось неясным. Во всяком случае, не по принципу высоких отметок. Еремей, например, выше четверки редко когда получал, но на «тайные четверги» приглашен был одним из первых.
Здесь и распадаются юношеские иллюзии. Заходит, например, разговор о Керенском. Кто-то иронически хмыкает, что, дескать, совершенно никчемный был человек, нерешительный, слабый, только напыщенные речи произносил, что ему стоило задавить куцые силы большевиков, ведь диктатор, главнокомандующий, в распоряжении его десятимиллионная армия, царь и бог… Кажется, это высказывается Еремей. Евгений Францевич поднимает в ответ жесткий указательный палец. Нет-нет, Александр Федорович человек был совсем неплохой, гораздо лучше, чем те… к-г-м… кто пришел после него… Вы, кстати, помните, вероятно, что он из Симбирска? Семьи Керенских и Ульяновых одно время связывали дружеские отношения. Отец Александра Федоровича был директором гимназии, где учился Володя Ульянов, и потом именно он дал брату казненного политического преступника положительную характеристику для поступления в Казанский университет… А что касается революционных событий… Вы поймите, революция – это что-то вроде первой любви. Она преисполнена вдохновенных надежд. Кажется, что вот свергнем царя, разгоним охранку, полицию, бездарных царских министров – тут же наступит всеобщее счастье. Знаете, какой в марте семнадцатого года был необыкновенный порыв? Какой это был божественный, животворящий воздух свободы? Вся Россия тогда надела красные банты. Питирим Сорокин, которого не заподозришь в сочувствии большевикам, писал: «Страна ликовала… И в Петербурге, и в Москве народ гулял, как на Пасху». А фокусируется всеобщий восторг, разумеется, на вожде. Почитайте хоть Зощенко, например. Он это время застал. Во время выступлений Керенского женщины просто рыдают – вскакивают, кричат, бросают ему цветы, его несут на руках, люди тянутся, давятся, чтобы прикоснуться к нему. Газеты пишут, что «Керенский – это символ правды, залог успеха», «Керенский – это тот маяк, тот светоч, к которому тянутся руки выбившихся из сил пловцов», «рыцарь революции», «львиное сердце России», «гений русской свободы», «спаситель Отечества», «народный вождь»… Его воспринимают как нового Иисуса Христа. Все жаждут от него мгновенного чуда. Все жаждут стремительного волшебного преображения уставшей страны. Все ждут, что после долгих лет поражений, застоя, политической духоты возникнет, как театральный миракль, царство социального благоденствия. А с чего это оно вдруг возникнет? Экономика в катастрофическом состоянии, продовольствия не хватает, продолжается изнурительная, бессмысленная мировая война, гниют окопы, губернии выходят из подчинения, вылазит, будто из-под земли, приободрившийся после разгона полиции криминал. Проваливается злосчастное июньское наступление, которым командовал, замечу, легендарный Брусилов. Чуда не происходит. Жизнь становится явно хуже, чем до революционного поворота. И кто виноват? А виноват, разумеется, тот, кто поманил всех сладостными мечтами, кто обещал свободу, демократию, справедливость, а в результате, как фокусник на дешевой ярмарке, обманул. Настроение меняется на противоположное. Керенскому понадобилось всего полгода, чтобы от восторженного обожания, от всеобщего преклонения и любви перейти к статусу чуть ли не самого ненавистного человека в стране. Никто не хочет его защищать. Большевики сметают Временное правительство, как труху.
– И все-таки Керенский был талантливый человек. Между прочим, самый молодой не монархический правитель России в двадцатом веке. Ему всего тридцать шесть лет. Остальные были значительно старше него… Просто в каждой революции, имейте это в виду, есть короткий период грез, когда важны именно возвышенные слова. Они исполняют роль социальной анестезии – рождают готовность к жертвам, необходимым для последующего пути. Александр Федорович это, несомненно, умел. И на какое-то время он очаровал всю Россию. Очаровал и правых и левых, и верхи и низы, и народ и интеллигенцию, очаровал, представьте, даже свергнутого царя. Николай Второй в июле тысяча девятьсот семнадцатого записывает в своем дневнике: «Этот человек положительно на своем месте в нынешнюю минуту; чем больше у него власти, тем лучше». А сам Керенский уже в конце жизни заметил, что «если бы тогда было телевидение, никто бы меня не смог победить!» И тем не менее в любой революции после периода слов наступает период действий, время, когда нужно не очаровывать, а вопреки всему – созидать; творцам зыбких иллюзий приходится опираться уже не на эффектные речи, а на реальную силу, которой у них, как правило, нет… Фатальная ошибка Керенского заключалась, видимо, в том, что он не смог, когда это потребовалось, договориться с военными. Помните подавление корниловского мятежа? Впрочем, был ли мятеж – это еще тоже вопрос. Первоначально войска генерала Крымова двинулись на Петроград, чтобы навести там порядок, по распоряжению самого Александра Федоровича. А уж потом он вдруг начал кричать о контрреволюционном заговоре, мятеже… Ладно, это отдельный сюжет… Однако союз, который олицетворяли бы Керенский и Корнилов, вероятно, мог бы остановить сползание к гражданской войне. Он был приемлем и для умеренных социал-демократов, и для коалиции правых сил, имеющих влияние на военных. Так, в частности, произошло в Германии после Ноябрьской революции, когда свергли кайзера Вильгельма Второго. Лидеры немецких военных и лидеры немецких социалистов сумели заключить между собой договор: генералы обещали поддерживать новый республиканский строй, а вожди социал-демократов обещали сберечь ядро армии даже в условиях военного поражения. Многие участники этого соглашения друг друга терпеть не могли, ненавидели, скрипели зубами, но – понимали взаимную политическую необходимость. В результате малые гражданские войны, вспыхивавшие в различных землях Германии, не переросли в большую внутреннюю войну. Конечно, в Баварии и Бремене устанавливалась советская власть, по Руру маршировала местная Красная армия, в Саксонии выходили на парад «пролетарские сотни», в старинных ратушах провозглашалась диктатура пролетариата. Однако генералы беспощадно давили левых, а социал-демократы обеспечивали армии политическую поддержку. С другой стороны, когда экстремистски настроенные офицеры поднимали мятеж, находилось необходимое количество войск, чтобы правительство могло им противостоять…
– А в итоге к власти пришел Гитлер…
Кажется, это опять вклинивается Еремей.
– Нет, Гитлер пришел к власти вовсе не потому. Гитлер пробился наверх, поскольку немецкие коммунисты, собиравшие, кстати, на выборах немалое количество голосов, согласно доктрине товарища Сталина, лично определявшего, кто есть друг, а кто враг, отказались от союза с социал-демократами. Воевали не против фашистов, а против своих. Бесноватый ефрейтор просто воспользовался ситуацией. А укрепиться ему помогли еще и дебильные игры европейских политиков: сначала сдали Гитлеру демилитаризованную Рейнскую область, потом Австрию – это март тридцать восьмого года, аншлюс, далее – вполне боеспособную Чехословакию – имела крепкую армию и сражаться могла. Выращивали дракона, чтобы натравить его на СССР. Дракон вырос и начал жрать всех… А возвращаясь к нашему Керенскому, скажу, что умер он, обратите внимание, в тысяча девятьсот семидесятом году. В возрасте почти девяноста лет. Пережил, между прочим, всех своих политических конкурентов. В конце жизни, по слухам, просил разрешения приехать в Советский Союз, вроде бы даже и разрешили, что-то там не срослось…
Вот такие у них в семинаре вспыхивают разговоры. Температура дискуссий порой достигает критических величин. Странно, что не дымятся бархатные портьеры. Милль внимательно слушает каждого – даже явную, от студенческого смущения, ахинею. Только изредка тем, кто чересчур увлекается, постукивая пальцем о стол, говорит: «Пожалуйста, без аналогий…» Имеется в виду, что не следует проводить никаких параллелей с сегодняшним днем. А однажды, выдержав для солидности паузу секунд в шестьдесят, просит: «Ребята, пожалуйста, не болтайте. Вот вы болтаете бог знает что и бог знает где, а меня будут потом вызывать, расспрашивать, допытываться подробностей, мне придется врать, а я этого не люблю…»
Еремей после хмуро бурчит:
– Сам ведь провоцирует. Мало было ему…
А Зенковский или, может быть, Юра Штымарь отвечает:
– Немало, наверное… Потому – не боится уже ничего.
Мальчик искренне не понимает, как это – не бояться. Он читает, как раз в те дни получив Солженицына, что еще в начале двадцатых годов – и у власти, заметим, не Иосиф Виссарионович, а Владимир Ильич – в знаменитом СЛОНе (Соловецкий лагерь особого назначения) политического заключенного привязывали к бревну, спихивали с горы – дробились кости, из человека вытекали раздавленные жидкие внутренности. Или там же – человека привязывали к оглоблям и пускали лошадь по вырубке, откуда торчали пни, в яму сбрасывали потом кровавый шмат мяса. А чуть позже, уже в тридцатые годы, ставили в каменные пеналы на несколько суток, вбивали гвозди в уши, выкалывали глаза. Да просто били ногами – человек ворочался на полу, как раздавленное насекомое… И это пламенные революционеры, социалисты, верные ленинцы, большевики, несгибаемые борцы за счастье трудового народа. Романтические «пыльные шлемы» сюда явно не вписывались… Воистину все было не так… Правда, ныне это вроде бы уже отошло. Но кто знает? У каждой эпохи – свои тайные заморочки. Какие-то невнятные слухи докатывались и сейчас. Вроде бы тех, кто пытается выйти из строя, запихивают в психиатрические больницы. Говорили также, что горят мастерские «свободных художников»: одного нашли после пожара зарубленного топором. Солженицына к тому времени уже выслали из страны, академика Сахарова, напротив, сослали в Горький. А однажды вдруг выступил по телевизору некий тщательно приглаженный диссидент: опуская глаза к листку бумаги, не попавшему в кадр, каялся в ошибках и прегрешениях.
Мертвым страхом веяло от этого голоса.
Ося Зенковский тогда сказал:
– Ну – сломали его.
– Как сломали?
– А вот так, – и, сжав кулаки, переломил о колено невидимый прут.
Кажется, даже послышался хруст.
Разумней, конечно, было бы не ходить ни в какой семинар. До пупырчатой кожи могла напугать одна лишь система по добыванию и чтению книг. Функционировала она следующим образом. Надо было, особенно не напирая, как бы между прочим обмолвиться Миллю, что именно ты хочешь прочесть. Евгений Францевич тоже как бы между прочим кивал, ничего не записывал, продолжал разговор, со стороны могло показаться, что вообще сразу же забывал. Однако через пару дней звонил некий Митя и предлагал встретиться. Привозил либо «посевовский» экземпляр, либо, в папке, машинописную копию на папиросной бумаге. Никаких компьютеров в те времена, разумеется, не было. «Эрика», механическая пишущая машинка, если лупить по клавишам изо всех сил, брала только пять копий, теневой бледный шрифт разобрать можно было с большим трудом. А вернуть книгу следовало через три дня. Митя строго предупреждал, чтобы не вздумал перепечатывать или кому-то давать. Образцы шрифтов, старик, у них есть. Так же строго напоминал, что к Евгению Францевичу это никакого отношения не имеет. Я вообще такую фамилию никогда не слыхал. В случае чего следовало отвечать чистую правду: позвонил некий Митя и предложил почитать за деньги. Действительно, брал за каждый экземпляр три рубля. Старик, а бумагу я на что покупаю? А ленту к машинке? А труд мой чего-то стоит? Попробуй перестучи, погорбаться восемьсот с лишним страниц!.. Ни своего телефона, ни тем более адреса не давал. Имя у него, вероятно, тоже было другое. Первый раз мальчик все три ночи не спал – ждал звонка в дверь, который по традиции должен был грянуть именно в ночной тишине. Все-таки за Авторханова или Солженицына срок наматывали немедленно. Потом как-то привык. Есть все-таки в человеке что-то сильнее страха.
Правда, и время уже размягчалось, как пластилин. Империя угасала, в самом дряблом воздухе ощущалось предвестие пустоты. Умер наконец Брежнев, казавшийся вечным и убаюкивавший страну громадными бессодержательными речами, тут же умер пришедший было на смену ему Андропов, невнятным пятном проступил Черненко, запомнившийся лишь в анекдоте про человека, который «поддерживал» его на трибуне; пришел некий Михаил Горбачев, поразивший всех тем, что пробовал говорить без бумажки. Грянула идиотская антиалкогольная кампания, породившая в винных магазинах километры очередей. Начались такие же идиотские разговоры о каком-то мифическом «ускорении». Дескать, стране необходимо интенсивное социально-экономическое развитие. Мелькнуло странное слово «гласность», и неожиданно, с энергией воробья, запорхало по страницам газет. Как это прикажете понимать? Начали пробуждаться какие-то слабенькие надежды. Евгений Францевич, правда без особого энтузиазма, сказал, что в условиях «опаздывающих изменений» любое реформаторское движение смертельно опасно. Система заизвестковалась, ее нельзя трансформировать, можно только разрушить. Причем стоит лишь тронуть – и все само собой начнет оползать. Процесс станет исторически необратимым. Привел в пример Английскую революцию 1649 года, Великую французскую революцию, Октябрьскую революцию, после которой Россия надолго погрузилась во мрак. Выглядело это несколько странно: какая может быть революция в СССР?..
– Почему, собственно, нет? – удивлялась Нинель. – Ты же историк и знаешь, что вечных государств не бывает. А финал государства – это всегда либо революция, либо война. Либо, если не повезет, – и то и другое одновременно… А главным признаком приближающейся революции является знаешь что? Догадайся! Наличие анекдотов про власть! Как только про власть начинают рассказывать анекдоты, всё, можно с уверенностью утверждать: этой власти – конец.
Она небрежно пожимала плечами. Мальчик лишь изумлялся – впервые слышал, как она говорит. Откуда вообще эта фифа взялась? Борис Гароницкий, который был старостой семинара, как-то шепотом, пока ждали на лестнице, пояснил, что – из Педагогического института, и не историк вовсе, а будущий учитель литературы, была на лекции Евгения Францевича, которую он там однажды читал, по-девичьи воспламенилась, всеми правдами и неправдами достала его телефон, напросилась в гости, пришла один раз, другой, умолила, чуть ли не со слезами, позволить ей присутствовать на «четвергах». Якобы дала клятву во время заседаний молчать, и действительно, в течение года не произнесла ни слова, сидела в кресле, как изваяние, лишь иногда бесшумно выскальзывала и исчезала в недрах квартиры, минут через десять вкатывала столик с чаем и бутербродами – жену Милля, Маргариту Викентьевну, мальчик, как и все остальные, лицезрел один-единственный раз, графиня прежних времен: букли, орлиный нос, пронзительная синь зрачков, серый жемчуг на шее, к гостям она практически не выходила. Бутерброды же по большей части пожирал Еремей. Поглощал их с кошмарной скоростью, как снегоуборочная машина, только прыгал на шее кадык: вверх-вниз, вверх-вниз! Среди присутствующих он был единственным иногородним. Иногда, напиваясь, кричал: «А ты знаешь, что такое Моршанск?.. Поживи в Моршанске хоть год, дерьмом тамошним подыши, потом уже выступай!.. Вы, городские, заевшиеся, вообще этого не понимаете!..» Страшноват становился в такие минуты, выступала вперед лесенка кривоватых зубов. Обитал в общежитии, очень мучился из-за денег, подрабатывал на кожевенной фабрике, прятавшейся среди окраинных тупичков, иногда от него ощутимо попахивало черт те чем, зато когда поздним вечером (опять же возвращались от Милля) вынырнула им навстречу из подворотни троица в надвинутых кепарях и по моде тех лет угрожающе потребовала закурить, Еремей цыкнул зубом и равнодушно спросил: «Чив-во?..» – троица тут же слиняла, он плюнул им вслед: шмакодявки…
А Нинель мальчик тогда проводил до дома. Шли почему-то вкружную, описав по вечерней Коломне громадную, поперек заката дугу. Уже, конечно, не вспомнить, о чем был суматошный, спотыкающийся разговор. Кажется, о Хейзинге и Броделе – мальчик тогда увлекался «историей повседневности». Однако вот что врезалось навсегда: поворачивая с Пряжки на Мойку, перегороженную в том месте броней адмиралтейских ворот, он вдруг спросил – а знает ли она, что означает имя Нинель? Это ведь Ленин, если читать слово наоборот, мягкий знак добавлен, чтобы придать произношению женственность. Нинель суховато ответила, что, разумеется, знает. А еще были тогда Октябрина, Вилора и Даздраперма, сказала она. Ничего удивительного: революция – это сотворение мира. Как бог, создав небо и землю, провел животных перед Адамом, чтобы тот дал им имена, так поколение, вступающее в преображенный мир, именует его на своем собственном языке. В новом мире все должно быть иным: слова, одежда, человеческие отношения, вспомни хотя бы теорию «стакана воды»…
Расстались они там, где темнел хвоей Румянцевский сад. Мальчик потом долго раздумывал, что она имела в виду. О теории «стакана воды» он, конечно, читал: подразумевалось – в упоении первых послереволюционных побед, – что половая потребность не должна обременять человека: удовлетворить ее так же просто, как выпить стакан воды. Поддерживала и благословляла лично госпожа Коллонтай… Так вот что Нинель, упоминая об этом, имела в виду? А бог его знает, что она там имела в виду. Когда через две недели вновь встретились на семинаре, даже не повернула в его сторону головы. Полное отчуждение. Как будто он ее до дома не провожал. Как будто не стлал по асфальту полосы багровый закат. Потом вообще исчезла – ни телефона, ни адреса, ничего.
Однако все это было несколько позже, а тогда, после бурного заседания, где Евгений Францевич говорил о закономерностях революций, вышли втроем на изгибающийся канал, спустились к воде, сели на гранитных ступеньках. Еремей по обыкновению вытащил из портфеля бутылку портвейна – аккуратно выпили, задышали, оглядываясь, нет ли милиции, потом он, закурив мятую «шипку», сказал, что вот сколько трендим, два года уже, а никто ни разу не заикнулся, что Октябрьской революцией руководили евреи. Почему Милль об этом молчит?
– А ты спроси у него, – лениво посоветовал Юра Штымарь.
– Ну да, спроси у него! Сам спроси!..
– А что? Он же из немцев, – сказал Юра Штымарь.
– Ну да, знаем мы таких немцев по фамилии Милль…
Грезилось впереди лето. Спорить никому не хотелось. Гранит был горячий, в окнах на другой стороне пылал стеклянный ослепительный жар. На него было больно смотреть.
Плыл дымным мороком тополиный пух по воде.
Прокатывался по набережной шелест редких машин.
Мальчик прикрыл глаза.
Он был счастлив.
Медленно, словно боясь самого себя, проступало сквозь напластования духоты невнятное будущее.
Теперь немного о Юлии.
Есть женщины, сделанные из промозглых сумерек. Рядом с ними все время ощущаешь в душе зябкую дрожь. Ее не может преодолеть даже любовь. Впрочем, любви здесь нет – есть страсть, которая вспыхивает на мгновение и тут же захлебывается, оставляя после себя удушливый чад… Есть женщины, сделанные из пластмассы. От них любые слова отскакивают, как теннисный мяч. С одной из них я, помнится, столкнулся как-то на радио: она притащила с собой распечатку в двести с лишним машинописных страниц и все время пыталась зачесть оттуда ряд цифр. Во время рекламных пауз мы с ведущей пытались ей объяснить, что десятые доли процента слушателей не интересуют. Скажите то же самое, но простым языком. Девушка вроде бы соглашалась, но потом вновь хваталась за текст и опять порывалась зачесть ряд цифр… Есть женщины, сделанные из дерева – о них больно царапаешься, есть женщины, сделанные из металла – о них ушибаешься до синяков. Есть женщины, сделанные из пластилина – они такие, какими их хочет видеть партнер. Этих, кстати говоря, большинство. Есть женщины, сделанные из плюша, есть женщины, сделанные из серенького осеннего дня. Есть женщины, сделанные из колечек и рюшечек, есть из приторного сиропа, есть из кошачьего требовательного мяуканья, назойливо вворачивающегося в мозг. И, наконец, есть женщины, сделанные из солнечного тепла. Встречаются они очень редко, но если уж встретишь, угадываешь это каким-то чутьем. По крайней мере, у меня именно так. И так же абсолютно точно угадываешь, что это не спонтанный эротический резонанс, чисто временный, который можно без труда исчерпать, а нечто совершенно иное: вдохновение бытия, что-то начальное, питающее основу всего, энтелехия, если пользоваться определением Аристотеля, то, что превращает предполагаемое в реальное, безличное существование – в жизнь.
Вот этот внутренний жар у Юлии, несомненно, был. Уже через пару дней мы с ней общались, как давние, чуть ли не с детства знающие друг друга приятели – подолгу сидели за чаем, который она заваривала у себя в закутке, непринужденно болтали, вместе ходили обедать в кафе, расположенное через площадь наискосок. Проступала жизнь, сотканная из провинциальной судьбы. Юлии было двадцать семь лет, она родилась и выросла здесь, в Осовце, окончила библиотечный техникум, который, кстати, сразу же после этого был закрыт, и вот уже четыре года пребывает в архиве – вся работа на ней, Елизавете Ануфриевне не до того, у нее множество общественных дел. Странная это была судьба: живешь не так, как хочешь, а как диктует болотце, где проклевываешься из лягушачьей икры. Смотришь не на небо, не ввысь, а в заросли осоки и камыша. Принимаешь тину и ряску, окружающую тебя, за весь мир. А если бы в Осовце был текстильный техникум, так что – работала бы текстильщицей? А если был бы техникум железнодорожный – стала бы проводником?
Хотя представить Юлию текстильщицей или проводником я не мог. Она, казалось, с рождения была предназначена для бесплотных архивных теней – чтобы неслышно бродить между дремлющими стеллажами, перебирать карточки в картотеке, копить папки со жмыхами ушедших времен; ангел невостребованных знаний, гений места, материализующийся лишь тогда, когда здесь раз в тысячу лет появляется живой человек. Между прочим, призналась мне, что всегда интересовалась историей:
– Ведь они, те, кто были, не умерли, правда, они так и живут? Вообще хочется знать – как там было на самом деле…
На этом мы с ней сразу же и споткнулись, поскольку я имел неосторожность сказать, что за этим «на самом деле» скрывается множество бездн, куда далеко не каждый рискнет заглянуть. Мы ведь знаем не подлинную историю, а ее идеологические отражения, не то, что было, а то, что, по нашему мнению, должно было быть. За кого, например, Русь сражалась на Куликовом поле? Был законный наследник ханского престола в Орде, Тохтамыш, и был Мамай, самозванец, пытавшийся узурпировать трон. Русь сражалась за Тохтамыша против Мамая, то есть, говоря проще, за Орду, а вовсе не против нее. К тому же иго после этого «сокрушительного поражения» татаро-монголов держалось еще ровно сто лет. Четыре поколения, между прочим, очень не малый срок. А через два года – подчеркиваю, всего два года прошло – Тохтамыш в качестве благодарности, видимо, вторгся на Русь и без особых усилий сжег Москву. Я уж не говорю, что топография поля сохранилась до наших дней – триста тысяч бойцов, как пишут в некоторых учебниках, разместиться там физически не могли… Где это героическое сражение? Для кого кричали лебеди над Непрядвой?.. Это просто «московская версия» русской истории. Если бы в конкуренции за столицу Руси ваша Тверь победила в свое время Москву – а замечу, что такой шанс у нее, несомненно, был, – то мы знали бы сейчас «тверскую версию» русской истории и о Куликовской битве скорее всего не слышали бы вообще… С остальным, кстати, тоже не лучше. Гениальный план Кутузова по заманиванию Наполеона в глубь России, план растягивания коммуникаций, в самом деле талантливый, парадоксальный и полностью оправдавший себя, предложил императору Александру I совершенно забытый сейчас австрийский генерал Карл Пфуль, осуществлял этот план большей частью Барклай-де-Толли, Бородинская битва, как считают некоторые военные, была вообще не нужна: Наполеон и без этого был бы вынужден оставить Москву – колоссальную армию в тех условиях ему было не прокормить… А знаете, чему удивлялись современники, которым не объяснили еще, что это наш Михайло Илларионович, оказывается, победил французов? Тому, что Кутузов расположил свою ставку на таком расстоянии от Бородино, что руководить битвой просто не мог. Любые распоряжения безнадежно опаздывали. Лев Толстой потом построил на этом целую философию: якобы битвой такого масштаба и нельзя было руководить, она разворачивалась как бы сама собой. По мнению современников, в Бородинском сражении командовали тот же Барклай-де-Толли и – до своего ранения – Багратион. Жозеф де Местр, в частности, об этом писал. Правда, де Местр, сардинский посланник, как считается, Россию не очень любил, к тому же – воспитанник иезуитского колледжа, что, вероятно, тоже имело значение…
– Вы знаете, кто такие иезуиты?
– Цель оправдывает средства, – немного подумав, говорит Юлия.
– Да, вот вам пример целенаправленно сформированной политической версии. Иезуиты не провозглашали этого никогда. Хотя, конечно, Игнаций Лойола был совершенно больной человек: с искалеченными ногами, ходил в рубище, изнурял себя невероятным постом, разговаривал с Пресвятой Девой, воочию, лицом к лицу, видел Иисуса Христа, на ступенях церкви, где простоял в молении несколько дней, плакал от радости, узрев Троицу в ее небесном единстве. Психопатологические отклонения, с нашей точки зрения, очевидны. Современная церковь сослала бы его в самый дальних приход. Ну это ладно! В данном случае имеет значение то, что в действительности иезуиты лишь подчеркивали взаимозависимость цели и средств: убийство – это несомненное преступление, если цель его – бытовая ненависть или грабеж, но оно оправдано на войне или в ситуации самозащиты. Просто когда орден иезуитов приобрел несомненный политический вес, против него началась упорная политическая борьба. Ни одна власть, ни светская, ни духовная, не потерпит другой власти рядом с собой. Эжен Сю тогда напечатал роман, где иезуиты были представлены законченными мерзавцами: плели заговоры, интриговали, обманывали, уродовали детей, да и Дюма, Александр, тоже их достаточно живописал. И ведь что интересно: почти полтора века прошло, а в народном сознании это так и осталось.
В общем, объясняю я Юлии, любая нация, любой сколько-нибудь активный народ создает о себе героический миф, своего рода этнодицею – оправдание этнического бытия. Миф свидетельствует о том, что данная нация всех победила, совершила тьму подвигов, преодолела немыслимые препятствия, образовала собственное государство и тем самым доказала свое право на существование. Акцентируются победы, а не поражения, акцентируется не то, что есть, а то, чему следует быть. История превращается в волшебное зеркало, где нация самозабвенно любуется своей красотой: своим мужеством, своим благородством, своей мудростью, коих у нее значительно больше, чем у других. Что такое Вторая мировая война для нас, россиян? Это битва под Москвой, Сталинград, сражение на Курской дуге. Что такое Вторая мировая война для западных стран? Это сражение при ЭльАламейне, высадка на Сицилии в 1943 году, высадка союзных войск в Нормандии в июне 1944… Англичане добавляют к этому «Сражение за Британию», битву между английскими летчиками и немецким люфтваффе в 1940 году, когда Гитлер готовил вторжение на острова, а американцы – борьбу с Японией на просторах Тихого океана… Спросите любого американца, кто выиграл Вторую мировую войну, и вы узнаете, что Вторую мировую войну выиграла Америка, а главная битва этой великой войны происходила у атолла Мидуэй, где военно-морской флот США разгромил объединенную эскадру японцев. Этнический нарциссизм – давняя и запущенная болезнь. Против самозабвенной любви к себе действенных лекарств нет.
Вот о чем мы разговариваем, гуляя по городу. Правда, это не разговор, а мой почти непрерывный многочасовой монолог. Никогда в жизни я столько не говорил. Даже когда, по-моему с излишней горячностью, ухаживал за Нинель. Странно, что Юлия, по большей части пребывая в молчании, не устает слушать меня. А она не только не устает, но еще и успевает, не слишком перебивая, показывать мне местные достопримечательности. Вот музыкальная школа в здании бывшей женской гимназии – здесь, между прочим, учился знаете кто?.. Вот дом купца Ениколова, сохранился, подлинный семнадцатый век. А вон оттуда, видите, где травяные поля, наступали войска Ивана Грозного, когда шли громить Осовец. Он подозревал измену в здешних боярах, сожгли половину города, людей набивали порохом и взрывали, отрубали им руки, топили в реке… Сталин ведь, наверное, не случайно одобрил эйзенштейновский фильм… Четыреста пятьдесят лет прошло. Петербурга вашего тогда не было и в помине…
Мы стоим у памятника борцам революции. Памятник из тяжелого чугуна, в каких-то каплевидных потеках. Он как будто каждый год плавится от жары. Бронза сияющей надписи извещает, что это И. П. Скворцов, первый большевистский комиссар Осовца. У комиссара Скворцова слегка озверелый вид. Глаза навыкате, скулы в судороге, полы кожаной курки вздымаются, точно дует невидимый ветер из-под земли. Здесь Юля произносит загадочную фразу, что вот отсюда все началось, но я, признаться, не вслушиваюсь – извергаю, как тетерев, очередной шизофренический монолог. Миф, говорю я, это то, во что верят все. Если реальность противоречит мифу, то побеждает не реальность, а миф.
– Вы, конечно, не помните советского времени, а вот я в достаточной мере его захватил и потому по собственному опыту могу утверждать, что практически весь советский народ, во всяком случае его гауссианское большинство, был абсолютно уверен, что несмотря на отдельные трудности, существующие здесь и сейчас, он живет в лучшей стране мира, за которой историческое будущее. Никакие факты не могли этого убеждения поколебать. Достаточно было посмотреть французские или итальянские любовные фильмы, которые к нам все же просачивались из-за рубежа, чтобы понять: и уровень жизни на Западе гораздо выше, и люди там пишут, печатают, говорят что хотят, и такого страха перед государственной властью там нет, и полиция, суд там стоят на страже гражданских прав и свобод. И все равно соскакивало со зрителей как с гуся вода. В советском мире, в царстве идеологического колдовства, миф побеждал реальность. Между прочим, это касается не только политики. Миф о «загадочной улыбке Джоконды» появился в искусствоведении чуть более ста лет назад. Один из критиков написал соответствующую статью. А до того ни о чем подобном никто, представьте, не подозревал. И что мы имеем в конечном счете? Теперь эту загадочную улыбку видят буквально все. Попробуйте только признаться, что вам ее не узреть. Фурцева, министр культуры СССР, однажды брякнула – до сих пор анекдоты рассказывают…
Или мы сидим на холме, откуда отрывается умонепостижимый небесный простор: раздолье ветных лугов, извилистая амальгама реки, бахромка синеватого леса, отчеркивающая собой горизонт, и я говорю, что поскольку, как уже установлено, Ирод Великий, царь Иудеи, умер за четыре года до нашей эры, то избиение младенцев в тот месяц, когда родился мальчик по имени Иисус, тоже произошло в это время. Хроникер, Дионисий Малый, составитель пасхальных таблиц, фатально ошибся. Христианское летоисчисление следовало бы отнести на четыре года назад. И двадцать пятое декабря, седьмое января по православному стилю, собственно Рождество, опять-таки случайная дата.
– Что же мы тогда празднуем? – спрашивает Юлия.
– Рождество Христово, конечно. Это как с улыбкой Джоконды – существует то, во что верят все…
Или мы стоим на площади у фонтана. Юля ловит капли воды и подносит мокрые пальцы к губам.
– Неужели вы в самом деле считаете, что Бородинская битва была не нужна?
Я отвечаю, что так считают некоторые военные специалисты. Что же до меня лично, то я думаю, что без генерального сражения под Москвой все равно было не обойтись. Нельзя было сдать Москву без боя – это было бы унижение всей России, национальный позор, Александру Первому, императору, это могли бы и не простить. Метафизика вообще сильней доводов разума, сильней всех расчетов – она существует в более высокой системе координат. Нельзя было сдать французам без боя Москву, нельзя было в Великую отечественную войну сдать Гитлеру Ленинград, нельзя было в мае тысяча девятьсот сорок пятого года отказаться от штурма Берлина, предоставив это англо-американским войскам. Это сильнее нас. Только так мы можем утвердить свое право на историческое бытие…
Не знаю, зачем я все это ей говорю. Вероятно, затем, что Юлия мне внимает – широко, как в преддверии чуда, распахивая глаза. Так, наверное, матросы в Кронштадте слушали товарища Троцкого, который громовым голосом предвещал великую победу социализма. Тысячи сознаний сливались тогда в одно, тысячи раскаленных дыханий рождали шторм, ревом и грохотом наполняющий мир. Начиналась иная эпоха, и мне тоже в эти необыкновенные июньские дни представлялось, что начинается у меня какая-то новая жизнь. Чувствовалось сильнейшее искушение: бросить все, остаться здесь навсегда, погрузиться в этот провинциальный зной, в многолиственную тишину, в сон часов, в эту завораживающую дрему, которая, вероятно, и есть любовь.
Глупо, наверное, это выглядело со стороны, но действительно бывают в жизни моменты, когда кажется, что можно все в ней изменить: куда-то уехать, сбежать, скрыться, уйти, жить по-другому, иначе, не так, как раньше, и это «не так, как раньше», этот новорожденный порыв, это преображение, спонтанный, точно у личинки, метаморфоз и будет настоящая жизнь.
Я, впрочем, как и в случае с Ирэной, не обольщаюсь. Никуда я, разумеется, не уеду, никуда не сбегу. Это женщины, как правило, живут в вечности, для них времени не существует: какая разница – прийти на полчаса раньше, на полчаса позже, – главное, чтобы прийти. Женщины поэтому не ходят, а шествуют, никогда никуда, ни при каких обстоятельствах не спешат. А мужчины, как правило, живут во времени, тиканье часов для них как голос неумолимой судьбы: жизнь коротка, надо вскарабкаться, получить, добиться, успеть, проявить себя, поднять знамя личных побед. Нет большего мучения для женщины, чем попасть во время, где реперы – это не рождение, любовь, жизнь и смерть, а мельтешение минут и секунд. И нет большего мучения для мужчины, чем оказаться в вечности, где ничто, ничто из того, что он прежде ценил, значения не имеет. Никакой интернет от этого не спасет. В провинциальной вечности я задохнусь через год… К тому же я понимаю, что если Юлия и внимает мне с девичьей восторженностью, то вовсе не потому, что я такой уж блистательный интеллектуал. Просто ей здесь не с кем поговорить. Работает комплекс Татьяны Лариной, усиленный гормональной тоской: «Вообрази: я здесь одна, / Никто меня не понимает, / Рассудок мой изнемогает, / И молча гибнуть я должна»… Я здесь почти ни при чем. Ей нужен не я, ей нужна другая жизненная среда.
Однако это уже ретроспективный анализ. Данные мысли появляются у меня несколько позже, когда я возвращаюсь из Осовца в Петербург, а пока все находится лишь на уровне ощущений. Пока мы просто гуляем по городу, едим серебряное мороженое в кафе, скрываемся под деревьями в парке во время дождя, сидим на скамейках, по очереди звоним в бронзовый колокольчик, пьем чай у Юлии в закутке, замираем в местном музее возле витрин, и главное – разговариваем, разговариваем, разговариваем, как будто вся наша быстротекущая жизнь, весь смысл ее, все наше существование, весь мир, который перед нами возник, все наше будущее и прошлое, все настоящее – состоит только из слов…
Эту трогательную идиллию прерывает звонок от Ирэны. Собственно, и до того Ирэна звонила мне по крайней мере два раза в день – проверить, на месте ли я, узнать, нет ли каких-нибудь новостей, передать информацию, которую она по моей просьбе искала. В частности, я, чисто интуитивно, попросил ее навести справки о синагоге хасидов, сто лет назад построенной в Осовце, и Ирэна – не знаю уж, как это ей удалось – раскопала решение Святейшего Синода Российской империи от такого-то года, месяца и числа, где действительно дается соизволение еврейской общине города Осовца возвести в городской черте «молельный дом для отправления религиозных обрядов согласно иудейскому вероисповеданию». Ничего нового в нашу картину этот факт, конечно, не внес, но всегда полезно иметь задокументированное по всей форме свидетельство.
Однако причина нынешнего звонка иная. Ирэна требует от меня, чтобы я немедленно посмотрел выпуск вчерашних петербургских «Вестей», переданный в семнадцать часов, и присылает ссылку на него в интернете.
Уже через двадцать минут я сижу в гостинице перед своим ноутбуком и, барабаня пальцами по столу, нетерпеливо вглядываюсь в экран. Большей частью передача жует рутинный официоз, где говорится, что губернатор, кстати только-только назначенный, что-то там посетил, осмотрел, ознакомился, принял в чем-то участие, с кем-то встретился, провел совещание, посвященное ряду проблем… обещал при этом модернизацию… финансирование… поддержку… усилить внимание… взять под особый контроль… Ну, и так далее, всякая чиновная лабуда. И только в самом конце, в сюжете, длившемся (я вычислил по хронометру) двадцать восемь секунд, ведущий скоренько сообщил, что днем в одном из дачных поселков под Петербургом возник сильный пожар, полностью сгорело строение на такой-то улице, владелец дачи, судя по всему, нашел смерть в огне, в настоящее время ведется расследование инцидента – и буквально несколько кадров, где крупно показано, как от груды сизых обломков поднимается дым. Адрес полностью совпадает с тем, что продиктовал мне учитель.
Не могу сказать, что меня хватило как обухом по голове. Более того, чего-то подобного я, видимо подсознательно, ожидал. Еще во время нашей беседы чувствовалась в учителе некая обреченность, некая исчерпанность жизни, которая длится лишь потому, что не положен на нее завершающий штрих. Повторяю: меня это не потрясло. И все же ощущение было не слишком приятное. Будто ночью, сквозь сон, доносится до тебя мокрый, отвратительный всхрап, и, проснувшись, в мелком поту, подскочив и остервенело дернув башкой, вдруг догадываешься, что ты в темноте не один.
Здесь, вероятно, опять требуются пояснения. Мальчик, которым я был когда-то, сохранил в своей памяти один удивительный эпизод. Вдруг приоткрылась тяжелая, в три человеческих роста, деревянная дверь, и он, на онемелых ногах, ступил в другой мир. Вместо солнца – темная и густая, какая-то коричневая тишина, приглушенные голоса, отдающиеся тем не менее по всему громадному залу, трепещущие души свечей, стеариновый запах, тусклый блеск золота, одевающего проемы вверху, и самое сильное впечатление – потусторонние, скорбные лики, взирающие со стен: было во взглядах их нечто совершенно нечеловеческое. Ксения, которая его привела, наклонившись к уху, шепнула: вот наш господь, Иисус Христос, который за нас пострадал… запомни… строго велела: перекрестись… Мальчик ткнул щепотью в лоб, в твердый живот, в одно, в другое плечо… Кто такая была эта Ксения, вроде бы родственница, по отцу, тихонечко прожила у них несколько дней, происходили в семье какие-то замысловатые пертурбации, откуда-то появилась, мальчик никогда больше не видел ее, а эпизод позже всплывал, как всплывают светлыми пузырьками воспоминания детства: вкус ледяной воды, в жару, прямо из колодезного ведра, обжигающий взгляд соседки по парте, когда оглушительно разливается по коридорам последний звонок. Что она хотела этим взглядом сказать? Теперь-то понятно, но тогда – томление плоти на несколько дней. Кстати, соседка теперь проживает в Канаде, такая матрона – по слухам, у нее трое детей, преподает где-то русский язык.
Позже, когда изо всех щелей хлынуло православие, когда по всем каналам заболботали о русской духовности сытые, назойливые голоса, когда президент, окруженный чиновной ордой, склонил голову пред алтарем, мне попалась в руки лекция Макса Планка, прочитанная им в Дерпте в 1937 году. Называлась она, кажется, «Религия и естествознание», и больше всего меня поразил выбор темы, как бы не видящей бешеных катаклизмов тех лет. Уже вспыхивают апокалиптические зарницы Второй мировой войны: в Германии властвует Гитлер, расползается по Европе всепожирающая коричневая чума, грохочет война в Испании, войска генерала Франко штурмуют Мадрид, в Москве продолжаются кошмарные политические процессы – советским людям, оцепеневшим от ужаса, предъявляют все новых и новых врагов. Мир в очередной раз сходит с ума, а знаменитый ученый, основатель квантовой физики, в провинциальном Дерпте, где дремлют на улицах картофель и лопухи, ставит принципиальный вопрос: бог существует исключительно в человеке или есть в мире нечто такое, что мы можем вполне научно определить как присутствие бога?
Для меня это был пример интеллектуального мужества. Пусть все шатается, рушится, проваливается в тартарары, пусть торжествуют тираны и истребляют друг друга народы, пусть коса смерти неутомимо кладет один широкий взмах за другим – мыслитель даже в горящем доме, среди пламени, среди падающих этажей имеет право задумываться над основными вопросами бытия.
Если не он, то – кто?
Планк в своей лекции анализировал такое явление, как «разумный фотон», который якобы заранее «знает» точку, в которую прилетит, и, чтобы объяснить этот парадоксальный феномен, ввел понятие «конечной причины». Если существует начальный статус Вселенной, сингулярность, которая породила собою все, то, вероятно, существует и конечный статус ее, некий предел, «точка омега», как несколько раньше назвал ее Тейяр де Шарден, и все процессы, имеющие быть в мироздании, ориентированы на нее. Это, конечно, детерминизм, но какой-то странный детерминизм, где причина и следствие поменялись местами: не будущее определяется прошлым, а прошлое будущим – вот эту онтологическую предопределенность, которая проступает во всем, мы и воспринимаем как бога.
У меня будто паутину с мозга содрали. Мироздание вдруг предстало во всей своей гармонической красоте. Конкретное будущее, конечно, не предугадать, но оно тем не менее есть, поскольку стрела времени направлена не назад, а вперед. Мы движемся не в замысле могущественного Творца, а в законах природы, которые, вероятно, можно познать. С тех пор всякие рассуждения о провиденциализме, якобы пронизывающем бытие, о телеологии, о воле божьей, якобы упорядочивающей наш мир, не вызывали у меня ничего, кроме иронии. Где этот ваш бог, покажите его! В чем его замысел – в том, чтобы прекратилась жизнь на земле? И потом – извините, конечно, – но что это за бог такой, который испаряется отовсюду, чего коснется наука? Что это за стыдливая робость у якобы всемогущего существа? Нет, кто как хочет, а в подобного бога, по-моему, верить нельзя.
Однако мокрый храп донесся до меня очень явственно. Тем более что Юлия, которая все это время, по-видимому, присматривалась и прислушивалась ко мне, в тот же день осторожно сказала, что у нее есть один документ, который, вероятно, может представлять для меня интерес.
– Какой документ?
– Дневник священника, местного, из Осовца, за семнадцатый и восемнадцатый год. Я еще никому его не показывала…
Появилась серая папка, перевязанная тесемками, и едва я не столько прочел, сколько в быстром рабочем режиме просмотрел распечатанный текст, едва осмыслил его целиком, как сразу же понял, что дикий храп донесся до меня не случайно: пересечена разделительная черта, перейден Рубикон, разрублен гордиев узел, сожжены корабли – пути назад у меня, вероятно, уже не будет.
Позже Юля рассказывает мне заковыристую историю этого дневника. Местный краевед, один из тех вдохновенных безумцев, для которых дороже родного города (поселка, района) ничего в жизни нет, еще в двадцатых годах купил на осовецком базаре несколько пирожков, а когда дома разворачивал замаслившийся кулек, обнаружил на бумаге лихорадочные карандашные письмена. Он не поленился их разобрать, далее – ринулся к продавцу и буквально вымолил у него оставшиеся листы. Откуда эти записи появились, продавец объяснить толком не мог; предполагал лишь, что они были переданы на хранение его отцу, тому самому купцу Ениколову, являвшемуся до революции церковным старостой, одним из уважаемых прихожан. Отец продавца к тому времени уже умер, эта ниточка таким образом оборвалась. Краевед тщательно скопировал оригинал и, предчувствуя тяжелые времена, которые в общем-то уже наступали, закопал оба экземпляра в разных местах. Причем на месте хранения оригинала через некоторое время возвели маслобойный цех, данный экземпляр в результате безвозвратно пропал, а вот копия благополучно пролежала в земле до семидесятых годов, когда была тем же краеведом извлечена и незадолго до смерти передана в местный музей. Там она, естественно, никого не заинтересовала, Юлия на нее наткнулась, разбирая после того же ремонта груды неатрибутированных документов. Старковский этого дневника не видел (о чем я Юлию, естественно, сразу спросил), в общем реестре он значится только под безликим инвентарным номером.
Одновременно Юлия сообщает, что изучала старые карты города и пыталась выяснить что-нибудь о судьбе церкви и синагоги, о которых здесь идет речь.
– Ну, и какова их судьба?
Оказывается, что церковь была разобрана еще в конце тридцатых годов, район был весь перестроен, на этом месте теперь располагается универмаг. Новый храм лет десять назад возвели совсем в другой стороне, и никаких документов, связанных с предыдущей историей, там не имеется. Она специально интересовалась. Вероятно, та же участь постигла и синагогу. Во всяком случае Юлия, уже после отъезда Старковского, найти ее не смогла, все опять-таки перестроено, практически исчез даже сам Ремесленный переулок.
– А карта, что ж карта… Карта есть… Я вам сейчас ее принесу…
Карта, выпущенная в тысяча девятьсот девятом году «Типографским товариществом Арохин, Арохин и Кунц», действительно мне почти ничего не дает. Сравнение ее с той, которую я немедленно приобретаю в местном киоске, показывает, что универмаг, недавно расширенный и преобразованный в торгово-развлекательный центр, перекрывает по площади все бывшее подворье собора, причем с запасом – маловероятно, что там удастся что-то найти. Что же касается синагоги, то на старой, дореволюционной карте она, к моему удивлению, вовсе не обозначена, хотя, конечно, Ремесленный переулок там имеется (ныне он, сильно урезанный, переименован в переулок Гнедько); более того – адрес ее отсутствует даже в справочнике «Весь Осовец», выпущенном тем же «Товариществом» в том же тысяча девятьсот девятом году. Вряд ли это случайно. Скорее всего, местная еврейская община, напуганная погромами недавних революционных лет, не хотела быть на виду.
Тем не менее я прокатываю через ксерокс старую топографию города и на следующий день, прямо с утра, устремляюсь в этот район.
Должен сказать, что с момента известия о пожаре я нахожусь в несколько взвинченном состоянии. У меня как бы подскакивает температура, я нервничаю, слегка задыхаюсь, начинаю дергаться, спотыкаться, прокручиваться внутри самого себя, начинаю опрокидывать чашки, поворачивать не туда, стукаться коленями и локтями о мебельные выступы и углы. Разумеется, никакого психического задвига в этом состоянии нет, напротив, именно в подобном угаре у меня обычно возникают самые неожиданные догадки; однако отбрасывает оно и явственную негативную тень: начинаешь бешено суетиться, движешься точно на подгибающихся ногах, сначала впопыхах делаешь что-то и лишь после, вдруг протрезвев, соображаешь – зачем. В результате, как правило, бабахаешься со всего маху в какой-нибудь здоровенный столб, причем так, что башка, точно треснувший колокол, долго и мутно гудит. Далеко не сразу потом приходишь в себя.
Вот в таком приблизительно настроении я на следующее утро стою посередине нынешнего переулка Гнедько и, как очумелый пингвин, вертя вокруг головой, пытаюсь соотнести то, что здесь было когда-то, с тем, что здесь есть сейчас.
День воскресный. Кроме меня в переулке нет никого. Тают в небе перистые облака, фотографически узорами растягиваются по асфальту тени одичавших кустов. Сам асфальт в мелких трещинах, и вообще при первом же взгляде на данный глуховатый пейзаж сразу чувствуется, что местные жители сюда практически не заглядывают: ни одной машины не припарковано ни поблизости, ни вдали, а дома, трехэтажные, блочные, постройки, вероятно, шестидесятых годов, открываются своими парадными на противоположную сторону.
Странный проход в конце переулка я обнаруживаю минут через пять. Он выделяется тем, что вместо лип и сирени, заполняющих пространства между домов, здесь возвышается унылый, из некрашеных досок, высокий кривоватый забор, кое-где подновленный заплатами жести или фанеры. Впрочем, забор поворачивает куда-то в глубины микрорайона, метрах в семидесяти от переулка; следуя чуть заметной тропой, я нахожу в нем изрядный пролом и, протиснувшись внутрь, оказываюсь на заброшенном пустыре.
О забвении этого места свидетельствуют обломки камня и кирпича, бугристые остатки фундаментов, оплывшие, наполовину съеденные землей, заросли крапивы и лопухов, причем такие, что в них, как в джунглях, настаивается паутинистый мрак.
И конечно – необыкновенная тишина. Звуки города, которых, по сравнению с Петербургом, в Осовце и так-то немного, видимо, истаивают в воздухе, не долетая сюда.
Слышится лишь тугой звон жары – будто гудят у меня за спиной полчища невидимых комаров.
А посередине этого мусорного пейзажа, непонятно как сохранившись средь социальных бурь, революций и войн, стоит здание из двух приземистых этажей, причем второй этаж по краям, справа и слева, несколько отступает назад, образуя собой что-то вроде граненого полукруга. Окна здания заколочены ржавыми листами железа, на дверях, сделанных из толстенных древесных плит, висит, тоже распухший от ржавчины, амбарный замок невообразимой величины – чувствуется, что не прикасались к нему, наверное, уже лет сто, – а чуть выше и правее замка в плоть дверей вдавлен (или, может быть, выжжен в ней) некий знак, иероглиф, составленный из переплетенных змеистых линий.
Кое-где заметны в нем чешуйки багровой краски.
Словно остатки крови некоего таинственного существа.
Я делаю два шага вверх по растрескавшимся ступеням. Странное ощущение – точно входишь из царства мертвых в царство живых.
Я откуда-то знаю, что мне следует делать.
Еще можно остановиться, подумать, быть может – опомниться, отступить.
Однако останавливаться я не хочу.
Я поднимаю ладони и кладу их на знак.
Ничего – шершавое дерево, покалывание неровных обожженных краев.
Текут мгновения бытия.
Они мне кажутся вечностью.
Ничего, ничего.
Давит оглушительная тишина.
Меня охватывает отчаяние.
По-прежнему – ничего.
Я все-таки жду.
И вдруг знак вспыхивает тусклой вулканической краснотой, резко, гневно шипит, бьет светом прямо в зрачки, раскаляется, как бы набухает огнем и, точно угли в костре, обжигает мне пальцы…
5. Тиферет
Самое загадочное в судьбе Троцкого – его политическое поражение. Тем более что никакие тревожные обстоятельства эту катастрофу вроде бы не предвещают.
В начале 1920х годов Троцкий, несомненно, находится в зените славы. Он – один из вождей Великой Октябрьской революции, всколыхнувшей своими идеями и деяниями весь мир. Он – организатор победы большевиков в кровопролитной гражданской войне. Он – создатель героической Красной армии, и под его началом она разгромила полчища внутренних и внешних врагов, подавила все контрреволюционные мятежи, заставила отступить с территории Советской России войска сильнейших капиталистических держав. Случилось то, во что никто в мире не верил: в России прочно и, вероятно, надолго воцарилась советская власть. Социалистическая революция победила. Красное знамя освобожденного пролетариата реет над огромной страной. Заслуги в этом Льва Троцкого зримы и очевидны. На праздничных демонстрациях его портреты несут наравне с портретами Ленина. Его именем названа Гатчина (правда, с 1929 г. переименованная в Красногвардейск), его легендарный бронепоезд помещен в специальный музей, граждане новорожденного СССР бурно приветствуют его на митингах и собраниях. Более того, существует даже как бы знак свыше: день рождения Троцкого, 7 ноября, совпадает с началом самой Октябрьской революции. В сознании масс они сливаются воедино. Ни у кого нет сомнений, что Лев Троцкий – выдающийся революционер, единственный и бесспорный продолжатель великого дела Ленина.
А уже в январе 1925 года Троцкий освобожден от постов председателя Военного совета республики и народного комиссара по военным и морским делам, в октябре 1926 года он выведен из состава Политбюро, в ноябре 1927 года (вместе с Зиновьевым) вообще исключен из партии, в январе 1928 года его отправляют в ссылку в Алма-Ату, а в феврале 1929 года высылают из СССР.
Падение оказывается еще более стремительным, чем революционный взлет.
Что с Троцким произошло? Почему разверзлась земля, обрушилась небо, почему кумир миллионов, только что вызывавший всеобщее преклонение и восторг, был свергнут с пьедестала и выброшен на задворки истории?
Сам Троцкий считает, что это обусловлено перерождением революции, ее смещением от вдохновенного порыва масс к мещанской идеологии термидора. В те дни он пишет: «Мы проходим через период реакции. Происходит политическая подвижка классов. После великого напряжения совершается откат назад. До какой грани он дойдет?.. Заранее этой грани никто не укажет. Она определится в борьбе внутренних сил… Глубокие молекулярные процессы реакции выпирают наружу. Они стремятся ликвидировать или хотя бы ослабить зависимость общественного сознания от идей, лозунгов и живых фигур Октября. Вот смысл того, что происходит».
В значительной мере Троцкий был прав. Годы ожесточенного кровопролития, годы войн – сначала мировой, а затем гражданской – до предела истощили страну. Разрушена была вся система хозяйствования. Деньги обесценились, основной формой платы за труд стал скудный продуктовый паек. Продразверстка, элемент «военного коммунизма», насильственное изъятие у деревни «излишков» зерна, привела к тому, что крестьяне начали обрабатывать лишь столько земли, сколько требуется, чтоб прокормить собственную семью. Продовольствия катастрофически не хватало. Обезлюдели российские города. Часть рабочих была призвана в армию, численность которой превышала уже 4 миллиона человек, а часть уезжала в деревню, поскольку в городе прокормиться было нельзя. Закрывались фабрики и заводы, замирали шахты и горны, порождая чудовищный дефицит сырья. В полный упадок пришел железнодорожный транспорт, что для России с ее громадными территориями означало распад на «экономические лоскутки». Процветал черный рынок, предполагавший натуральный товарообмен, и никакими средствами ликвидировать его было нельзя.
Россия устала от потрясений. Страна изнемогала от голода, холода и смертей. Она жаждала обрести покой. После испепеляющего урагана, перевернувшего привычное мироустройство вверх дном, она хотела лишь одного – чтобы пришел наконец крепкий хозяйственник, который сумел бы наладить хоть сколько-нибудь нормальную жизнь. Троцкий с его образом пламенного революционера на эту роль совершенно не подходил. Теория ерманентной, то есть непрерывно расширяющейся революции, которая была связана именно с ним, означала продолжение той же войны, перенос ее в европейские страны, на что у Советской России просто не было сил. Это отчетливо показало поражение в Польской войне, когда «чудо на Висле» развеяло миф о непобедимости Красной армии. Надежды на социалистическую революцию в Европе не оправдались. В Советскую Баварию, где пламя пролетарской борьбы вроде бы занялось, вошли карательные войска генерала Гофмана. В Венгрии после первых успехов коммунистического восстания воцарился контрреволюционный террор. Ни Берлин, ни Вена на борьбу с буржуазией не поднялись. Англичане подавили освободительное движение в Индии. Мировая революция, на которую первоначально делали ставку большевики, откладывалась на неопределенное время.
Качественно изменился состав Российской коммунистической партии. После «ленинского призыва» в 1924 году численность ее превысила миллион человек. Между тем партийцев с дореволюционными стажем было всего около девяти тысяч, ничтожное меньшинство, основную массу их составили те, кто пришел в партию уже после победы. И вдохновляли очень многих из них вовсе не высокие коммунистические идеалы, которые к тому же им было трудно понять, а те конкретные привилегии, которыми сразу же начала обрастать советская власть. Партийная бюрократия, возникавшая со сказочной быстротой, предпочитала пользоваться плодами победы, а не рисковать ими в новых боях.
Однако дело заключалось не только в этом. Мощным фактором, способствовавшим поражению, был сам характер Льва Троцкого. Луначарский, вспоминая еще предреволюционные годы, писал, что «Троцкий был тогда необыкновенно элегантен, в отличие от всех нас, и очень красив. Эта его элегантность и особенно какая-то небрежная свысока манера говорить… очень неприятно поразили ‹меня›. Я с большим недоброжелательством смотрел на этого франта, который, положив ногу на ногу, записывал карандашом конспект того экспромта, который ему предстояло произнести… У Троцкого был сухой и надменный тон… ‹Ему› очень плохо удавалась организация не только партии, но хотя бы небольшой группы людей. Никаких прямых сторонников у него никогда не было, если он импонировал в партии, то исключительно своей личностью, выделявшейся среди всех… Огромная властность и какое-то неумение или нежелание быть сколько-нибудь ласковым и внимательным к людям, отсутствие того очарования, которое всегда окружало Ленина, осуждали Троцкого на некоторое одиночество… даже немногие его личные друзья… превращались со временем в заклятых врагов; так, например, было с его главным адъютантом Семковским, так было потом с его чуть ли не любимым учеником Скобелевым… Для работы в политических группах Троцкий казался мало приспособленным».
Какой контраст со Сталиным, который именно в этот период вдруг делается чрезвычайно вежливым и обходительным, как никогда, внимательно выслушивает каждого, кто к нему обращается, прилагает усилия, чтобы помочь – пусть даже это рядовой партийный работник.
«Головокружение от успехов», как через несколько лет тот же Сталин озаглавит одну из своих статей, – болезнь смертельная и безжалостная, почти неизвестны случаи успешного излечения от нее.
У Троцкого она протекает в особо тяжелой форме. Он совершает ряд серьезных ошибок, которые трагически сказываются на его дальнейшей судьбе. Трижды ему предлагают стать заместителем председателя Совнаркома, то есть занять второй по значимости административный пост в стране, который в случае ухода Ленина может стать ступенькой, ведущей на самый верх, и трижды Троцкий высокомерно отказывается – он не хочет быть ничьим заместителем, пусть даже Ленина, он сам по себе. Также отказывается он сделать и отчетный доклад ЦК на чрезвычайно важном в политическом отношении XII съезде РКП(б): Ленин уже тяжело болен, лежит в Горках, в параличе, на его присутствие, тем более выступление, надежды нет. Всем понятно, что тот, кто произнесет главный доклад, тот и есть основной претендент на высшую партийную власть. Троцкий, видимо, хочет, чтобы его упрашивали, как это в прежние годы случалось не раз, чтобы политбюро смиренно признало его главенствующую отныне роль, однако времена изменились, уже утверждается бюрократическая идеологема: «у нас незаменимых нет», с политическим докладом на съезде выступает Зиновьев, который ломаться на стал; в глазах рядовых партийцев, не ведающих закулисных интриг, Троцкий, хотя бы формально, отодвинут на задний план.
И уже в совсем глупую ситуацию попадает он в момент смерти Ленина, к которой исподволь готовятся все. 21 января, в решающий день, Троцкий находится на отдыхе, на Кавказе. Получив трагическое известие, он тут же связывается по телефону с Кремлем, и ему отвечают (так и не установлено – кто), что похороны назначены на субботу, «все равно не успеете, советуем вам продолжать лечение». Но в том-то и дело, что похороны Ленина назначены на воскресенье, сутки в запасе, вполне можно успеть. Троцкого просто хотят отодвинуть в этот определяющий час. На церемонии, как тут же отмечают в стране, распоряжается Сталин, и это становится незыблемой советской традицией на следующие семьдесят лет: кто хоронит предыдущего главу партии и государства, тот и будет следующим партийным вождем.
Троцкий всего этого катастрофически недооценивает. Астигматизм революции и гражданской войны искажает политическую перспективу. Ему кажется, что заслуги его перед советской властью настолько очевидны и велики, что никого другого, кроме него, на место Ленина поставить нельзя. Кто такие Зиновьев и Каменев, тем более Сталин? Кто такие Бухарин и Рыков, Томский, Сокольский и Пятаков? Политические пигмеи, всплывшие к руководству исключительно силою обстоятельств. Разница между ними и Троцким видна абсолютно всем. Он удивительным образом не замечает, что хотя его по-прежнему бурно приветствуют во время парадов и демонстраций, что хотя его непременно включают во всяческие «почетные президиумы» на местах, уже нет у него того безусловного ореола, того контакта, того единства с массами, которое мгновенно устанавливалось в период гражданской войны. Тогда его экзальтированная манера держаться, его пафос, его героический стиль соответствовали эпохе и находили отзвук в сердцах. Теперь они отдают выспренностью и фальшью – актер, заигравшийся ролью, перестает чувствовать зал.
Между тем в партии идет кропотливая и целенаправленная работа. Сталин, отодвинув в сторону все остальные дела, создает внутри нее арматуру верных ему людей. Уже образована тайная «семерка» в политбюро, согласованно голосующая по основным вопросам. В местных и республиканских организациях ВКП(б) образуются такие же неформальные центры, прочно связанные и с руководящей «семеркой», и между собой. Для контактов используются специальные шифры. Для проведения конкретных решений приезжают специальные уполномоченные из Москвы. На все хоть сколько-нибудь значимые посты в партии и государстве аккуратно подбираются люди, по критериям соответствующие лишь одному – личная преданность Сталину, ему и только ему. Работа построена на намеках и полутонах: кандидаты сами должны догадаться, чего от них ждут. Тот, кто догадывается, быстро поднимается вверх. Кто оказывается непонятливым, так и остается внизу. Процесс отбора захватывает почти все административные этажи – уже нельзя занять пост секретаря партийной ячейки, директора завода, председателя губернского исполкома, войти в республиканский ЦК, если не зарекомендуешь себя верным и безусловным последователем товарища Сталина.
Таким образом создается большинство на партийных съездах, которое начинает работать как хорошо отлаженный механизм.
На ситуацию, возможно, оказывает влияние и таинственная болезнь, именно в эти годы овладевшая Троцким. Диагноз ее неясен. Сам Троцкий считал, что она вспыхнула из-за простуды, которую он подхватил во время одной из осенних охот: провалился, плутая, в болото, пока добирался до оставленных на дороге машин, выдохся и совершенно продрог. Хотя на обычное простудное заболевание это по симптоматике не похоже, поскольку сопровождается длительными повышениями температуры, причем безо всяких внешних причин, испариной, общей слабостью, приступами изнуряющей лихорадки. Случаются такие периоды, когда он неделями не может подняться с постели. Собрания оппозиции приходится проводить прямо у него на дому. Из Кремля его к тому времени выселяют, Троцкий находит приют у своего политического соратника Белобородова – тот числится народным комиссаром внутренних дел, но (вот парадокс) его самого непрерывно преследует ГПУ. В 1926 году Троцкий инкогнито предпринимает поездку в Берлин, там, после длительных медицинских исследований, ему делают операцию по удалению миндалевидных желез. Операция оказывается бесполезной: в самые острые моменты борьбы, когда пресса, контролируемая сталинским большинством, извергает на Троцкого и троцкистов потоки чудовищной клеветы, у него не хватает энергии, чтобы этому по-настоящему противостоять. Трудно сказать, в чем тут дело. Но возможно, что фантастическое напряжение, в котором Троцкий находится последние десять-двенадцать лет, преодолевая, буквально чудом, одно препятствие за другим, до такой степени истощает резервы нервной системы, что сейчас они пребывают практически на нуле. В нем как будто что-то сгорает. Угли внутри еще тлеют, жар еще есть, но они все больше и больше подергиваются сизыми струпьями мертвоты.
Кажется, что его отторгает сама эпоха. После высылки за пределы СССР ему отказывает в визе Германия, где у власти в этот момент находятся его коллеги-социалисты, отказывает правительство Франции, ссылаясь на приказ о депортации Троцкого из этой страны, отданный еще во время Первой мировой войны, отказывает Норвегия под предлогом того, что не может обеспечить его безопасность и безопасность его семьи, отказывает Англия, где министр полиции Клайнс, между прочим, является лейбористом, то есть членом рабочей партии. Европейская пресса вообще полна одиозных статей, утверждающих, что так называемое «выдворение» Троцкого из СССР на самом деле грандиозный спектакль, разыгрываемый по секретному соглашению между Троцким и Сталиным. В действительности Троцкий приехал в Европу, чтобы разжечь там революционный пожар. Призрак русского коммунизма бродит по континенту, и «все силы старой Европы объединяются для священной травли этого призрака». Четыре года Троцкий проводит на пустынных Принцевых островах, принадлежащих Турции, в Мраморном море, в полутора часах плавания от Константинополя, а затем после краткого пребывания во Франции и Норвегии, откуда ему в конце концов тоже приходится уезжать, принимает приглашение мексиканского правительства, возглавляемого социалистом Карденасом, и обосновывается в пригороде Мехико, имеющем странное для русского слуха название – Койоакан. Отныне он на краю света: между ним и Европой, с которой связаны все его помыслы, вся его политическая судьба, пролегают тысячи километров океанских пространств.
Дело, однако, не только в оторванности от центров миросотворяющего бытия. Вулканическая атмосфера Европы тех лет, насыщенная трагедиями и катаклизмами, бурлящая, точно перегретый котел, заглушает голос изгнанника, доносящийся откуда-то из-за кулис. Его новые социальные лозунги как бы не достигают умов. Его деятельностная энергия как бы рассеивается в пустоте. Троцкий пишет книги о революции и гражданской войне, но читает их только узкий круг его верных последователей, он печатает статьи в европейских газетах, но политики, вершащие судьбами стран, не обращают на них внимания, он организует IV Интернационал, долженствующий, по его замыслу, стать руководящим центром мировой революции, но объединяются в этой организации лишь несколько мелких троцкистских групп, к тому же тонущих в непрерывных распрях и столкновениях дутых амбиций. А когда в Москве начинаются процессы над старыми большевиками и Троцкий с соратниками организует в Мексике контрпроцесс, где представляет громадный материал, свидетельствующий о грубых и недостойных сталинских фальсификациях, пресса не проявляет к этому особого интереса – все заслоняет зловещий коричневый мрак, расползающийся из Германии.
Лишь один человек внимательно следит за деятельностью Льва Троцкого. Лишь в одной стране тщательно изучают каждое его слово, взвешивают и оценивают каждый его политический жест. Сталин очень быстро осознает, какую колоссальную ошибку он совершил, выпустив из своих когтей такого опасного оппонента, да еще дозволив ему вывезти за рубеж почти весь свой архив – документы, которые там хранятся, опаснее бомб и пуль. С тех пор желтые, как у голодного тигра, глаза его непрерывно фокусируются на Троцком. Инфернальный прицел зрачков следует за бывшим председателем РВС из страны в страну. Еще во Франции, где Троцкий некоторое время живет в Сен-Пале, в его доме вспыхивает очень странный пожар, и хотя этот случай вряд ли можно квалифицировать как поджог, сам инцидент выглядит весьма символически: в Европе, наводненной агентами советских спецслужб, у Троцкого земля горит под ногами. А в конце 1930х годов, когда становится ясным, что прежний мир рушится и возможны в ближайшем будущем самые неожиданные ходы, на дом Троцкого в Койоакане совершает налет группа мексиканских революционеров, предводительствуемая Давидом Сикейросом. Правда, своей цели она не достигает: в соответствии с мексиканской традицией романтики сталинизма палят из револьверов и ружей куда попало, наслаждаясь, по-видимому, самим процессом стрельбы – ни одна из двухсот пуль Троцкого не задевает, но тогда за дело берутся профессионалы НКВД. Под видом американского бизнесмена, не слишком интересующегося политикой, в дом Троцкого, кстати находящийся под охраной, окруженный глухой стеной, проникает убежденный сталинист Рамон Меркадер и 20 августа 1940 года наносит Троцкому смертельный удар топором. Сам способ убийства заставляет вспомнить о знаменитом романе Федора Михайловича Достоевского. Рана вглубь черепа – почти семь сантиметров. Троцкий живет еще почти сутки, хотя врачи уже не надеются на благополучный исход. 21 августа он умирает. Вскрытие обнаруживает мозг необычайных размеров, сердце его тоже было очень большим.
Для полноты картины добавим несколько слов. В ходе борьбы за власть, развернувшейся после революции между различными фракциями ВКП(б), погибли все четверо детей Троцкого от двух его браков, также – первая его жена и его сестра, погибли два племянника Троцкого и два его зятя, была репрессирована сестра его второй (гражданской) жены, проведшая много лет в сталинских лагерях. Из политических его соратников не выжил никто.
Похоронен Троцкий в Койоакане.
На могильном камне вместо портрета высечены серп и молот.
Выше надпись – Leon Trotsky.
В институте я попадаю в дурацкую ситуацию. Вместо патриархальной благостной тишины, обычно заполняющей наш вестибюль, где порой кажется, что ни времени, ни материи нет, я, шагнув внутрь, неожиданно оказываюсь в атмосфере интеллигентного столпотворения – слышу гул сдержанных голосов, вижу множество разнообразных людей, беседующих между собой, ощущаю атмосферу праздничного оживления. Справа прикреплена к стене табличка, извещающая о регистрации, а под ней девушки, расположившиеся за столами, выдают подходящим к ним папки и бейджи.
Только тут, внутренне содрогнувшись, я начинаю припоминать, что именно сегодня открывается конференция, о которой меня предупреждали, по-моему, раз пять. Черт, совсем вылетело из головы! Я ведь вчера, приехав, даже почту не посмотрел. Первое мое побуждение – незаметно исчезнуть, шагнуть обратно на улицу, прикрыть за собою дверь, но со мной уже здороваются, уже подходят, уже спрашивают меня, как дела, уже Петр Андреевич, появившийся неизвестно откуда, осторожненько цепляет меня за локоток и, отведя в сторону, замечает, что хотя в списке докладчиков меня, к сожалению нет, тезисы я не представил, включить мы вас не могли, но он очень надеется на мое участие в семинарах: надо проявить вежливость, в конце концов, мы – принимающая сторона. В ответ я, уже немного начиная соображать, передаю ему сердечный привет от Елизаветы Ануфриевны Могияр, вы, кажется, были ее научным руководителем?
Петр Андреевич замасливается, как блин:
– Лизочка Могияр?.. Боже мой, сколько лет, сколько лет!.. Такая чудесная, добрая, скромная женщина… Такая доброовестная, такая внимательная… И, вы знаете, диссертация у нее была очень даже вполне. Могла бы потом от нее к докторской перейти…
Он явно растроган. У него даже голос слегка дрожит. Я вспоминаю гренадерские стати Елизаветы Ануфриевны Могияр и прихожу к выводу, что ничего в женщинах не понимаю. И, видимо, уже никогда не пойму. Тут нет правил, одни исключения. А потому каждый раз, пытаясь что-либо обобщить, промахиваешься на километр.
В общем, день у меня комкается, как бумага. Я оказываюсь в конференц-зале, да еще в почетном первом ряду и, надев на лицо маску внимания, слушаю пленарный доклад, который обозначен в программе как «Чудо русской истории». Уже по названию ясно, что докладчик представляет собой патриотический лагерь. Впрочем, об этом свидетельствует и его внешний вид. Уже сложился в наших кругах определенный дресс-код: если патриот, значит обязательно – борода мощной лопатой. Только у москвичей она более-менее аккуратно пострижена, а у наших, у питерских, так дико завивается и торчит, как будто в ней запуталась вермишель. Соответствует виду и терминологический лексикон: по тексту густо рассыпаны и «духовность», и «высокое русское православие», и «национальные интересы страны», и «державное мироощущение героической русской нации», и «великая русская самоотверженность, много раз спасавшая народы Европы». Все это можно было бы пропустить мимо ушей, но меня раздражает то, что докладчик, распевшись, фатально не укладывается в регламент. Петр Андреевич уже трижды осторожно звякает в колокольчик, но в ответ получает лишь снисходительное и вальяжное: «Да-да, скоро заканчиваю, еще пара слов»… Доклад вместо положенных двадцати минут продолжается около сорока, и, на мой взгляд, это такое очевидное свинство, что, когда Петр Андреевич предлагает задавать вопросы, я немедленно, видимо первый в зале, вскидываю руку над головой.
Вопросов у меня целых два. Во-первых, я обращаюсь к докладчику с просьбой хотя бы слегка пояснить, что он подразумевает под чудом, это ведь в вашем докладе, как я понимаю, фундаментальный аспект, а во-вторых, лично для меня прошу сформулировать, в чем собственно заключается чудо русской истории.
– Извините, пожалуйста… Я как-то… все же… не до конца уловил…
По залу прокатывается рябь оживления. Всем нравятся такие неожиданные спектакли, при условии, правда, что направлены они против других. По крайней мере, будет потом о чем рассказать. Докладчик между тем не считывает подтекст. Он снисходительно мне кивает, как бы мысленно соглашаясь, что до его интеллектуальных высот не всякому дано дорасти, а затем разражается маловразумительной речью, из которой я могу заключить, что чудо – это когда происходит что-то чудесное, других критериев нет. А если уж обратиться к чуду русской истории, то состоит оно главным образом в том, что каждый раз после жестокого и, казалось бы, безнадежного поражения русский народ чудесным образом воскресал, восстанавливал государственность, величие, национальный дух, будучи при этом, естественно, православным и подтверждая тем самым провиденциальность своего сущностного бытия.
Я терпеливо выслушиваю весь этот бред, а потом отвратительно вежливым голосом говорю, что, к сожалению, ответ меня не удовлетворил. Категорию чуда, на мой взгляд, можно определить в двух регистрах: аналитически – как нарушение законов природы и метафорически – как некое маловероятное историческое событие, которое произойти вроде бы не могло, но все же произошло. Я, извините, так и не понял, какой регистр вы имели в виду. А что касается собственно русского чуда, то с главным тезисом, высказанным вами, я согласиться, к сожалению, не могу. Возьмем, например, историю Франции: десятый век, вторжение варваров, Франция совершенно разгромлена, разорены ее крупнейшие города, тем не менее она возрождается, именно чудом, ничем иным, сохраняет себя; пятнадцатый век, период Столетней войны, Франция повержена в прах, по всей стране – голод, мор, англичане делают на ее территории что хотят, тем не менее Франция опять возрождается, при Людовике XIV она – лидирующая держава Европы… Или после разгрома Наполеона… Или «чудо на Марне» во время Первой мировой войны… Или, пожалуйста, другой, тоже характерный пример: кайзеровская Германия разгромлена – возрождается в виде Третьего рейха, Третий рейх разгромлен – через двадцать лет Германия одна из сильнейших индустриальных держав… Если позволите, я повторю вопрос. В чем специфика русского чуда? Чем оно отличается от чуда французского, чуда немецкого, вообще – от великого множества аналогичных чудес?..
Теперь до докладчика наконец доходит. Он открывает рот и забывает его закрыть. Выглядит это не очень приятно – будто отверстие в спутанной волосяной траве. На помощь ему немедленно кидается Петр Андреевич и, чуть приподнявшись, укоризненным голосом говорит, что это уже не вопрос, а целое выступление. Давайте все-таки будем придерживаться регламента, дискуссия нам еще предстоит, а в настоящий момент позвольте объявить второй пленарный доклад.
– Я только хотел уточнить…
– Андрей Васильевич, я вас очень прошу…
Следующее выступление я слушаю с пятого на десятое. Докладчик начинает непосредственно с эволюции гносеологических парадигм и помогает себе говорить взмахами энергичной руки. Классическая парадигма, по его мнению, предполагает, что знание объективно и соответствует реальной действительности. Эта парадигма легла в основу всех просвещенческих европейских наук. Вторая, неклассическая парадигма, предполагает, что знание субъективизировано – оно во многом зависит от наблюдателя. Эта парадигма пришла к нам из квантовой физики, материальным аналогом ее является микромир. И, наконец, третья, постнеклассическая парадигма, объективностью или субъективностью знания не интересуется вообще – она строит некую казуальную, причинно-следственную модель – если модель работает, значит, тем самым онтологизируется весь модельный концепт.
Понятно, что докладчик принадлежит к либералам. Даже до первого ряда докатывается с трибуны явно не дешевый парфюм. Костюмчик у него тоже – надо сказать. И борода, разумеется, не лопатой, во все стороны не торчит, а – коротко стриженая, аккуратная, прилегающая, на европейский манер. Заковыристый текст выпархивает из него легко; чувствуется, что он уже читал этот доклад, по крайней мере, в Лондоне, в Париже, в Берлине. А также в Колумбийском университете, Нью-Йорк, США. Раскол в нашей профессиональной среде очевиден: два разных языка, два разных мировоззрения, две разных истории, противоречащие одна другой. Собственно – два разных народа, стоящие по разные стороны баррикад. Такой же раскол, между прочим, был и перед Октябрьской революцией: два разобщенных «народа» не сумели ужиться в одной стране, и только Сталин, вычистив из колоды «лишние карты», восстановил единство исторического сознания.
Интересно, появится ли Сталин сейчас?
К счастью, в этот момент у меня начинает попискивать телефон. Я судорожно хватаю его и, сделав извиняющееся лицо, выскальзываю в коридор. Выручает меня, оказывается, Борис. Он так и говорит, когда я к нему подхожу:
– Решил тебя выручить. Гляжу – ты весь посинел. Вообще есть один разговор. Пойдем, кофе попьем…
И пока мы спускаемся на первый этаж, пока переходим улицу и устраиваемся в кафе, куда вот уже десять лет ходит обедать весь институт, он объясняет мне, что своим идиотским наскоком, своими бессмысленными вопросами я бросил спичку в бензин. Оказывается, еще неделю назад была достигнута негласная договоренность, что оба доклада, Лоскутова и Крогина, с пленарки снимаются: убираются в секции, пусть там говорят что хотят, а на открытие конференции приглашаются два москвича, причем вопросы по обоим докладам задают только свои. Во избежание, как выражался известный тебе персонаж. Петруша наш так был этому рад, что и тому, и другому выставил, по слухам, коньяк. В общем, все должно было протекать чинно и благородно. И тут являешься ты и ни с того ни с сего бьешь заслуженного человека кувалдой в лоб.
– А зачем он всякую ахинею несет?
– А зачем ты как идиот вскакиваешь под пулеметный огонь?
Мы оба посматриваем на институт. Но ничего – стены пока не дрожат, окна не вылетают, не сыпятся кирпичи. Панических криков тоже пока не слыхать.
Я отвечаю, что как раз всю эту неделю просидел в Осовце, только-только приехал, видимо, не успели предупредить. Борис интересуется, чем я там занимался, и я вкратце рассказываю ему о загадочном визите туда товарища Троцкого (кстати, спасибо тебе за присланный документ), о митинге, которые он там провел, и о его вероятных контактах с местной еврейской общиной. О дневниках священника Ивана Костикова я умалчиваю, так же как и о странном случае, который произошел со мной у здания синагоги.
Слишком уж дико это звучит.
– М-да… – задумчиво произносит Борис. – Знаешь, визит Троцкого в Осовец, весьма любопытный, не возражаю, мог быть обусловлен тем обстоятельством, например, что именно в это время он испытал очень сильный психологический шок: его прокляла Одесская синагога, провозгласила херем – нечто вроде христианской анафемы. Ведь далеко не все евреи в России одобряли Октябрьскую революцию, часть из них, видимо наиболее осторожная, полагала, что не следует вмешиваться в чужие дела. И уж тем более не одобрял революцию раввинат: от него в социалисты бежала наиболее энергичная и образованная молодежь. К тому евреи же панически боялись погромов. Почитай Дубнова, он как раз в те годы писал, что если Россия даже и выберется из кровавого междуцарствия, то им, евреям, участия в большевистском терроре ни за что не простят. В русском народе надолго укоренится антисемитизм… Ссылку, если потребуется, могу тебе дать. Или, как выразился главный раввин Москвы Яков Мозес, «Троцкие делают революцию, а Бронштейны расплачиваются по счетам». Именно так, кстати, и произошло. Помнишь, как Леонид Каннегисер объяснял покушение на Урицкого? Он его застрелил, чтобы искупить вину своей нации за содеянное евреями-большевиками… В общем, что бы там Лев Давидович публично ни провозглашал, а в глубине души он все равно был еврей. Это эмоциональный импринтинг: что в детстве в человека заложено, то остается в нем на всю жизнь. Знаешь, как работала первобытная психика? Колдун, совершая обряд, проклинал нарушителя племенных законов, и тот умирал. Потому что искренне верил: проклятие влечет за собой смерть… На Троцкого известие о хереме вполне могло повлиять. Когда, например, старшего брата Якова Михайловича Свердлова проклял отец, тот, то есть брат, потерял в боях правую руку, как собственно при ритуальном еврейском проклятии и должно было произойти. Брезжит, вероятно, в подсознании что-то такое, будь ты хоть большевик, хоть кто… Зиновьев, который уж на что был бандит, а перед расстрелом, в подвале, когда терять было нечего, по слухам, воздел руки к небу и закричал: «Слушай, Израиль, наш Бог есть Бог единый!»… Троцкий вполне мог завернуть в Осовец, чтобы в тамошней синагоге это проклятие с себя снять. Возможна такая версия?
Я осторожно киваю – что да, конечно, вполне возможна.
– Тогда – дарю.
Мы некоторое время молчим.
– А со мной тоже происходят всякие пертурбации, – наконец говорит Борис. Смотрит в чашечку кофе, будто видит что-то удивительное на дне, а потом, вероятно преодолев внутренние колебания, рассказывает историю, которая поражает меня до глубины души.
История, надо сказать, очень нетривиальная. Месяца два назад ему приходит по электронной почте письмо, где его как «крупнейшего специалиста по Октябрьской революции» – это цитата, не хвастаюсь, не подумай чего – приглашают в Португалию, в Лиссабон, прочесть лекцию в некоем Центре по изучению современных проблем. Таких центров, знаешь, сейчас в Европе как блох. Оплачивается дорога, предложен вполне приличный, в долларах, гонорар. В Португалии я еще не был, почему не слетать? Так вот, в Лиссабонском аэропорту его встречает очень вежливый, англоязычный, среднего возраста, латиноамериканской внешности человек, в прекрасном костюме, в темных очках, представившийся как сеньор Гуго Перейра, и после обмена любезностями сообщает, что сам Центр находится в провинции Брага, в сельской местности, хороших дорог туда нет, пожалуйста, господин профессор, мы заказали рейсовый вертолет. Ну, нам, татарам, как ты понимаешь, разницы никакой – что водка, что вертолет, лишь бы чмокнуло побыстрей. Тем более что в Казахстане, где в позапрошлом году была конференция, нас тоже в пансионат доставили на местном аэротакси. Однако этот нынешний вертолет выглядит как-то странно: пятнистой, точно военной, расцветки, боковые стекла замазаны какой-то белой фигней. То есть географию полета не отследить. А сеньор Перейра, как только завелся мотор, начинает меня убеждать, чтобы я не беспокоился насчет несколько экзотичной обстановки проведения семинара. Мы гарантируем господину профессору полную безопасность, сразу же по окончании мероприятия мы доставим господина профессора обратно в аэропорт. Ну, в общем, как выразился Борис, что-то у него внутри начало свиристеть. Летят они примерно минут пятьдесят, куда – не понять, садятся действительно в жуткой глуши: до горизонта поля, засаженные хрен знает чем, одноэтажный, совершенно непрезентабельный дом из серого кирпича, глинистый пыльный двор, колодец из необтесанных валунов, Бориса приглашают в довольно обшарпанный кабинет, где из мебели только стол и три дряхлых стула, на которые больно смотреть, вежливо предлагают кофе, сигару, коньяк, спрашивают, не хочет ли господин профессор с дороги полчаса отдохнуть, а затем, услышав, что у господина профессора все окей, проводят в такую же обшарпанную аудиторию.
– И что ты думаешь? – говорит Борис. – Вот я вхожу, вижу перед собой двадцать шесть человек – потом во время лекции и вопросов я их машинально пересчитал, – причем все двадцать шесть в каких-то серых, военного кроя, комбинезонах и у всех на бошках – матерчатые капюшоны с прорезями для глаз и рта. Знаешь, как упаковывают террористов или спецназ?.. Ничего себе, думаю, ну – попал…
В общем, душа у Бориса уходит даже не в пятки, а в лунки ногтей. Мелькает стремная мысль, что хорошо было бы завещание написать. Однако он, разумеется, берет себя в руки, делает непроницаемое лицо, выкладывает на стол конспект, проверяет, работает ли микрофон, а потом на хорошем английском (предмет моей зависти уже много лет) закатывает им обзор главных революционных событий.
– И, ты мне не поверишь, конечно, но вот клянусь: минут через двадцать я даже дрожать перестал. Подействовала, наверное, обыденность материала. Ну – лекция, ну – хрен ее знает где, ну ладно – в масках, ну пусть, ну – не будут же они меня убивать?
Продолжалось это вместе с вопросами четыре часа. Слушали очень внимательно, техник – тоже в балаклаве, в комбинезоне – тщательно отслеживал запись на диск. Сеньор Перейра каждый час предлагал то кофе, то стаканчик вина; между прочим, тамошний португальский портвейн – это, я тебе скажу, серьезная вещь. А вопросы, если сгруппировать их по темам, сводились в основном к следующим моментам. Во-первых, по каким признакам можно диагностировать революционную ситуацию? «Верхи не могут, а низы не хотят» – это как-то слишком общо. Есть ли критерий, который указывал бы, что социальные запалы уже горят? Во-вторых, как в хаосе политического безумия повести за собой народ и всегда ли победа восстания обеспечивается количественной арифметикой большинства? А в-третьих, пожалуй, самое примечательное, есть ли у революции какие-либо специфически драйверные черты, нечто такое, что в процессе ее развертывания необходимо учесть?
– Ну, тут я, сам понимаешь, расцвел. Рассказал им прежде всего, какие слухи ходили про царицу Александру Федоровну в годы германской войны. Что якобы из Царского Села у нее, прямо из резиденции императора, проложена была тайная телеграфная линия на Берлин и после каждого совещания у царя Александра Федоровна сразу же перегоняла секретные сведения в немецкий генштаб. Временное правительство даже назначило специальную розыскную комиссию по этому поводу. Мою книгу ты, надеюсь, читал?
– Я и доклад твой давнишний помню…
– Так вот, полный абсурд! Ничего, разумеется, не нашли. Тем не менее в этот абсурд верили все… Рассказал также, как Керенского называли Александром Четвертым и как смеялись, что из Зимнего дворца он сбежал, переодевшись в женское платье. Хотя, конечно, «все было не так». Ну и, само собой, про те анекдоты, которые на исходе советской власти заполонили СССР. Особенно – о членах политбюро, ведь они там выглядели полными идиотами… То есть мысль была такова: если возникает в народном сознании «фантастический нарратив», запредельные, совершенно нелепые слухи о власти, которым тем не менее верят все, значит страна готова к революционному взрыву… Посмотри, кстати, что происходит сейчас…
– Только, пожалуйста, без аналогий, – прошу я, вспомнив наш семинар.
Борис кивает:
– Евгений Францевич нас многому научил. Однако в данном случае я вовсе не Россию имею в виду. Просто намеревался заметить, что сейчас теории глобальных заговоров появляются чуть ли не каждый день. По-моему, тревожный симптом… Ну, а по второму пункту я им прямо сказал, народу следует дать то, чего он в данный момент хочет больше всего. В России семнадцатого года это были – мир и земля. Как только большевики провозгласили немедленный мир, большинство солдат, еще гнивших в окопах, оказались на их стороне. Сражаться «за Дарданеллы», «за братьев-славян», «за крест на куполе Святой Софии» никто не хотел. И как только большевики сказали крестьянам: берите землю, берите сами, не спрашивайте никого, никакой Колчак, никакой Деникин, никакой Врангель сделать уже ничего не могли. Ведь никто до сих пор землю не дал – ни Александр Первый с его «благословенной реформой», ни Столыпин, который основную массу крестьянства вообще разорил. И пусть крестьяне ненавидели большевиков – за их продразверстку, за реквизиции, за насильственную мобилизацию, вообще за все, но они твердо знали – придут белые и землю у них отберут. Вот арифметический результат: к концу гражданской войны в Красной армии было четыре миллиона бойцов, а во всех белых армиях, вместе взятых, – примерно двести пятьдесят тысяч. Народ за белыми генералами не пошел… И когда, уже в наше время, Че Гевара, опьяненный романтикой революции, ринулся освобождать боливийских крестьян, он не учел, что землю они только что получили. С какой стати им восставать?.. Ну, а в перестройку нашу главным требованием была – свобода. Это ты, конечно, помнишь и сам…
– А насчет драйвера что ты им рассказал?
– Вот тут, если честно, я немного – того… Увлекся, понял, что слушают, стал разливаться как соловей… В общем, брякнул, что в революции, как бы там ни было, есть одно правило: следует идти до конца. Чтобы победить, надо сжечь корабли. В качестве примера привел заговор против Гитлера в июле тысяча девятьсот сорок четвертого года. Ведь там путчисты и бомбу взорвали в ставке у фюрера, и взяли в Берлине под свой контроль правительственный квартал, и командующий оккупационными войсками во Франции их поддержал, и все равно топтались на месте, видимо полагая, что если не сделать решительный шаг, то можно еще отыграть назад. Гитлер, кстати, так не считал. Заговорщиков потом расстреливали без суда, вешали на струнах от рояля, чтоб дольше мучились, на мясницких крюках… То же самое с нашим «бюрократическим путчем» в августе девяносто первого, когда провозгласили ГКЧП. Ну провозгласили, ну объявили по радио, ну ввели танки в Москву – дальше-то что?.. Пресс-конференции какие-то, бессмысленное словоговорение… Вот если бы начали без разговоров стрелять, если бы в тот же день Белый дом был взят штурмом, если бы арестовали Ельцина и остальных… Представляешь, так и сказал… Вроде бы дал им санкцию на убийства, рекомендовал беспощадный революционный террор…
– Думаю, они это знали и так.
– Все равно как-то не по себе… А дальше – вежливо поблагодарили, вручили конверт с гонораром, на том же вертолете доставили обратно в аэропорт. Через четыре часа я – уже дома… Похоже на сон…
– Ну так и считай это сном.
– Хуже всего, когда дурной сон превращается в явь… Знаешь, зачем я тебе это рассказываю? Месяца два назад приезжал к нам Эрик Буркштайн, рыжий такой, специалист по боливарианским войнам…
– Да-да… Мы с ним перекинулись – парой слов …
– Так вот, у него был совершенно аналогичный случай. Тоже пригласили как бы лекции почитать, только не в Лиссабон повезли, а куда-то недалеко от Афин… В остальном – тот же самый сюжет…
– Полагаешь, готовится какой-нибудь катаклизм?
– Хрен его знает, – задумчиво говорит Борис. – Ситуация в мире сам видишь какая – один хороший удар, тряхнуть как следует, и все поползет. Запрос на тактику и стратегию революций берется не с потолка… Так что – смотри. Ты ведь тоже у нас – не последний по этой теме специалист…
На наш столик падает тень.
– О!.. – поворачиваясь, восклицает Борис. – Это Старковский. Надо же! Я и не знал, что он здесь.