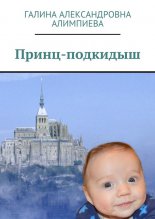Обратная перспектива Столяров Андрей

В действительности все оказывается даже проще, чем можно было предполагать. Вопреки транспортной эсхатологии, то и дело захлестывающей Петербург, я практически сразу вылавливаю нужную мне маршрутку и добираюсь до офиса всего за двадцать минут. Со стороны все выглядит как обычно. Окна в квартире Ирэны, которые выходят на улицу, вроде темны, но если присмотреться внимательно, можно заметить за шторами слабенькое фиолетовое свечение. Оно помаргивает, как от включенного телевизора, и свидетельствует о том, что внутри кто-то есть. Странно, однако, что верхние лампы или торшер при этом не зажжены.
Что же, тем лучше, сегодня Ирэна меня не ждет.
Я прикладываю ладонь к кодовому замку на воротах, делаю ее горбиком, сосредоточиваюсь, а потом как бы немного толкаю вперед. Раздается щелчок, чугунная дверца отходит. Меня этому никто не учил, я просто знаю теперь, как данную операцию произвести. Еще одно доказательство моего внутреннего преображения. И точно так же, просто прикладывая ладонь, я отпираю дверь парадной со стороны двора. А вот с дверью, ведущей в офис, приходится обращаться иначе. Я не сразу догадываюсь, что здесь надо сложить пальцы щепотью, установить их на некотором расстоянии от замка, а затем с силой продвинуть, как будто вставляешь ригельный ключ. Тем не менее и это препятствие преодолено. Единственное, чего я по-настоящему опасаюсь, что Ирэна встретит меня с другой стороны. Она ведь должна была слышать сигнал, когда я отпирал двери внизу. Офис однако пуст. Сумерки цвета разведенных чернил придают ему призрачно-потусторонний вид: поблескивает чернотой экран моего компьютера, поблескивают ореховой гладью столы, придвинутые друг к другу, поблескивает стеклянными створками книжный стеллаж, поблескивает линолеум, похожий на серое соляное озеро. А на пустынной стене, противоположной окну, как чудовищный негатив, отпечатанный светом, проникающим со двора, выделяется теневой крест от рамы. Мне почему-то кажется, что возник он только при моем появлении. Это, конечно, фантазии, но такие фантазии слегка настораживают меня. И еще меня настораживает и даже немного пугает то, что в царстве неживой тишины, которое представляет собой сейчас помещение офиса, отдаленно, но явственно присутствует звук, по нервической взрывчатости своей похожий на всхлип – будто бьется в судороге человек, глотает ртом воздух, не может вздохнуть. Доносится он из жилой части квартиры, и пока я, осторожно ступая, продвигаюсь по сумрачному, неприятному коридору, пока озираю кухню, наполненную тенями таких же разведенных чернил, пока приближаюсь к Ирэниной комнате, то есть к последним дверям, он как бы насыщается обертонами, набухает – становится все сильней и сильней. Это уже скорее не всхлип, а стон, рыдания, почти крик, вырывающийся из человека в беспамятстве невыносимых мучений. Слышать его ужасно. Больше всего мне хочется шарахнуться назад и сбежать – в том же беспамятстве, которое этот стон исторгает. И все же нечто, более значительное, чем испуг, заставляет меня взяться за ручку и потянуть дверь на себя.
Картина, которая передо мной предстает, впечатывается в память надолго. Даже сейчас, по прошествии полугода, я могу без особых усилий ее воссоздать. Света в комнате действительно нет, однако темнота здесь весьма относительная. Причем это именно темнота, а не тьма, скорей даже – сумерки, позволяющие различить очертания, поверхности и углы. И первое, что бросается мне в глаза, – это то, что прямо напротив меня, вместо простенка между могучим кожаным креслом и широкой тахтой, зияет как бы черный провал от пола до потолка – угольный бездонный мешок, где со змеиной упругостью сплетаются спирали тусклых огней. Они коричневого, какого-то застойного цвета, точно нарывы, готовые лопнуть в любой момент, причем их припухлости то вспыхивают, то медленно угасают, то сжимаются, то, распускаясь, демонстрируют бородавчатую кайму – эта омерзительно-завораживающая игра буквально парализует сознание. Словно ворочается в темноте спрут громадных размеров, пульсирует, напрягается, прокатывает волну за волной, пытаясь кожистой массой своей протиснуться оттуда сюда. Главный свет исходит, впрочем, не от него. Фиолетовое сияние источает Ирэна, раскинувшаяся по креслу. Она, как я вижу, полностью обнажена, волосы ее разметаны по меховой, теплой накидке, в которой шевелится ворс, а все тело будто вылеплено из глубоководного льда – пылает донным огнем, люминесцирует реликтовой мерзлотой. Ее обхватывают два щупальца, выходящих из мрака: одно под грудью, оплетая все тело плотным серым кольцом, а другое стекает по бедрам и втыкается между ног. Оба щупальца также – то вздуваются, то опадают, то сжимаются в кожистую гармошку, то распрямляются ребрами дуг, и сама Ирэна, подчиняясь этому сложному ритму, то выгибается, то откидывается, то скукоживается как эмбрион, то вся радостно раскрывается. Стон, который она издает, – это стон мучительного наслаждения. Веки ее поднимаются, зрачки расплывчаты от блаженных слез.
– А… это ты… – ломким голосом говорит она. – Подожди… подожди… сейчас… Я… скоро… освобожусь…
Она гладит ладонями щупальце, теребящее грудь, прижимает его к себе, наклоняясь, страстно целует, и одновременно в провале стены, края которой как бы немного дымятся, в антрацитовой бездне, уходящей неизвестно куда, приоткрывается круглый янтарный глаз размером с чайное блюдце. Это именно глаз – перечеркивает его вертикальная полоска зрачка, видна мутная пленка, свисающая по окружности бахромой, и смотрит он на меня с каким-то презрительным равнодушием – точно на студень медузы, погружающейся в водную глушь.
Интересна моя реакция на этот гиньоль. Она выглядит парадоксальной, хотя позже я прихожу к выводу, что все было вполне естественно. Так вот, я не вскрикиваю, не отшатываюсь, не пытаюсь заслониться от Ирэны рукой, не впадаю в беспамятство, не стукаюсь лбом о косяк, я просто как воспитанный человек, узревший неприличную сцену, негромко говорю: «Извините», – и осторожно, почти бесшумно вновь затворяю дверь. Действую я как-то автоматически. Не знаю, откуда взялась такая уверенность, но я отчетливо понимаю, что мне ничего не грозит. Я не пугаюсь даже мягких шлепков, раздающихся позади, когда щупальце, вырвавшееся из комнаты, устремляется за мной в коридор. Я в это время уже нахожусь в помещении офиса и, чуть задержавшись в прихожей, с болезненным любопытством смотрю, как оно, брякнув ручкой дверей, выпадает сквозь образовавшуюся щель на линолеум. Я даже успеваю заметить, что испод у него не серый, а желтовато-коричневый, и что язвы огней, продолжающих слабо мерцать, расположены на кольчатых мелких сегментах.
Впрочем, меня это не особенно занимает.
Я и так увидел все, что хотел.
На улице я оборачиваюсь и бросаю прощальный взгляд на окно. Шторы в квартире задернуты, но фиолетовый отблеск за ними по-прежнему ощутим.
Только теперь я чувствую некоторое волнение.
Видимо, потому, что знаю – я сюда уже никогда не вернусь…
10. Кетер
Ровесник века. Скрипт магнитофонной записи, сделанной в начале 1980х гг.
…А за углом, за дощатым забором, Марья Степановна, мать наша спасительница, стоит. И чувствуется, что давно тут стоит: трава, которая у забора, взад и вперед истоптана вся. И вот бросается она мне навстречу, глаза в пол-лица, платок съехал, губы прыгают, ботики у ней все в грязи, сообщает, что Григория Соломоновича ночью арестовали, обыск в квартире был, под утро, в пять часов, его увели. А сейчас, говорит, идет обыск у него в кабинете: открыли сейф, просматривают бумаги, лекарства, которые он по инструкции там хранил, все переписывают, оформляют на протокол… Ну, она как это увидела – сразу ко мне. Домой идти не решилась, тут, в Никоньевском переулке, ждала… Спрашивает: «Что ж будет теперь, Егор Иванович?..» А я думаю: ну, не зря у меня сегодня ноги на работу не шли. Правда, лёгонько так, будто бы прихворнул. И только подумал про это, вдруг – бац! – прошибает меня цыганский пот, коленки будто резиновые, ступней не чувствую, вокруг все качается, чуть не упал. Похуже, чем в двадцать девятом году, когда товарищ Артем Башковитов явился собственной персоной за мной… Вот, думаю, оно что… Вот, значит, как оно складывается еперь… К счастью, на этот случай давно уже у меня было все решено. Говорю Марье – ты, дескать, Марья, давай вертайся назад, спохватятся, искать тебя будут, тоже нехорошо, а если про меня спросят, скажешь, что позавчера еще, дескать, уехал по приказу в командировку, в Главсанупр заявки на оборудование повез, ничего больше не знаешь, не ведаешь, дурочку из себя строй… Марья лишь кивала после каждого слова, побежала, крикнула, обернувшись: «Егор Иванович, спаси тебя бог!..» Ну, а я, значит, обратно – паспорт, командировочное удостоверение прихватить, еще зимой, как чувствовал, выписал его сам себе: печать, подпись, число только какое нужно поставь, ну и конечно, чтобы Настасью предупредить. Слава богу, без слез – тоже давно ей все объяснил…
И вот еду в тесной плацкарте, куда проводник меня подсадил, думаю: что же это, бог мой, опять, значит, где-то скрываться?.. Про дело врачей-отравителей я тогда уже знал, писали во всех газетах, как извели они по злобе своей товарища Горького, товарища Куйбышева, к самому товарищу Сталину, как аспиды, подбирались. По всей нашей больнице эти события обсуждали – и на собраниях, громко, и между собой, неслышимым шепотком. Однако не думал я, дурак дураком, что до Григория Соломоновича дело дойдет. Мы ведь с ним с сорок четвертого года знакомы, еще когда я по глупости в госпиталь его фронтовой попал. Дурацкая тогда история получилась. Предчувствие у меня, естественно, было, крикнул ребятам из взвода: «Ложись, наша летит!..» Все тут же попадали, знали уже меня. А дурошлеп один, вчера только из пополнения привели, башкой по сторонам крутит, не понимает – где да чего. Ну, я пока прыгнул к нему, пока пригнул до земли, пока сам повалился – рвануло рядом и будто дернуло меня за бедро. Рана-то, к счастью, пустяковая оказалась. И вот как только я заново на ноги встал, с костылем еще, сам еле хожу, начал тихонечко по госпиталю помогать: такой уж, значит, характер, не могу без дела лежать. То поднесу что-нибудь, то уберу, то, значит, поправлю, то в палатах что-нибудь починю. Григорий Соломонович заметил меня тогда, на фронт возвращать не стал, оставил при хозяйственной части. А потом, уже в сорок седьмом году, мне письмо написал: приезжай, дескать, не сомневайся, Егор Иванович, такому хозяйственнику, как ты, с руками, с правильной головой, работу всегда найдем. Комнату мне в общежитии сделал, дорос за четыре года я у него до начальника АХЧ. Душа в душу, можно сказать, притерлись. Мне ведь что главное? Главное – ты на меня постом своим не дави, не дергай понапрасну меня, пакости всякие делать не заставляй, а что требуется по работе, я в лучшем виде изображу… И вот, значит, Григорию Соломоновичу черед пришел… Ну, думаю, – это уже на полке, в поезде, – Усач наш совсем с глузду слетел. Совсем опупел, значит, старый козел. Потянуло его куда-то на старости лет. И ведь чувствую, что не просто так вся эта с врачами, с космополитами безродными кутерьма. Не просто так, нет-нет, проглядывает здесь тревожный подтекст. Знакомым душком повеяло, как тогда, в Осовце. Затеял, значит, Усач новое дело…
…По Красной площади с трудящимися погулял, вспомнил, как в том же двадцать девятом году бежал отсюда случайным везением, чудом из мавзолея. Это когда сеанс некробиотической инвольтации проводили. Один только я тогда сознание не потерял. Прав был Елисей: переродились мы, вероятно, внутри от этого багрового зарева. А товарищ Сталин потом, по слухам, долго болел, чуть ли не при смерти находился, операцию тяжелую перенес. Что-то, однако, тогда у них все же сцепилось, не зря в коллективизацию зраз скосили столько людей. Как там, думаю, наш энергичный доктор Кадмони, вряд ли жив, знал слишком много, наверное, расстреляли давно… Вспомнил также, как летом тысяча девятьсот восемнадцатого привез меня в Кремль, на машине, бедный Феликс Эдмундович, Владимира Ильича вспомнил, оскал страшноватый его, и опять-таки – как Усач, железный наш Дровосек, то есть товарищ Сталин, сбоку сидя, задумавшись, трубкой своей – пых-пых-пых… Вот когда это все началось… А еще вспомнил я Матвея Аристарховича моего. Как он кашлял, сгибаясь, как платок ко рту прижимал, как мне книги давал, как рассказывал целыми вечерами про светлое будущее человечества – социализм. Н-да, думаю, с социализмом у нас как-то не так получилось. Сама-то идея, если прикинуть, вроде бы была ничего, да вот заморочили ее всю, выпачкали в кровавой грязи…
…Дарью, честно скажу, я не сразу узнал. Идет какая-то женщина сгорбившись, шаркает, сумку брезентовую несет. Ну, я стою как дурак. А она повернулась ко мне, ахнула так чуть слышно, тоже – стоит… Дарья, говорю, это ты?.. Отвечает: «Что, старая стала, Егор Иванович? Так ведь считайте сами, двадцать восемь годков прошло. Мне каждый год – как зарубка больная на сердце…» У меня враз горло перехватило, хочу вздохнуть – не могу, воздух в грудь не идет, думаю, брякнусь сейчас башкой на асфальт. Наконец говорю: «Нет, Дашенька, мне все равно – двадцать лет тебе или сто, и сколько годов прошло, и сколько еще пройдет, ничего, говорю, не изменится, ты для меня какая была, такая и есть…» Она зажмурилась, отвечает: «Чудесно вы это сказали, Егор Иванович. Я тоже, как вспомню ту встречу нашу – на Кронверкском, на проспекте, – так обмираю до пят. Вот вы спешите куда-то, революцию делать, весь в кожанке и в фуражке, с маузером, с кобурой на боку, а я думаю: жизнь это моя идет. Как вы сказали тогда: Дарья, жди!.. С тех самых пор, значит, и жду…» А Васеньку нашего, говорит, как на фронт в августе сорок первого взяли, так в сентябре, в последние дни, уже извещение на него пришло… Открыла глаза: «Пал смертью храбрых…» Хочу я ей объяснить, что ну никак не мог объявиться тогда – и ей смерть была бы, и мне тоже – верная смерть. А может быть, что-нибудь и похуже смерти: вон как товарищ Дзержинский по коридорам лабораторным ходил… И чувствую опять – не могу. Опять что-то в горле, опять комок твердый стоит… В общем, смотрю я на ее морщинки у глаз, на платок ее выцветший, синий, с обтрепанной бахромой, на пятно какое-то кожистое на шее, на пальцы, ломкие, сухонькие, которыми она за щеку взялась, и такая тоска меня всего вдруг берет. Никогда у меня такой тоски не было. Даже когда потрепали нас сильно под Пенджикентом, и вот мы втроем, все, что от отряда осталось, шли целый день по пескам неизвестно куда… жара, раскаленный ад… Вечером вышли к колодцу, что на старом караванном пути, а он, здрасьте, весь завален телами… И вот – воды нет, помощи нет, жить нам осталось от силы два дня… А сейчас, чувствую, даже хуже еще. Ну почему, почему, думаю, это все должно было быть именно так? Почему товарищи Ленин, Троцкий, Дзержинский раздули этот пожар? Почему весь мир нужно было с ног на голову перевернуть? Почему жизнь моя сгорела дотла? Почему Усач этот рябой, товарищ Сталин, творец всех наших побед, до сих пор косит нас, как траву? Почему Григория Соломоновича арестовали… За что нам это, думаю, боже ты мой, за что это, за что?.. А Дарья глядит на меня как будто издалека, и чувствую я, что до капельки, до последнего вздоха все во мне понимает. И говорит: «Спасибо вам, Егор Иванович, что свиделись. Уже не чаяла, что получится, а вот, значит, так было нам суждено. А теперь, – говорит, – идите, идите – чего сердце рвать. Вы идите себе, идите, а я буду отсюда на вас смотреть. Как тогда, в Петрограде, на Кронверкском, когда вы бежали революцию делать. Только не оглядывайтесь, – говорит, – ради бога, не оглядывайтесь, прошу вас, не оглядывайтесь, как тогда. Не оглядывайтесь, Егор Иванович, а то я сразу умру…» И вот пошел я вдоль каких-то домов. Не вижу нисколько, все расплывается, как в тифозном бреду. Понять не могу – земля подо мной или что? Жив я или мертв? Откуда я, почему и зачем? На первом же углу повернул – так, значит, на нее и не оглянулся…
…Вдруг начал соображать, что мне следует делать. Как будто вдруг я стал не я, а совершенно другой человек. Как будто мне кто-то мозг железной щеткой протер. Осветилось вдруг все, приблизилось, как в кино. Ладно, думаю, пусть, значит, так. Если предначертана мне такая судьба, исполню всю ее до конца. Тут и трамвай нужный мне подошел, проехал я на нем остановок пять-шесть, торкнуло меня в сердце, наСретенке соскочил. Гляжу, как чувствовалось, в самом деле – аптека. Зашел – сидит за стеклянным окошечком старик в белом халате: шнобель – во, длинный, кривой, пенсне поблескивает слепотой, как у товарища Берии. А из остатков волос лысина полированная торчит. И не просто лысина, а как корка у дыни – вся в темных бороздах, в крапинках, в тверди старческих лет… Чем, говорит, могу служить, молодой человек?.. Да вот, отвечаю, нужны мне некоторые… значит… лекарства… Только рецепта у меня нет, зато денег могу вам заплатить… Ну, говорит, молодой человек, деньги – это для нас не главное. Не для денег живем, давайте, говорит, диктуйте, что вам там требуется… Начинаю ему перечислять одно за другим: «желтый меркурий» мне нужен, «лигурийский нефритовый блеск», «годус ливаникус», каломель, перетертая с мелким «сернистым цветом»… Самому непонятно, откуда такие слова берутся. Никогда вроде не слышал, а вот – свободно, без запинки произношу… У аптекаря этого аж пенсне на нос съехало, брови, наоборот, поднялись, уши по бокам головы торчат, как хрящеватые лопухи. Вдруг говорит: «А еще вам нужна свеча из жира черной собаки и три грана ладана, выращенного и обработанного в Экель-Доффаре…» Киваю: «Правильно, откуда вы знаете?..» Эх, говорит, молодой человек, давно никто ко мне с этой рецептурой не приходил. Лет, наверное, сто пятьдесят… Вздохнул, поправил свое пенсне: «Ладно, идемте…» Встает, и вдруг оказывается, что ростом он чуть ли не до самого потолка. Я – метр семьдесят пять, бог не обидел, а он, вижу, длиннее меня еще сантиметров на шесть. Ничего себе, думаю, хорош старичок! Главное, тощий как жердь, локти острые оттопырены, будто у паука. Того гляди заграбастает. Ну, мне уже все равно. Прошли к нему в кабинет, что в задней, то есть служебной, части аптеки, достал он из медицинского шкафчика все эти, по-научному выражаясь, ингредиенты, отвесил, ссыпал их в медную плошечку, мелкую, начищенную до блеска, а внутри у нее рисунок, заметьте – что-то вроде перевернутой пятиконечной звезды, провел так любовно пальцами по краям – вот, говорит, с края света, из Киренаики привезено, из местечка Ирасу, вы, молодой человек, наверное, о таком и не слышали… Отвечаю ему: «Меньше слов, товарищ аптекарь, времени у меня нет…» А он морщится: «Вы не понимаете, молодой человек, чего-чего, а времени у нас всегда достает…» В общем, ссыпал он эти ингредиенты в плошечку, палочкой стеклянной, отполированной аккуратно перемешал, на треножник пузатенький, тоже вроде из меди, эту плошечку водрузил, спиртовку поставил под ней, тут же, слева откуда-то, придвинул свечу – длинную, серую, перевитую, тоненькую как спичка, – потом снял зеркало с противоположной стены и пристроил его напротив, чтобы удобно было смотреть… Ну вот, говорит, все готово. А вы все же еще раз подумайте, молодой человек, стоит ли оно, не знаю, что вы там замышляете, стоит ли того, чтобы вмешиваться в судьбу. Я вот давно живу, говорит, и твердо понял одно: что бы ни делал, а ничего изменить нельзя… Ладно, отвечаю ему, не жмурьтесь, товарищ аптекарь, я уже все решил. Судьба не судьба, пусть будет так… Ну что ж, кивает, тогда успеха вам, молодой человек… Снимает халат свой, вешает его на крючок, вздыхает так скорбно, окидывает все вокруг как бы прощальным взглядом. Когда закончите, говорит, то входную дверь просто прикройте. Я-то, говорит, сюда уже не вернусь. Все, говорит, финита ля комедия: завершился мой срок… Выходит из кабинета, щелкает за ним язычок замка. Странный такой старичок, полностью дореволюционный. Табличка у него над столом висит: «Заведующий аптекой номер такой-то, старший провизор Арон Гасанович Фер»… Ну, думаю, сейчас главное – не останавливаться. Зажег свечу, она этак бодренько затрещала, искры от нее полетели – длинные, голубоватые, к потолку, выключил в кабинете свет, придвинул стул. Вижу лицо свое в зеркале – бледное, точно из сырого картофеля; ладно, думаю, двум смертям не бывать, держись боец Сохов, не в такие дела попадал, да и что, собственно, я могу здесь потерять?.. Зажег спиртовку под плошкой, секунды через четыре начал подниматься над ней бурый пахучий дымок. В горле у меня сразу запершило, в глазах тоже – слабая, как от бессонницы, резь. И вот что странно: плошечка сама махонькая, три чайных ложки, порошку туда аптекарь всыпал щепотку, всего ничего, а дым от нее мгновенно всю комнату заполонил – шкафов, стен не видно, будто торфяник горит. Зато зеркало на столе отчетливо проступило – засветилось, подернулось как бы тоненьким серебряным льдом, тут же, правда, растаяло, образовалось что-то вроде окна, за ним – комната, погруженая точно в загородную тишину, а в полуночной глубине ее: диван черной кожи, матерчатый абажур, на стене – картинки пришпилены, вырезанные из журнала. И вот отворяется дверь, входит туда человек, невысокий, сутулый, в чем-то серо-зеленом, типа полувоенном френче, под мышкой у него шерстяной клетчатый плед. Топчется он, медленно оборачивается, и вдруг вижу я, бог ты мой, это ж Усач рябой – товарищ Сталин, собственной, значит, персоной, я его очень хорошо различаю: постарел, кожа обвисла, что-то жабье в лице, глазки близко посаженные, мутные, будто с похмелья, и он в ту же секунду замечает меня – вдруг отшатывается, вскрикивает беззвучно, машет руками, роняет на пол свой клетчатый плед, тут же сам, вроде бы захрипев, как тряпичный куль, всем телом валится на него, свеча тут же вспыхивает напоследок и гаснет, и вслед за ней так же вспыхивает и гаснет под пузатым треножником прозрачный спиртовой огонек…
Вот, думаю, это все. Выбрался я осторожненько из аптеки, прикрыл за собою дверь, как Арон Гасанович попросил. А на улице, оказывается, уже утро: только что рассвело, солнце яркое, новорожденное, как на сковородке, горячее, брызжет в глаза. Асфальт – в черных ручьях. Начало марта, весна. Москва, будто очнувшись, выползает из снега. И запах свежести, чистоты – от талой воды… Вот, думаю опять, зачем жил? Зачем пятьдесят с лишним лет ходил по земле? Зачем нес меня огненный вихрь? Зачем жизнь свою, всю как есть, стер в труху?.. А вот затем, думаю, чтобы зажечь эту свечу. Затем, чтобы конец этому положить. Чтобы увидеть в туманное зеркало, как вскрикнет и упадет проклятый Усач. Вот для чего. Для этого, выходит, и жил… И так мне почему-то легко становится на душе. И все меня почему-то радует и бодрит. И все как будто начинается заново. И во всем том, что происходит со мной, есть, оказывается, тайный и удивительный смысл… И вот иду я себе неизвестно куда – народу все больше, машины уже начинают суматошно гудеть, звенят трамваи, галки, как полоумные, мечутся над крышами и кричат. Кажется, что весь мир пробуждается. И почему-то чувствую я, что вот сверну сейчас за ближайшим углом, и время расступится предо мною, как кисея, а что-то иное, скрытое им, напротив, радостно и счастливо сомкнется, и выйду я прямо на Кронверкский проспект в Петрограде, и вскрикнет ветер, и будет снова революционный семнадцатый год, и счастье преображения, и светлые горизонты надежд, и сладкий воздух, и предчувствие чего-то неслыханного, и жизнь, провернувшись по кругу, пойдет совсем по другой колее, и сам я буду уже совершенно другой, и Дарья, встрепенувшаяся, сияющая, тоже совершенно другая, но при этом точно такая же, в платьице необыкновенном своем, как из теплого сна, шагнет мне навстречу…
Не так много остается сказать. Я постараюсь быть кратким, чтобы избыток деталей не заслонял собой содержание. Осень в этом году какая-то никакая. То есть дни, естественно, убывают, становится холоднее, брызжет дождь, теряет яркость солнечный свет, желтеют листья, темнеет в каналах вода, но все это проходит мимо сознания, не задерживается – как полустертые рисунки карандашом. Под стать у меня и настроение в это время. Оно тоже какое-то никакое – вялое, заторможенное, цвета бесконечных дождей. Я снова движусь и разговариваю через силу. Жизнь похожа на затянувшуюся бессонницу.
Это, разумеется, не означает, что я вообще раскис. Дисциплина, выработанная за годы исследовательских трудов, держит меня на плаву. Нет лучшего лекарства от жизни, чем ежедневное и монотонное следование избранному пути. Я пишу несколько рецензий, которые уже давно обещал, заканчиваю статью о ситуации в современной России, обдуманную еще в Таганроге, читаю краткий спецкурс в заведении со странным названием «Институт свободных наук» и, наконец преодолев неясные внутренние сомнения, подключаюсь к большому проекту, который начинает осуществлять Борис Гароницкий.
Идея его, как все гениальное, чрезвычайно проста. Надвигается столетняя годовщина Первой мировой войны 1914–1918 гг. Эта война послужила поворотным пунктом в истории человечества: многое из того, что составляет нашу современную жизнь, заложено и предначертано было тогда. Между тем данный материал по-настоящему еще не освоен. Беспристрастному его изучению, академическому осмысливанию в кабинетной тиши помешала следующая война, названная Второй мировой. А потому, считает Борис, следует организовать цикл международных симпозиумов или конференций, каждая из которых была бы посвящена определенному году этого великого катаклизма. Начать прямо с Сараевского покушения, с предвоенной обстановки в Европе, которая, к сожалению, известна нам лишь в самых общих чертах, и далее продвигаться методично, последовательно, за шагом шаг, анализируя и сопоставляя разные точки зрения. Ведь там каждый год – как эпоха. План Шлиффена и наступление немецких войск на Париж, успешная Львовская операция и гибель армии генерала Самсонова в Восточной Пруссии, грандиозная битва на Сомме, сражение за Верден, «окопно-заградительная стратегия», ставшая неожиданностью для обеих сторон, появление первых танков и самолетов, прорыв Брусилова, геометрия «военных морей»… А надрывно-патриотическая культура того времени!.. А громадная мировоззренческая трансформация, породившая в результате коммунизм и фашизм!.. Хорошо бы свести все это в единый историософский концепт. Борис еще летом проконсультировался кое с кем из своих друзей в Европе и США – все в восторге, обещают эту идею всячески поддерживать и продвигать. Только между нами, пожалуйста, пока не говори никому, но уже – тьфу, тьфу, тьфу! – оформляются первые зарубежные гранты… Более того, предполагает Борис, если удастся продемонстрировать приемлемый результат, это можно будет продолжить таким же циклом об Октябрьской революции. Ну так с тысяча девятьсот шестнадцатого по тысяча девятьсот двадцать первый год. Этот цикл, кстати, ты вполне мог бы взять на себя…
Идея действительно феноменальная. Она обеспечит мероприятиями наш научный мирок лет на десять вперед. Причем поскольку это все значимые, содержательные, бесспорно юбилейные даты, то и подсветка в прессе, скорее всего, тоже будет на высоте. К тому же, хотя об этом Борис предпочитает скромно молчать, но та научная группа, которая данное мероприятие поведет, окажется в самом центре международного исторического сообщества. Войдет, если можно так выразиться, в иерархический топ.
В общем, институт наш сильно перевозбужден. Никто, по-моему, не работает, все лихорадочно размышляют – как бы побыстрее и поудобнее усесться в этот блестящий экспресс. Забыты прежние разногласия. Опасные мечи и кинжалы зачехлены. Я собственными глазами вижу, как Еремей Лоскутов прогуливается чуть ли не под руку с Юрочкой Штымарем – склоняется к нему, убеждает в чем-то, и Юра, видимо соглашаясь, кивает. Дым идеологических битв рассеивается, очевидные выгоды ситуации сводят в союз даже непримиримых врагов. На этом фоне как-то удивительно мирно проходит у нас давно ожидаемый общеинститутский хурал: Петра Андреевича единогласно избирают на следующий четырехлетний срок. Все понимают, что сейчас не до местечковых разборок: впереди громадный пирог со вкусной начинкой, и надо бы нарезть его аккуратно, без панической толчеи. Наш Петр Андреевич подходит для этого лучше всего.
Нельзя сказать, что эти перспективы оставляют меня равнодушным. Такой шанс выпадает историку действительно – раз в сто лет. Пропустишь его – всю жизнь будешь сидеть в пыльном углу. Однако меня, точно демоны, поселившиеся в душе, мучают воспоминания о странных событиях последних месяцев. Что здесь истинно, а что фантомы воображения? Что здесь реальность, а что конспирологические миражи? Это ноет во мне, как глубоко скрытый абсцесс, лишает сна и не позволяет сосредоточиться ни на чем другом. В конце октября (знаменательный для России период) я все-таки не выдерживаю, нарушаю все клятвы, которые сам себе дал, и заглядываю на улицу, где располагался ФИСИС. Как и следовало ожидать, окна в квартире Ирэны безнадежно темны, на них – надпись, сделанная известковым раствором: «rent», то есть «сдается». Очевидно, что здесь никто не живет. Ворота по-прежнему заперты на замок. Двор, просматривающийся за ними, тоже не подает признаков одушевленного бытия: светлеют на плиточном покрытии лужи, топорщится, как увядшие дни, коричневая прожильчатая листва. Подниматься в сам офис у меня желания нет. Я и без того абсолютно уверен, что там – сумеречная пустота.
Все это время в сознании у меня как бы клубится туман. Самое трудное при работе с историей – это достоверные выводы, которые можно было бы предъявить. Гуманитарное знание, как я, по-моему, уже говорил, тем и отличается от естественного, что здесь невозможно с точностью воспроизвести результат. Нельзя поставить эксперимент, нельзя осуществить «пробу крестом», которая однозначно свидетельствовала бы о подлинности событий. Мы по большей части имеем дело с человеческими документами – их фактурная и смысловая неопределенность, как правило, бывает столь высока, что любое заключение, основывающееся на них, представляет собой лишь более или менее вероятностную интерпретацию. Историки зачастую как бы ощупывают слона в темноте: один говорит – это тумба, другой – это веревка, третий – это толстый червяк. Некому зажечь свет, чтобы озарить исследуемый объект целиком. Нет приборов, способных очертить хотя бы примерный контур его. Отсюда такое количество исторических мифов. И такое множество разнообразных вопросов, ответы на которые никакими усилиями не получить.
Существуют, однако, метафизические критерии. Один из греческих православных теософов, коего я недавно читал, например, полагает, что если мы признаём факт подлинности Иисуса Христа, факт подлинности его сошествия в мир, то мы тем самым признаём и подлинность всего, что последовало за этим, никакие иные доказательства уже не нужны. Истина верифицируется через веру, через «первичную сцену», как бы назвал ее доктор Фрейд. Это напоминает мне легенду о царе Мидасе: все, до чего бы он ни дотрагивался, превращалось в драгоценный металл. Правда, Мидас в результате чуть не умер от голода и потому слезно молил богов взять обратно сей двусмысленный дар, а христианство, если продолжать аналогию, живет и здравствует до сих пор. Вместе с тем нет уверенности, что, выраженное иерархией церкви, оно сохранило свой первоначальный божественный потенциал.
Я довольно много размышляю об этом. Для меня критерием подлинности, конечно, является безумная сцена в офисе: Ирэна в кресле, конвульсии огромного спрута, его ледяной круглый глаз, открывшийся в бездне бездн. Это мое пришествие, мое личное откровение, моя «проба крестом», мой инквизиторский «божий суд». Если истинна эта персонификация тьмы, значит истинно и все то, что доселе представлялось абсолютно неправдоподобным. И таинственный обряд хавайот, совершенный сто лет назад в агонизирующем Осовце, и могущественное инферно, десятилетиями пропитывавшее советскую власть, и гигантская монструозная тень его, постепенно овеществляющаяся сейчас. Это и есть тот свет, который озаряет «слона». Тот бледный локатор, который, как в судороге, очерчивает гнилушечные контуры небытия. И, пожалуй, даже понятно, кто этот свет внезапно включил. Откровение потому и называется откровением, что для сомнений в нем места нет.
Вот что невероятно выматывает меня. Вот что не дает мне покоя ни днем, ни ночью. Я езжу в маршрутках, снующих как тараканы в щелях, теснюсь в автобусах, спускаюсь в духоту переполненного метро, спешу по улицам города, застывшим в транспортном параличе, сижу на совещаниях, лекциях, обсуждениях, семинарах, топчусь в громадных универмагах, включаю по вечерам интернет – и от бессмысленности всей этой человеческой толчеи меня прохватывает озноб. Я будто нахожусь в царстве эфемерид: все призрачн, все не имеет никакого значения. Зачем куда-то спешить? Зачем протискиваться, задыхаясь, сквозь хаос бытовой суеты? Зачем жадно вдыхать иллюзию успеха, счастья, любви? Ведь ничего этого не удержать. Уже начертаны на стене магические письмена, уже исчислены сроки и взвешено бесплотное вещество нашей жизни. Уже облетает потрескавшаяся шелуха пустоты. Спасения нет. Стрелки часов смыкаются на времени «полночь». Мы как дети, которые увлеченно строят домики на песке, а в это время, рожденная колебаниями океанского дна, с неправдоподобной бесшумностью вздымается из моря волна, достигающая небес. Мы не видим ее, мы слишком поглощены своей детской игрой.
Так прокручивается осень этого года. Она мелькает как рекламная вставка и не оставляет в сознании практически ничего. Зима, впрочем, оказывается нисколько не лучше. Весь ее слякотный, невыразительный антураж заслоняется событиями, вспыхивающими после выборов в Думу, произошедшими в декабре.
О митинге на Болотной площади я уже говорил. И о своем скептическом отношении к лидерам нынешней политической оппозиции – тоже. Однако поражают реальные масштабы протеста: десятки, сотни тысяч человек в одной только Москве. Это, конечно, уже не случайные завихрения, сглаживающиеся сами собой, не стандартные социальные осцилляции, сопровождающие почти всякий политический цикл. Здесь дело в другом. И потому по дороге из Москвы в Санкт-Петербург я думаю, помимо всего, что данную ситуацию, безусловно, следовало бы расценивать как предреволюционную. Перефразируя знаменитый тезис Владимира Ильича, это можно сформулировать так: верхи еще что-то могут, но низы уже категорически не хотят. В протестных митингах, вероятно, как раз и проявляет себя «энергия отложенных изменений», о чем когда-то обмолвился Евгений Францевич Милль. Сколько, однако, он всего предсказал! Ведь никакая власть, не только российская, никакая власть вообще, ни при каких условиях, никогда не хочет реформ. Любая власть в интуитивной тревоге чувствует, что реформы для нее – это хуже чем смерть, это ситуация высокой неопределенности, это новые правила социальной игры, это новые люди, это риск взойти на реальный или метафорический эшафот, и потому оттягивает, оттягивает преобразования – сколько хватает сил. Всеми средствами сопротивляется попыткам что-либо изменить. В результате социальное недовольство постепенно накапливается, начинает разогреваться, бурлить, неудержимо, в пене пузырей, закипать и наконец расплескивается спонтанными протуберанцами по улицам и площадям. Так было во Франции при несчастном Людовике XVI. Так было в Российской империи при несчастливом Николае II. Если же говорить о современном положении дел, то социальным аналогом здесь будет действительно не 1917, а 1905 год. Не революция, а скорее стихийные бунты, не осмысленный и целенаправленный вектор политических перемен, а пылкий, порожденный романтикой бури, громокипящий молодежный майдан: без сформированных партий, без позитивных программ, без политических лидеров, имеющих опыт революционной борьбы – хотя Троцкий, замечу, еще тогда, в девятьсот пятом году, был членом Петросовета. И тем не менее второй, более удачной попытки пришлось ждать долгих двенадцать лет. Пауза была почти безнадежная. Правда, с момента тех революций прошел целый век. Сейчас время истории течет гораздо быстрее.
Впрочем, закономерности революций меня не слишком интересуют. Гораздо больше интересует меня человек, который скоро, уже через несколько месяцев, вторично, после четырехлетнего перерыва, взойдет на президентский престол. Его часто показывают по телевизору, его лицо все время мелькает на страницах газет, и, напряженно вглядываясь в экран или в крикливый цветной разворот, я пытаюсь понять, что ожидает нас в близком будущем. Будет ли заключен договор? Грядет ли тьма, откуда будет на нас взирать гипнотизирующий янтарный глаз? Какой будет жертва, которую понадобится принести? Будет ли это лишь часть страны или тот, чьего имени стараются не называть, потребует на заклание весь народ? Иосиф Виссарионович в такой ситуации, помнится, не колебался. Отважится ли его нынешний дубликат сделать подобный шаг? Или, быть может, все вообще не так? Быть может, договор, тот самый, что я имею в виду, был заключен еще в преддверии нулевых годов, а жертвой, необходимой для его потусторонней ратификации, явились убийственные мучения постперестроечных лет?
Я не могу ответить на этот вопрос. У человека, претендующего на трон, вполне обыденная, заурядная внешность – таких девятьсот на тысячу, они и составляют толпу. За что, вероятно, его и любит народ. Однако у него явно недобрый взгляд, который он тщетно стремится сделать непроницаемым, у него нехорошая нервность, время от времени прорывающаяся брызгами вульгарного языка, а иногда, если свет в репортаже ложится под определенным углом, лицо у него становится цвета сырого гипса – возникает неприятное чувство, что он взирает на нас уже с той стороны. Правда, так бывает нечасто. Видимо, операторы строго за этим следят.
За ним вообще очень строго следят. Я вижу его то в церкви, сжимающего свечу, то на поклонении неким святым мощам, то благоговейно целующего чудодейственную икону, то осеняющего себя подчеркнуто смиренным крестом. Вокруг него – церковные иерархи. Курится ладан, поют, как в раю, ангельские голоса. Молитва из сердца взлетает непосредственно к небесам. Кроткий, умилительный антураж. Однако мне кажется почему-то, что если сфотографировать это все в технике Елены Матсан, то сквозь благостное выражение лиц проступят совершенно иные, непредставимо отвратительные личины. Я ведь не страдаю «православием головного мозга», которое, как эпидемия, бушует сейчас в стране, и потому не верю, что современная церковь способна чему-либо противостоять. Это чисто бюрократическая структура, ей, видимо, уже все равно, от чьего имени представительствовать на земле. Метафизическая защита распалась. Тихо и неотвратимо просачивается в наш мир темное воплощение бога.
В общем, я не способен прийти к какому-либо определенному выводу. Слишком много противоречий и слишком мало материала, которому можно было бы доверять. Правомерней будет сказать, что я прикоснулся лишь к краешку колоссальной тайны, чуть приподнял завесу, сотканную из нитей небытия, увидел лишь несколько случайных фрагментов подлинной механики мироздания, скрытой от наших глаз. Ведь не случайно истина рядом философов квалифицируется как «объект мерцающий». Она никогда не предстает перед нами во всей своей полноте. Какие-то ее измерения всегда остаются вне наших мыслей и чувств. Мы можем только догадываться о них. Так, вероятно, и здесь. Интуиция мне подсказывает, что договор, скорее всего, уже заключен, но привести достаточные свидетельства этого я, разумеется, не могу.
Честно говоря, это безнадежная ситуация. Я нахожусь в положении человека, который знает, что скоро произойдет катастрофическое землетрясение, или что пронесется по всей стране смертельный тайфун, или что упадет на землю гигантский метеорит – содрогнутся от удара материки. И при этом ничем не может подтвердить своих слов. Все, что в его распоряжении есть, – это слухи, сплетни, догадки, исторические фантазии, легковесные утверждения, сомнительные документы, оспорить которые не составит труда. Кто будет слушать его? Кто воспримет его лепет всерьез? Интернет перегружен подобными бредовыми домыслами. Меня вовсе не прельщает участь Кассандры, пусть даже упреки в безумии мне не грозят. Ничего удивительного, что настроение у меня гораздо ниже нуля. Не знаю, в какой перспективе, обратной или прямой, я пребываю сейчас, но только мир, казавшийся до сего незыблемым, вдруг превратился в фантом, готовый исчезнуть от первого же дуновения. Я точно странник, который после долгого блуждания по пустыне увидел на горизонте купы обетованной земли, но когда он, еле живой, этого горизонта достиг, то оказалось, что дальше – тот же серый песок…
Вот примерно такое у меня состояние осенью и в начале зимы.
Ну а в конце декабря я неожиданно встречаю Ирэну.
В заключение еще несколько слов. Свидетель покушения на Льва Троцкого вспоминал: «Сквозь грохочущий город, сквозь его напрасную суету, сквозь веселье вечерних огней мчалась карета скорой помощи, преодолевая уличное движение и обгоняя автомашины. Непрерывно завывали сирены, включил пронзительные сигналы на мотоциклах полицейский эскорт. С бесконечным горем в наших сердцах, в тревоге, возраставшей с каждым мгновением, везли мы раненого. Большую часть пути он был в сознании. Правой рукой он описывал в воздухе странные ищущие круги, как будто не мог найти места, куда ее положить. Наконец дотронулся до жены. Она склонившись, спросила, как он себя чувствует. «Теперь лучше», – ответил Троцкий. А через некоторое время добавил: «Скажите нашим друзьям: я убежден в победе… Вперед!..»
22 августа похоронный кортеж с телом Троцкого двинулся по улицам Мехико. В рабочих предместьях, на окраинах, в кварталах трущоб рваные, босоногие, молчаливые толпы заполнили тротуары. Американские троцкисты намеревались перевезти прах в Соединенные Штаты, однако государственный департамент даже мертвому революционеру запретил въезд в страну. В течение пяти дней тело было выставлено для прощания. Мимо гроба непрерывным потоком прошли триста тысяч плачущих и скорбящих людей, на улицах звучала песня «Большая коррида Льва Троцкого» – народная баллада, сочиненная неизвестным поэтом.
В Советском Союзе за хранение сочинений Л. Д. Троцкого грозило тюремное заключение, а во времена Сталина – смерть. Французский посол в Третьем рейхе Робер Кулондр рассказывал о своей беседе с Гитлером в канун Второй мировой войны. В ответ на хвастливую речь фюрера, где тот живописал картину своих будущих военных триумфов, посол спросил: «Вы мните себя победителем. А вы не думаете, что победителем можете оказаться вовсе не вы? Им может оказаться Лев Троцкий?» Посол вспоминал, что Гитлер в этот момент вскочил, «как будто его ударили в солнечное сплетение», и завопил, что угроза победы Троцкого – это и есть та причина, по которой Англия и Франция ни в коем случае не должны воевать против Третьего рейха.
Один из исследователей жизни и деятельности Льва Троцкого писал так. «Если считать, что большевики стремились только к социализму, а социализм оказался не чем иным, как очередным миражом, тогда революция всего-навсего заменила одну форму эксплуатации и угнетения другой и не могла сделать иначе. В этом случае Троцкий предстает как верховный жрец, глашатай того, чему не суждено было сбыться, как служитель утопии, фатально запутавшийся в иллюзиях и мечтах. Но даже в этом случае он заслуживает дань уважения и симпатии, которую отдают великим провидцам, а он был величайшим средь них. И если бы даже человеку было действительно суждено, спотыкаясь, мучаясь, в крови, идти от поражения к поражению, сбрасывать одно иго только лишь для того, чтобы покорно надеть другое ярмо, – даже тогда стремление его к совершенно иной судьбе все же рассеивало бы, подобно факелу, тьму и мрак бесконечной пустыни, через которую он бредет… И ни один человек в нашу эпоху не выразил это стремление столь ярко и жертвенно, как Лев Троцкий…» И дальше: «Жизнь и деятельность Льва Троцкого – важнейший элемент русской Октябрьской революции, более того, всей современной цивилизации – факт, который оспорить нельзя. Уникальность его судьбы, высочайшие моральные и эстетические качества его работы говорят за себя и свидетельствуют о ее непреходящем значении. Они образуют материал, из которого созидаются самые возвышенные и вдохновляющие легенды, – с той лишь разницей, что легенда о Троцком целиком состоит из зафиксированных фактов и установленных истин. Здесь нет мифа, выросшего из реальности. Напротив, сама реальность поднимается здесь до высот мифа»…
Напомним, что в России до сих пор существует множество памятников и бюстов Ленина, а фотографии и портреты Сталина россияне вздымают на демонстрациях вместе с плеском красных знамен. Ни одного памятника Льву Троцкому в России нет. Он пришел из тьмы и возвратился во тьму. За кулисами истории – прах. Однако горячее дыхание этого праха, по-видимому, еще способно родить неукротимый огонь…
В квартире меня охватывает безрадостная пустота. За время, истекшее с момента моего возвращения из Осовца, я уже как-то привык, что едва ступаю в прихожую, едва успеваю закрыть за собою дверь, как из комнаты, точно хищник из джунглей, появляется Вольдемар – для начала потягивается, так что хрустят кости в хребте, зевает, показывая чудовищные клыки, а затем вздергивает башку, пружинистый хвост и издает хриплый звериный мявк, могущий ввергнуть в дрожь неподготовленного человека. Такой мявк-рык, вероятно, выскакивает у льва, когда он бросается на добычу. У Вольдемара, впрочем, он означает лишь то, что я опять задержался и что его уже давно пора накормить.
Однако Вольдемар покинул меня еще в ноябре. Однажды, когда точно так же, достаточно поздно, совсем очумелый от долгого заседания кафедры, изжеванный и совершенно без сил я возвратился домой, то с тупым удивлением обнаружил, что его нет и следа. Никто не встретил меня диким мявком в прихожей, никто световыми хищными фарами не обжег мне глаза, в квартире гулял сквозняк – форточка в ближней комнате была распахнула настежь. Как Вольдемар ухитрился ее открыть, осталось загадкой. И также осталось загадкой, как он сумел потом спуститься во двор. Наверное, осторожненько сполз по водосточной трубе. Или, быть может, просто-напросто спрыгнул – второй этаж, остатки газона внизу, пустяки. Для меня это означало большее, чем потеря постоянного собеседника. Исчезновение Вольдемара свидетельствовало о том, что исполнено мое таинственное предназначение. Знать бы еще, конечно, в чем оно заключалось. Быть может, именно в том, чтобы вычислить наконец синагогу, заброшенную сто лет назад – провесить к ней трек, отчетливо высветить локус метафизического подключения. Правда, это чисто спекулятивное предположение. Вопрос опять-таки относится к тем, ответы на которые можно не получить никогда.
Аналогичных вопросов у меня неисчислимое множество. Я, например, до сих пор не могу решить, зачем Старковский вновь, после нашей беседы, ринулся в Осовец? Чего он там намеревался достичь – остановить договор или перевести его на себя, захлопнуть приоткрытую дверь или «сожрать трюфель», пока тот не достался другим? Хотелось бы думать, что первое, так благороднее, но и второго я, к сожалению, тоже исключить не могу.
Правда, сейчас меня это не слишком волнует. В действительное смятение приводит меня лишь наша нынешняя встреча с Ирэной. Понятно, почему она снова возникла передо мной – Ирэна, видимо, хочет поддерживать себя в вочеловеченном состоянии. А для того суккубам, голодным демонам тьмы, являющимся в нашем мире в женском обличье, необходим периодический любовный контакт. Им требуется телесный огонь, теплом и страстью которого можно насытится. Пропасть между человеком и богом была в свое время преодолена актом творения: человек стал подобием божества, а значит обрел какую-то часть его сил. Любовная близость тоже есть акт творения, и потому собственно человеческое, имеющее право существовать, здесь тоже может транслироваться в инобытийный фантом – как бы укореняя его в реальности, даруя ему настоящую жизнь и настоящую плоть. Ирэна не зря так откровенно жаждала непрерывной любви. Однако меня эти теургические процедуры не привлекают. Я не намерен в свою очередь превращаться в инкуба, обменивая человеческое в себе на потусторонние магические способности. Искушение, разумеется, велико, но и плата за подобную трансформацию такова, что вносить ее может лишь полностью обезумевший человек.
Мне же мой разум дороже.
Нет, нет – это не для меня.
Тем не менее я ощутимо нервничаю. И потому, вероятно, делаю то, что обычно себе категорически запрещаю. Включаю газовую плиту, но спичкой не чиркаю, а вместо этого простираю над конфоркой растопыренную ладонь, шевелю пальцами, напрягаюсь – с третьей попытки вспыхивает под ними венчик голубого огня. Я тут же искренне раскаиваюсь в содеянном, и все же я рад: инобытийная примесь во мне явно слабеет. Будем надеяться, что скоро она исчезнет совсем.
Далее я просматриваю новостной интернет. Примерно месяц назад я сделал закладки по лентам основных медийных агентств и теперь перелистываю их два раза в день, пытаясь выделить из трескотни собственно событийный контент. На меня сразу обрушивается безумный калейдоскопический шквал: падают самолеты, сталкиваются, как сумасшедшие, поезда, повстанцы берут города, их в свою очередь бомбят и обстреливают правительственные войска, взрываются смертники, предъявляются сексуальные обвинения, вопят звезды эстрады, пылают, точно бумажные, больницы, гостиницы и дома, рушатся только что возведенные здания, с грохотом проваливаются мосты, срываются в пропасть автобусы, вспучиваются эпидемиологические очаги. С особой силой эта музыка смерти звучит в России: стреляют из травматических пистолетов, бросаются на рельсы в метро, «чучмеки» нападают на русских, русские – на всех тех, которые «понаехали тут», пьяный на иномарке сбивает пять человек, в южной станице полностью, с женщинами и детьми, вырезают семью, разбивается самолет с футбольной командой, на Волге опрокидывается громадный туристический пароход, в полицейском участке до смерти избивают подростка, некая «боевая группа» сжигает в отместку восемь полицейских машин, бурлят какие-то митинги, какие-то демонстрации, кого-то за руки за ноги волокут неизвестно куда, президент говорит о величии Российской державы, какие-то растрепанные девицы в знак протеста обнажаются перед телекамерами, проходит очередной «народный собор», банды непонятных «чистильщиков» зверски истребляют бомжей…
Через час мне, как обычно, начинает казаться, что все кончено. Вывод ясен: анамнез и диагноз совпадают до мелочей. Если бог – это любовь, то вполне очевидно, кому принадлежит этот мир. Во всяком случае, не тому, кто воскрес во плоти на третий день после смерти.
У меня опухают веки.
Голова как будто набита дробленым камнем, деревом и стеклом.
Ладно, пусть так.
Я ни о чем не хочу думать сейчас.
У меня уже давно все решено.
Что делать человеку, когда горит Рим? Что делать ему в те страшные дни, когда пылает и гибнет Константинополь? Брать меч и сражаться?
Зачем?
Против кого?
И может ли меч создать то, чего нельзя было бы уничтожить другим мечом?
Я не участник, я только очевидец событий.
Я вижу зарево, но не скликаю воинов на защиту разрушаемых стен.
Я не стремлюсь спасти мир.
У меня нет меча.
Я лишь, по возможности беспристрастно, свидетельствую о том, что вижу вокруг себя.
О том, что было и есть.
О том, что прошло, и о том, что еще только грядет.
Это и называется – обратная перспектива.
Единственное, что я в этом мире могу.
Ибо в начале все-таки было слово, и слово было у бога, и слово само было – бог. И все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть.
Вот зачем я живу.
А если окажется вдруг, что и слово уже утратило силу.
Если окажется, что оно больше не бог.
Если исчезнет разница между быть и не быть.
Тогда – что же?
Тогда в самом деле – пусть придет тьма…