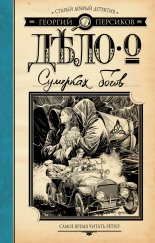Собиратель ракушек Дорр Энтони

– Я слепой, – в конце концов произнес он, поднимая руки. – У меня ничего нет.
И тут начался ливень; соломенную крышу трепал муссон. Где-то под половицами заголосили лягушки; их торопливое тремоло радостно приветствовало грозу.
Когда дождь пошел на убыль, коллекционер услышал, как с крыши падают капли, а под холодильником поет сверчок. В кухне зазвучал новый голос, уже знакомый, голос муэдзина, который возвестил:
– Отныне тебя оставят в покое. Как я и обещал.
– Мой сын… – начал коллекционер.
– Слепота, – продолжал муэдзин, взяв с кухонного стола теребру и перекатывая ее по деревянной стойке, – сродни раковине, ты согласен? Раковина защищает моллюска, живущего внутри. Моллюск забьется в раковину и будет в безопасности, так? Разумеется, сюда наведывались страждущие; разумеется, они жаждали исцеления. Что ж, теперь тебя ждет покой. Никто больше не станет требовать чуда.
– Эти мальчики…
– Их сейчас увезут. Они должны находиться под присмотром. Наверное, их определят в детский приют. В Найроби или, быть может, в Малинди.
А через месяц у него в кибанде появились два Джима; в вечерний чай масала они плеснули бурбона. Хозяин уже ответил на их вопросы, рассказал про Нэнси, про Зэму и Джоша. Нэнси, сообщили они, предоставила им исключительные права на свою историю. Коллекционер морских раковин уже предвидел, как будет выглядеть эта история: полночный секс, голубая лагуна, опасный яд африканской улитки, слепой целитель-гуру со своей овчаркой. Смотрите, люди: вот его захламленная ракушками кибанда, вот его жалкие трагедии.
В сумерках они втроем отправились в Ламу. Такси причалило к пирсу, и они зашагали вверх по склону. Из придорожных кустов, из крон склоненных манговых деревьев кричали птицы. В воздухе висел сладковатый запах – вроде как ананаса и капустного листа. Джимам каждый шаг давался с трудом.
На улицах Ламу было многолюдно; торговцы предлагали жаренную на углях снедь: бананы и козлятину-карри. Рядом торговали чищеными ананасами на черенках; дети с коробами через плечо продавали кокосовые пончики мандази и посыпанные имбирем лепешки чапати. Оба Джима и коллекционер морских раковин взяли себе по кебабу и устроились в каком-то переулке, привалившись к резной деревянной двери. Очень скоро проходивший мимо подросток предложил им кальян с гашишем, и Джимы рискнули. Коллекционер чувствовал запах густого, сладковатого дыма и слушал, как булькает вода.
– Вставило? – спросил подросток.
– Не то слово! – Джимы раскашлялись; у них заплетались языки.
Из мечетей до слуха коллекционера долетала напевная молитва, дрожавшая в узких переулках. От этого звука у него возникало странное ощущение: как будто его голова отделилась от туловища.
– Это таравих, – объяснил парнишка. – Сегодня Аллах определяет путь мира на следующий год.
– Попробуйте, – предложил один из Джимов, подтолкнув кальян прямо под нос коллекционеру.
– Не стесняйтесь, – со смешком приободрил второй.
Коллекционер, взяв мундштук, затянулся.
Время перевалило далеко за полночь. Они окликнули ловца крабов, и тот согласился подбросить их домой на своей мтепе с мотором – в северную часть архипелага, мимо прибрежных мангровых рощ. Собиратель морских раковин, подставив лицо ветру, сидел на носу, на проволочной ловушке для крабов. Лодка замедлила ход.
– Токени[2], – сказал рыбак; собиратель морских раковин так и сделал, а следом за ним оба Джима тоже перевалились через борт и оказались по грудь в воде.
Моторка умчалась; Джимы забормотали что-то про фосфоресценцию и начали восхищаться светящимися дорожками, которые тянулись за ними по воде. Коллекционер снял сандалии, чтобы босиком идти вброд, мимо острых кораллов и дальше, в глубокую лагуну, по твердым бороздкам донного песка и редким подушкам рыхлых, жестких водорослей. Его не покидало ощущение разъединенности, усугубленное гашишем, и теперь ему не составило труда вообразить, что ноги тоже отделились от туловища. Взмывая над морской гладью, он внезапно поплыл, не теряя при этом контакта с бирюзовой отмелью и коралловыми лабиринтами. Вот маленький риф: выползают на разведку крабы, кивают актинии, стрелой проносятся стайки мальков, замирают, рассыпаются… Он явственно чувствовал, как прямо под ним разворачивается такая картина. Рогатый кузовок, спинорог, рыба-арлекин, дрейфующая губка – вся эта живность изо дня в день проживала свою жизнь, как ведется испокон веков. У него невероятно обострились все чувства: сквозь плеск волн, разбивающихся за пятнистой лагуной, он слышал, как вопят крачки, как монотонно жужжат насекомые в акациях, и шелестят тяжелые листья авокадо, и машут крыльями летучие мыши, и сухо шуршат кокосовые пальмы, и впиваются в горячий песок опавшие колючки, и ровно шумит море в пустой ракушке, и втягивал гнилостный запах выброшенных на берег в черном мешочке яиц каких-то моллюсков, и знал, что вдали, у горизонта – куда ему не составляло труда дойти пешком – качается на волнах тушка дельфина, уже без плавников, обглоданная каменными крабами.
– А какое ощущение, – спрашивали Джимы далекими, сливающимися голосами, – возникает при укусе конуса?
До чего же странные видения посетили сейчас коллекционера морских раковин! А этот мертвый дельфин? А сверхъестественно обостренный слух? И вообще – правильно ли они идут к его кибанде? Или уже пришли?
– Хотите испытать? – отозвался он, удивив сам себя. – Сейчас найду пару конусов, совсем маленьких. Вы даже ничего не почувствуете. А потом сможете описать свой опыт.
Он пустился искать конусов. Зашлепал по воде, сделал круг и слегка утратил ориентировку. Направился к рифу, осторожно ступая между камнями; стал береговой птицей, охотником-журавлем, чей клюв настигнет и улитку, и зазевавшуюся рыбину.
Там, где он рассчитывал, рифа не оказалось; риф был сзади, и вскоре собиратель почувствовал, как пенные волны хлопают его по спине, швыряют под ноги осколки раковин, подталкивают к гряде водорослей, к крутому шельфу, к бегущей, нервной зыби. Букцинум, иглянка, олива – раковины задевали его ступни. Ага, вот и нечто похожее на улитку конус. Сама идет в руки. Он покрутил ее в пальцах, поставил торчком на ладонь – и тут волна запрещенным приемом врезала ему в подбородок. Пришлось отплевываться от соленой воды. Следующая волна дернула его за голень и ударила о камни.
Ему вспомнилось: в эту ночь Всевышний пишет судьбу мира на весь следующий год. Он попытался вообразить, как Всевышний склоняется над пергаментом, задумывается, перебирает возможности.
– Джим! – выкрикнул он и вроде бы услышал, как в его сторону шлепают двое толстяков.
Но нет.
– Джим! – позвал он снова.
Ответа не было.
Наверное, уже в кибанде сидят, подумал он. Устроились за столом, засучили рукава. Ждут обещанные конусы. Каждому из парней он прижмет улитку к локтевому сгибу, чтобы она впрыснула свой яд им в кровь. Они и не почувствуют. А потом накропают материал.
Собиратель ракушек полуплыл, полубрел к рифу, взобрался на скопление кораллов, оступился, ушел под воду. Темные очки соскользнули с переносицы и, покачиваясь, затонули. Он попробовал нащупать их пятками, но особо усердствовать не стал. Отложил это дело на потом.
До кибанды, конечно же, оставалось всего ничего. Передвигаясь полувплавь, с мокрой головой и в мокрой рубахе, он достиг лагуны. А где же сандалии? Только что ведь были в руке. Ладно, не важно.
Вода мелела. Нэнси утверждала, что мелководье пульсирует, медленно и звучно. Клялась, что, даже очнувшись, слышала это биение. Коллекционер морских раковин представил себе гигантский пульс – биение шестисоткилограммового сердца полярного кита. Которое за один удар перегоняет галлоны крови. Вероятно, это сейчас и послышалось, это и застучало в ушах.
Он с каждым шагом приближался к хижине, сомнений не было. Подошвы ступали по твердой ряби песка на дне лагуны. Он слышал, как обрушиваются на песок волны, как шуршат чешуйками кокосовые пальмы. А сам он несет на берег живое существо, способное парализовать, а то и прикончить щелкоперов из Нью-Йорка. Они ему ничего плохого не сделали, а он, поди ж ты, замышляет их убийство. Зачем ему это нужно? Неужели Всевышний лелеял этот план шесть с лишним десятков лет жизни коллекционера?
У него стучало в груди. Куда запропастилась Тумаини? Он воочию представлял, как Джимы, одуревшие от алкоголя и гашиша, втиснули свои влажные телеса в спальные мешки и не чувствуют, как мелкие кьяфу впиваются им в физиономии. В конце-то концов, эти парни просто делали свою работу.
Размахнувшись, он со всей силы зашвырнул улитку обратно в лагуну. Не нужно впрыскивать им яд. От такого решения ему сразу полегчало. Будь у него с собой побольше конусов – всех бы выбросил в море, чтобы не тащить домой такую отраву. У него нестерпимо затекло плечо.
И тут с поразительной четкостью, с ясностью, которая нахлынула на него не хуже волны, он понял, что сам напоролся на ядовитое жало. Куда ни кинь, он заблудился: в этой лагуне, в раковине собственной слепоты, в глубинах и извилинах своей нервной системы, по которой уже растекался яд. Поблизости садились на воду горластые чайки, а он уже был отравлен улиточьим ядом.
У него над головой мириадами точек плыли звезды. Жизнь его завершала последнюю спираль, уходя в самую темную дыру, там, где раковина сужалась до тени. Что ему вспомнилось, когда он падал, не в силах более противиться яду, в воды прилива? Жена, отец, Джош? Промелькнуло ли перед мысленным взором его детство, как в документальном фильме? Мальчонка под всполохами северного сияния забирается в отцовский вертолет «Белл-47»? А что еще у него было, что за горячее, твердое зерно человеческого опыта созрело у него внутри – сонная смерть в воде, яд, исчезновение, растворение, холодное зрелище его заполярного происхождения или полувековой слепоты, гром выстрела, поражающего оленя карибу, пули, направляемые в стадо с подножки вертолета? Нашел ли он веру, сожаление, огромный и печальный шар пустоты у себя за грудиной, своего невидимого, незнакомого сына, да хотя бы одно из чудесных писем Джоша, оставшихся без ответа?
Нет. Не успел. Яд уже разливался в груди. Ему вспомнился синий цвет. Вспомнилось, как один из Джимов у рифа любовался окрасом рыбы. «Надо же, прямо лазурь», – приговаривал он. Собиратель морских раковин, как ему помнилось, мальчишкой видел такую синеву в Уайтхорсе, глядя на ледяное поле. Даже теперь, пятьдесят пять лет спустя, когда зрительные впечатления больше его не посещали, даже в сновидениях (и облик мира, и собственное лицо давно забылись), он помнил непостижимую кобальтовую синеву на нижней кромке расщелины. Он сталкивал туда ногой снег, и крошечные искорки исчезали в ледовом разломе.
И тут тело покинуло его. Он растворился в самом ярком, самом живописном месте – в облаках, дымкой поднимающихся над горизонтом, в звездах, что сверкают в своих непроглядных пределах, в деревьях, вырастающих из песка, в живых приливах и отливах. Трудно представить, что он чувствовал, какое жуткое, холодное одиночество.
Нашла его поутру та самая девочка, Зэма, дочь муэдзина. После своего исцеления она каждую неделю привозила ему рис, вяленую говядину, туалетную бумагу, хлеб, сухое молоко в картонных коробках, а изредка – еще и почту, если было что привозить. Сидя на веслах, она, девятилетняя, добиралась из Ламу туда, где ее не видели ни с острова, ни с других лодок, а сама она видела только мангры; иногда она разматывала скрепленный булавкой черный платок и подставляла солнцу плечи, шею, волосы.
Коллекционера вынесло на полосу белого песка; он лежал навзничь. В километре от дома. Свернувшаяся у него под боком, жалобно выла мокрая Тумаини.
Он был бос; левая рука сильно вздулась, ногти почернели. От него пахло морем и тысячами вареных головоногих моллюсков, которых он пинцетом извлекал из раковин. Девочка втащила его в свою утлую лодчонку, приладила уключины и стала грести в сторону кибанды. Тумаини вприпрыжку бежала по берегу, останавливалась, чтобы подождать лодку, тявкала и пускалась дальше.
Заслышав под дверью девочку с собакой, Джимы, растрепанные, с красными глазами, выскочили из своих спальных мешков и расстарались, чтобы ей помочь. Коллекционера морских раковин внесли в дом, с помощью девочки вызвали доктора Кабиру. Лицо хозяина дома обтерли посудным полотенцем; послушали слабое, замедленное сердцебиение. Пару раз он переставал дышать, и эти здоровенные газетчики делали ему искусственное дыхание рот в рот.
Окоченение не проходило. Тянулись бессчетные часы, недели, месяцы. Он этого не ведал. Ему грезились крошечные стеклодувы, которые изготавливали из стекла зубы улитки, похожие на микроскопические ледяные иглы, на тончайшие рыбьи косточки, на лучи снежинки. Ему грезился замерзший океан под толстой коркой льда, по которой он гоняет на коньках, разглядывая внизу риф, его переменчивые и зыбкие скульптурные очертания, его необъятные карликовые царства. Все в них – от вялых щупальцев полипа до изжеванной, плывущей кверху брюхом рыбы-клоуна – было серым, разрозненным, искореженным. Леденящий ветер задувал под воротник, а облака, узловатые, рваные, уносились прочь в дикой спешке. Кроме него, на всей поверхности Земли не осталось ни одной живой души: не было ни встреч, ни зрелищ, ни почвы под ногами.
Изредка он просыпался: ему в рот вливали чай масала. Во рту напиток мгновенно замерзал, и в желудок, позвякивая, летели бесформенные кусочки льда.
В конечном счете отогрела его Зэма. Девочка наведывалась к нему каждый день: приходила на веслах под белым солнцем, по бирюзовым водам, из отцовской юмбы в скромную кибанду. Она поднимала собирателя ракушек с постели, сгоняла с лица муравьев кьяфу, кормила его подсушенным хлебом. Потом начала выводить на улицу и сидела рядышком на солнцепеке. Его не отпускал озноб. Она задавала ему вопросы о его жизни, о найденных им раковинах и о конусе, который спас ей жизнь. Со временем, придерживая за руки, она стала заводить его в лагуну, и он содрогался, когда воздух трогал мокрую кожу.
Коллекционер шел по воде, нащупывая раковины пальцами ног. С того дня, когда в него впилось ядовитое жало, минул год.
Запрыгнувшая на камень Тумаини принюхивалась, повернувшись к горизонту, где под сгустками кучевых облаков строем тянулись птицы. Зэма по обыкновению находилась рядом, на рифе, не закрывая плечи платком. Волосы ее, обычно стянутые на затылке, ниспадали на шею; в них отражалось солнце. С незрячим, да к тому же нелюбопытным человеком ей было спокойно.
Зэма разглядывала косяк мелких копьевидных рыбешек, мелькавших у самой поверхности воды. Они взирали на нее десятью тысячами круглых глаз, а потом лениво отплывали в сторону. Их тени скользили по рифленому песку, по скоплению кораллов, разросшихся в форме папоротника. Рыба-игла, думала девочка, а это – пульсирующий коралл, ксения. Я знаю, как их зовут и для чего они друг другу нужны.
Отойдя на несколько метров, коллекционер морских раковин остановился и нагнулся. Ему показалось, что у него под ногой буллия – слепая улитка с ребристой удлиненной раковиной, и он с осторожностью дотронулся двумя пальцами до верхушки панциря. Долгое мгновение улитка настороженно выжидала, а потом высунула из отверстия ногу и продолжила свой тяжкий путь по гребню песка. Собиратель ракушек некоторое время провожал ее пальцами, но потом выпрямился.
– Красавица, – прошептал он.
У него под ногами улитка, несущая на себе свой дом, ощупью пробиралась вперед, приспосабливаясь к рельефу песчаного дна и к своим собственным темным горизонтам, что вихрились вокруг нее со всех сторон.
Жена охотника
Охотник впервые выбрался за пределы Монтаны. Когда он проснулся, перед глазами все еще стояло это утреннее зрелище: взлет сквозь тронутые розовым кучевые облака, в глубине заснеженных долин точки домов и сараев; широкая панорама декабря – буро-черные горы с потеками снега, вспышки замерзших озер, длинные косы рек на дне каньонов. Небо над крылом самолета сделалось синим и таким чистым, что он даже не стал смотреть – опасался, как бы не заслезились глаза.
Сейчас уже стемнело. Они снижались над Чикаго; в этой электрической галактике все явственней проступали очертания кварталов: уличные фонари, автомобильные фары, коробки зданий, ледовые катки, грузовик, сворачивающий на светофоре, заснеженная крыша пакгауза, миганье антенн на отдаленных склонах и, наконец, длинные сходящиеся параллели синих огоньков вдоль посадочной полосы – приземление.
Он прошел в здание терминала и двинулся вдоль шеренги табло. Его уже преследовало ощущение потери: как будто у него отняли милое сердцу видение, какой-то чудный сон. В Чикаго он прилетел с единственной целью: встретиться с женой, которую не видел два десятка лет. Ей предстояло выступить перед администрацией и профессурой университета штата. Подумать только: даже университеты заинтересовались ее способностями.
На улице гулял ветер, подгоняя тяжелые серые тучи. Собирался снегопад. Из университета для встречи охотника прислали женщину на джипе. В окно смотреть не хотелось.
Поездка заняла сорок пять минут; оставив позади светлые высотки делового центра, они поехали вдоль голых дубов на окраинах, мимо куч убранного с дорог снега, бензоколонок, под солнечными батареями на вышках и телефонными проводами.
Вы, наверное, часто бываете на выступлениях жены? – предположила сопровождающая.
Нет, ответил он, впервые сподобился.
Она припарковалась у затейливого современного особняка с огромными треугольниками окон, обтекаемой формы колоннами, купольными фонарями и крутой шиферной крышей. Квадратные балконы нависали под разными углами над двумя трапециями гаражей.
На столике перед главным входом лежало порядка тридцати именных бирок. Его жена пока не приехала. Да и вообще, похоже, никто еще не приехал. Найдя свой бейдж, он прицепил его на свитер. Молчаливая девушка в смокинге приняла у него пальто.
Холл с гладкими, в крапинку гранитными полами оканчивался парадной лестницей, расширявшейся у основания. По ней спустилась женщина, которая, не дойдя до низа четырех или пяти ступеней, поздоровалась с его сопровождающей и назвала ее Анной.
А вы, должно быть, господин Дюма, обратилась она к нему.
Он пожал ее бледную худощавую руку, невесомую, словно ощипанная птаха.
Ее муж, ректор университета, сейчас как раз завязывает галстук-бабочку, объяснила она и грустно улыбнулась сама себе, будто с неодобрением относилась к такому щегольству.
За холлом располагался необъятный зал с панорамными окнами. Ступая по ковровому покрытию, охотник подошел к окну, чуть сдвинул занавеску и выглянул на улицу.
В тусклом свете виднелась открытая деревянная галерея, тянувшаяся вдоль всего фасада: с острыми углами, ступенчатая, разной ширины, с низкими перилами. Дальше в полумраке поблескивал окруженный живой изгородью пруд с купальней для птиц посредине. За прудом высились голые деревья – дубы, клены и один белый, словно кость, платан. Моргая зеленым глазом, низко пролетел вертолет.
Снег повалил, сказал охотник.
Неужели? – с тревогой переспросила жена ректора, вероятно из вежливости.
Здесь трудно было разобрать, что говорится искренне, а что для виду. Женщина, встретившая его в аэропорту, уже перешла в бар и, стоя с бокалом, разглядывала ковровое покрытие. Он вернул занавеску на место. Спустился ректор. Мало-помалу прибывали гости. К охотнику подошел мужчина в серых вельветовых брюках. «БРЮС МЕЙПЛЗ», гласил его бейдж.
Мистер Дюма, заговорил он, вашей жены еще нет?
Вы ее знаете? – удивился охотник.
О нет, замотал головой Мейплз, нет. Покачивая бедрами, он словно разминался перед забегом. Но я о ней читал.
Внимание охотника привлек новый гость – высокий, невероятно худой. Впалые щеки и глазницы делали его древним стариком, пришельцем из потустороннего мира, полускелетом. К нему подошел ректор, обнял и не сразу отпустил.
Это почетный президент О’Брайен, сообщил Мейплз. Широко известен в узких кругах. Жуть, конечно, что приключилось с его семьей.
Мейплз гонял соломинкой куски льда у себя в бокале.
Не понимая, как реагировать, охотник кивнул. И впервые подумал, что не стоило ему сюда приезжать.
Вы знакомы с произведениями жены? – полюбопытствовал Мейплз.
Он кивнул.
В своих стихах она называет мужа охотником.
Я проводник. Он смотрел в окно; на живую изгородь ложился снег.
И вас это не коробит?
Что именно?
Убийство животных. Ради заработка.
Охотник смотрел, как на стекле тают снежинки. Так вот, значит, как люди трактуют охоту? Как убийство животных? Приложив пальцы к стеклу, он ответил: нет, не коробит.
С женой они познакомились в Грейт-Фоллз, штат Монтана, зимой семьдесят второго. Зима в тот год нагрянула мгновенно, зримо. С северной стороны наступали два белых полога: они застили небо и землю, будто предвещая конец света. Перед собой они гнали ветер, и он бежал волчьей стаей, неудержимой волной, прорывающей дамбу. Взбунтовавшаяся скотина с воем перемахивала через изгороди. Валились деревья, с какого-то сарая сорвало крышу и бросило на шоссе. Река норовила повернуть вспять. Ветер швырял истошно кричавших дроздов в теснину – прямо на колючие кусты, где птицы навсегда застывали в уродливых позах.
В свои шестнадцать лет она была сиротой и работала ассистенткой иллюзиониста. История стара как мир: длинноногая девушка в сверкающем красном платье, передвижной иллюзион, очередное представление в зале местной христианской церкви. Охотник проходил мимо с пакетом продуктов в руках, как вдруг сильный шквал отбросил его в тупик за церковью. Такого ветра он еще не видывал. Его прижало к низкому окну, за которым шло представление. Фокусник оказался коротышкой в замызганной синей мантии. «ВЕЛИКИЙ ВЕСПУЧЧИ», гласил провисший баннер. Но охотник смотрел только на нее, юную, изящную, ослепительно улыбавшуюся. Ветер, как профессиональный борец, удерживал его у стекла в крепком захвате.
Фокусник уложил девушку в фанерный гроб, аляповато расписанный красными и синими зигзагами молний. С одной стороны торчали ее ноги, с другой – голова и шея. Девушка буквально светилась, хотя никто по доброй воле не согласился бы заживо лечь в гроб. Великий Веспуччи завел электропилу и с шумом распилил гроб ровно посередине. Затем он откатил девичью голову в одну сторону, а ноги в другую. Голова откинулась, улыбка погасла, глаза закатились. Приглушили свет. В публике заплакал ребенок.
Пошевели ступнями, приказал, взмахнув волшебной палочкой, фокусник, и ассистентка подчинилась: ноги в лакированных туфельках на высоком каблуке пару раз дернули носками. Публика завизжала от восторга.
Охотник смотрел на нежно-розовые тонкие скулы, на распущенные волосы и точеную выгнутую шею. Прожектор скользнул по окну. Смотрела ли она в ту сторону? Видела ли его прижатое к стеклу лицо, распахнутый ворот, рассыпавшиеся по земле покупки – репчатый лук, пакет муки? У нее дрогнули губы: она улыбалась? Хотела его приветить?
Ему виделась в ней особая красота, не сравнимая ни с чем другим. Снег запорошил ему воротник и окучил ботинки. Ветер утих, но снегопад не прекращался, а он так и стоял у окна. Фокусник соединил части гроба, расстегнул ремни, взмахнул палочкой – и его помощница срослась в одно целое. Она выбралась из ящика, поблескивая длинным платьем с разрезами, и сделала реверанс. А улыбалась так, будто с ней только что взаправду произошло чудо воскрешения.
Но вскоре сосна, упавшая возле здания суда, оборвала провода, и весь город погрузился во тьму. Билетеры с фонариками еще не успели вывести зрителей на улицу, а он уже мчался к ней, пытаясь привлечь ее внимание.
Тридцатилетний, он был вдвое старше ее. В красном свете аварийной лампочки она улыбнулась ему с импровизированной сцены и помотала головой: представление окончено. Сев в свой пикап, он сквозь метель последовал за фургоном иллюзиониста. Артисты приехали в Батт, где выступили на благотворительном мероприятии в пользу местной библиотеки. Следующей остановкой была Миссула. После каждого выступления он мчался к сцене, умоляя девушку поужинать с ним или хотя бы назвать свое имя. Он брал ее измором. Наконец в Боузмене она сдалась. Имя у нее оказалось самым что ни на есть заурядным: Мэри Робертс. В гостиничном ресторане они заказали пирог с ревенем.
Я знаю твой секрет, сказал охотник. Ноги в гробу – это ноги манекена. А ты просто сворачиваешься клубком и дергаешь за леску, чтобы эти болванки двигались.
Она рассмеялась: значит, это твоя профессия – преследовать девушку по четырем городам, чтобы уличить ее в обмане?
Нет, ответил он, моя профессия – охота.
Так-так. Охота. А в свободное время чем занимаешься?
Думаю об охоте.
Девушка вновь рассмеялась.
Ничего смешного, сказал он.
Ты прав, улыбнулась она, у меня похожая привычка. Постоянно думаю о магии, даже во сне.
Он нервничал, изучал содержимое своей тарелки, с трудом находил слова. Ужин продолжался.
Но я хочу большего, вдруг сказала она, доедая второй кусок пирога. Голос ее стал тихим и серьезным. Магия живет у меня внутри. Я не хочу, чтобы Тони Веспуччи всю жизнь распиливал меня напополам.
Кто бы сомневался, сказал охотник.
Я знала, что ты поймешь.
Но следующей зимой иллюзион снова приехал в Грейт-Фоллз, и Веспуччи снова распиливал ее пополам в таком же фанерном гробу. А год спустя – еще раз. Оба раза охотник водил ее в закусочную «Биттеррут», где она съедала два куска пирога. Больше всего ему нравилось смотреть на нее за едой: как подрагивает при глотании горло, как аккуратно выскальзывает из ее губ ложечка, как падает на ухо прядь волос.
А потом ей исполнилось восемнадцать, и после традиционного пирога она согласилась поехать к нему в охотничий домик, за сорок миль от Грейт-Фоллз, вверх по реке Миссури, а оттуда на восток, в долину Смит-Ривер. С собой она взяла только дамскую сумочку из искусственной кожи. Пикап вилял из стороны в сторону, его заносило на нерасчищенных дорогах, а она, казалось, даже не брала в голову, что этот человек везет ее неведомо куда, что они вот-вот увязнут в снегу и она замерзнет насмерть в своей легкой курточке, наброшенной поверх сверкающего платья ассистентки фокусника. Изо рта валил пар. Температура воздуха опустилась до минус двадцати. Вскоре дороги заметет пурга, и до весны они станут непроходимыми.
На стенах его хижины висели шкуры и старые охотничьи ружья. Он открыл подпол, чтобы показать ей свои припасы на зиму: копченую форель, ощипанных фазанов и подвешенные на крюках оковалки мороженой оленины.
На двоих таких, как я, хватит, сказал он.
Она разглядывала книжную полку над камином. Монографию о повадках тетерева, подшивку журналов о нагорных птицах, толстый фолиант с одним лишь словом на корешке: «Медведь».
Ты не очень устала? Хочешь, кое-что покажу?
Он дал ей зимний комбинезон, пару кожаных снегоступов – и повел слушать гризли.
На снегоступах она держалась вполне уверенно, разве что слегка неуклюже. В нестерпимый мороз под ногами скрипел снег. Медведь каждую зиму обосновывался в дупле гигантского кедра, чью верхушку снесло ураганом. В звездном свете толстый трехпалый комель тянулся вверх из земли, как черная лапа какого-то жуткого посланца из мира иного.
Они опустились на колени. Над головой остриями ножей сверкали злые белые звезды.
Приложи ухо вот сюда, шепнул он.
Слова растворились в ледяном воздухе. Прильнув к исклеванному дятлом стволу, они слушали, глядя друг на друга. Через минуту она услышала… услышала нечто вроде протяжного, усталого вздоха. Это ее поразило. Прошла еще минута – и вздох повторился.
Хочешь – посмотрим, зашептал охотник, только осторожно. Он хоть и в спячке, но может проснуться даже от хруста сухой ветки.
Он принялся раскапывать снег. Девушка застыла с открытым ртом и во все глаза наблюдала за происходящим. Наклонившись, охотник откидывал снег себе за спину. Вырыв яму примерно метровой глубины, он докопался до толстой корки льда, закрывающей вход в дупло. Аккуратно отколол куски льда, отложил их в сторону. Отверстие было темным, как лаз в черный грот подземного мира. На нее дохнуло запахом медведя… запахом мокрой псины, запахом лесных грибов. Охотник разворошил охапку листьев. Под ней обнаружился черный мех.
На спине лежит, прошептал охотник, это его брюхо. А вот тут передние лапы. Он указал куда-то вверх.
Придерживаясь за его плечо, она опустилась на колени прямо в снег. У нее приоткрылся рот, широко распахнутые глаза не смели моргнуть. В небе таяла падающая звезда.
Хочу его потрогать. Среди молчания голых кедров голос ее прозвучал резкой, чужеродной нотой.
Тише ты, шикнул он, не кричи. И помотал головой: нельзя.
На одну секунду!
Нет! – прошипел он. Спятила, что ли?
Он стряхнул со своего плеча ее руку. Зубами она стянула варежку с другой руки и потянулась к зверю. Охотник хотел этому помешать, но потерял равновесие и упал, схватив лишь ее варежку. А теперь в ужасе смотрел, как она кладет ладони с широко расставленными пальцами на покрытую густой шерстью грудину медведя. А после, наклонившись, она вдруг прильнула губами к шкуре зверя. Шерсть щекотала ей лицо, она чувствовала, как подрагивают медвежьи ребра, как в легкие входит воздух, как бежит по венам кровь.
Хочешь знать, что ему снится? – спросила она. Ее голос эхом отозвался где-то в искореженных сучьях дерева. Охотник достал нож.
Ему снится лето. Ежевика, форель. Снится, как он чешет бока о речную гальку.
Когда они вернулись в хижину и охотник затопил камин, она сказала: вот бы залезть к нему в берлогу. Чтобы он обхватил меня лапами. А я бы притянула его к себе за уши и целовала в закрытые глаза.
Охотник смотрел, как огонь пожирает дрова. Три года он ждал этого момента. Три года мечтал о ней, глядя на огонь. Но почему-то реальность разошлась с ожиданием. Он ждал охоты, наподобие той, когда ты часами утопаешь в грязи с карабином в руках и высматриваешь голову сохатого, которая расчерчивает рогами небо. А после выстрела все стадо с шумным вздохом уносится вниз по склону. К неопределенности он не привык; другое дело, когда выстрелил, подобрал дичь – и будь доволен. Но в этот раз все обернулось иначе. Он не мог принимать никаких решений: той пули, которую можно выпустить, а можно оставить в стволе, у него не было. Пуля затерялась где-то в прошлом, когда он был на три года моложе и стоял у окна христианской церкви, прижатый к стеклу ветром или какой-то еще более могущественной силой.
Оставайся со мной, шепнул он ей и огню. На зимовку.
Брюс Мейплз все гонял соломинкой лед.
Я, кстати, декан спортивного факультета.
Да, вы упоминали.
Серьезно? Из головы вылетело. В свое время легкоатлетов тренировал. Барьеристов.
Барьеристов, задумчиво повторил охотник.
Так точно!
Охотник внимательно смотрел на собеседника. Что он здесь забыл, этот Брюс Мейплз? Какие причуды или страхи двигали им и всеми этими людьми в строгих костюмах и черных платьях? Почетный президент О’Брайен скелетом замер в углу; подходившие каждые несколько минут гости пожимали ему обе руки.
Вам, думаю, известно, обратился охотник к Мейплзу, что волки – заправские барьеристы. Иногда их преследователь доходит до того места, где следы исчезают. Просто испаряются. Как будто вся стая взобралась на дерево – и с глаз долой. А след обнаруживается метрах в десяти-двенадцати от места исчезновения. Раньше считалось, что это нечистая сила: летучие волки. На самом-то деле они не летают, а всего лишь прыгают. Совершают один грамотный, согласованный прыжок.
Брюс обводил глазами зал. Надо же, сказал он, впервые слышу.
И она осталась. Когда они впервые занялись любовью, она так кричала, что на крыше завыли койоты. Он скатился с нее весь в поту. Койоты до утра кашляли и хихикали, как заигравшиеся в саду дети, а его всю ночь мучили кошмары.
Тебе снилось три сна, и во всех ты был волком, сказала она. Ты осатанел от голода и бежал в лунном свете.
С чего она взяла? Он сам ничего такого не помнил. Вероятно, разговаривал во сне.
Температура в декабре не поднималась выше минус пятнадцати. Река замерзла, такого прежде не наблюдал даже он. В Рождественский сочельник он доехал до самой Хелены, чтобы купить Мэри фигурные коньки. А рождественским утром, укутавшись в меха, они вдвоем пошли на реку кататься. Она уцепилась за него сзади, и они заскользили сквозь голубой рассвет. Белая полоса реки растворялась где-то впереди. На ветке ухал филин и круглыми глазами смотрел в их сторону.
С Рождеством тебя, филин! – крикнула она.
Филин в ответ расправил крылья и, спорхнув с ветки, тут же исчез в чаще леса.
На расчищенной ветром излучине им попалась мертвая цапля, вмерзшая по голень в лед. Птица явно сдалась не сразу: сначала долбила клювом ледяную корку, а потом свои собственные тонкие чешуйчатые ноги. Умерла она стоя, сложив крылья и раскрыв клюв в последнем отчаянном крике. Ноги двумя тростинками прорастали сквозь льдину. Мэри упала на колени и заглянула в холодные мутные глаза.
Птицу не вернуть, мягко сказал он. Пошли дальше. Не то сама тут окоченеешь.
Нет, заупрямилась она. Сняв варежку, закрыла птице клюв. И вдруг закатила глаза.
Ничего себе, выговорила она, я ее чувствую.
Прошло несколько минут. Охотник стоял без движения и не решался торопить жену, хотя по ногам уже поднимался холод. На ветру ее голая рука посинела.
Наконец она поднялась. По ее просьбе он извлек птицу из ледового капкана, орудуя коньком, и похоронил в сугробе.
Той ночью она лежала пластом без сна. Он точно не знал, что ее тревожит, но подозревал, что и ему не дает покоя то же самое. Мертвой птице ничем не поможешь, выговорил он. Хорошо, что мы похоронили эту цаплю, но не сегодня завтра ее учует и откопает какое-нибудь зверье.
Он поймал тот же взгляд широко распахнутых глаз, как тогда, когда она прикасалась к медведю.
Когда я дотронулась до цапли, начала она, мне стало ясно, куда она летела.
Что?
Я увидела, куда она попала после смерти. На берег озера, с множеством других цапель. Сотни, и все смотрели в одну сторону. Был рассвет, и они смотрели, как на другом берегу над деревьями встает солнце. Я видела это совершенно отчетливо, как будто и сама была среди них.
Перевернувшись на спину, он изучал игру теней на потолке.
На тебя зима плохо действует, сказал он.
Утром он принял решение ежедневно выводить ее на прогулку. Это было его давнее правило: выходи на улицу каждый день, а иначе зима лишит тебя рассудка. Каждую зиму газеты трубили о женах фермеров, которые сходили с ума в четырех заснеженных стенах, а потом избавлялись от мужей с помощью шила или мясницкого ножа.
На следующий вечер он повез ее в Свитграсс, близ канадской границы, чтобы показать северное сияние. Вдалеке занимались колоссальные фиолетовые, янтарные и бледно-зеленые полосы. Над горными кряжами пульсировали очертания, напоминающие соколиную голову, косынку и крыло. Выходить из кабины пикапа они не стали, а только подставляли колени потоку тепла от автомобильной печки. За разноцветным свечением пылал Млечный Путь.
Гляди, до чего похоже на ястреба! – воскликнула она.
Северное сияние, объяснял он, возникает под воздействием магнитного поля Земли. Солнечный ветер, пролетая мимо нашей планеты, придает ускорение заряженным частицам. Желто-зеленым светится кислород. Красно-фиолетовым – азот.
Да нет же. Она покачала головой. Красный – это ястреб. Видишь клюв? Крылья?
Хижину осаждала зима. Каждый день они выходили на прогулку. Он показывал ей, как зимуют сотни божьих коровок, сбившихся в оранжевый ком внутри прибрежной ложбины; как лягушки в спячке промерзают в иле, чтобы с весной оттаять. Когда он потревожил пчелиное гнездо, пчелы, недовольные внезапным вторжением, лениво зажужжали в поисках тепла. Он дал ей в ладони этот шар, она закатила глаза и потеряла сознание. Лежа на снегу, она видела все их сны разом, яркие, как на подбор, зимние грезы рабочих пчел: солнечные тропки, идущие среди шипов к соцветиям дикой розы, и полнящиеся медом соты.
Каждый день она открывала в себе новые способности. Незнакомая, обостренная чувствительность бурлила у нее в крови, как соки давно посаженного, но только сейчас проснувшегося сеянца. Чем больше животное, тем сильнее становилось ее потрясение. А уж падаль и вовсе была настоящей кладезью всяческих видений, мало-помалу терявших силу, наподобие поочередно перерезаемых пут. Она стягивала варежки и дотрагивалась до мертвых летучих мышей, саламандр, до выпавшего из гнезда еще теплого ярко-красного птенца кардинала. Под валуном зимовало с десяток садовых ужей: свернулись клубком, веки сомкнуты, языки не высовываются. Стоило ей прикоснуться к замерзшему насекомому, к рептилии в состоянии зимней спячки, да к чему угодно, что еще недавно летало или ползало, как у нее закатывались глаза, а по телу мурашками пробегали видения этих созданий и их рая.
Так прошла их первая зима. Он смотрел в окно и видел на замерзшей реке следы волков, видел сов, которые с дерева высматривали добычу, и хотел отбросить накрывшее землю одеяло снега полутораметровой толщины. А она видела всякую спящую под корягами живую тварь, чьи сны трепетали в небе, как северное сияние.
У него в сердце занозой сидела любовь; в пору весенней распутицы они поженились.
Брюс Мейплз ахнул, когда наконец прибыла жена охотника. Скромно потупив глаза и цокая каблучками по граниту, она уверенно, как цирковая кобылка, прогарцевала в парадную гостиную. Охотник не видел жену лет двадцать; она сделалась более утонченной, менее нервной и, как почему-то показалось охотнику, от этого сильно проиграла. Вокруг глаз появились морщины, а при ходьбе она огибала предметы обстановки, словно боялась, как бы ее не схватил за лацканы стол или шкаф. Никаких украшений, даже обручального кольца на ней не было – только этот строгий черный костюм. Двубортный.
Она взяла со стола именной бейдж. Все присутствующие оборачивались на нее посмотреть, но тут же отводили глаза. Охотник понял, что гвоздем программы на этом сборище будет вовсе не почетный президент О’Брайен, а она. В каком-то смысле ей тут поклонялись. Для университетской верхушки такие мероприятия были не внове: сдержанный бармен, девушки в смокингах, большие коктейли со льдом. А пирога ей дать слабо? – подумал охотник. Пирога с ревенем. Или показать спящего гризли.
Гостей пригласили за узкий и очень длинный стол: с одной стороны штук пятнадцать стульев с высокими спинками, столько же с другой и по одному в торцах. Охотника посадили за несколько мест от жены. В конце концов она удостоила его взглядом, в котором сквозило узнавание и даже тепло, но тут же отвела глаза: как видно, сочла его стариком. И больше в его сторону не смотрела.
Повара в крахмальных белых колпаках вносили луковый суп, креветки с чесночным соусом, паровую лососину. Соседи по столу вполголоса сплетничали о незнакомых охотнику людях. Он смотрел в окно, на снегопад.
Река вскрылась; в сторону Миссури огромными блюдцами поплыли льдины. В распахнутые окна хижины врывались журчащие звуки высвобождения, таяния и бегущей воды. Охотник почувствовал знакомое волнение, нетерпение души, которое заставляло его вскакивать в розовых лучах рассвета, хватать удочку и спешить к реке. В бурой воде зашевелилась форель, сама не своя до первых весенних насекомых. Скоро телефон в хижине раскалился от звонков – с началом сезона всем требовался проводник.
Случалось, клиент изъявлял желание добыть пуму или поохотиться с собаками на пернатую дичь, но в конце весны и в течение лета всегда был велик спрос на форель. С восходом солнца, прихватив термос кофе, охотник уже мчался забирать очередного клиента: адвоката, вдовца, политика – какого-нибудь любителя местной красной рыбы. Едва развязавшись с одним клиентом, тут же спешил на разведку по заказу следующего. Иногда выбор места ловли затягивался до сумерек, а то и до глубокой ночи: опустившись на колени в ивах, он ждал, когда поднимется форель. От него несло рыбьими потрохами; он будил жену, чтобы по горячим следам рассказать, как лосось прыгал с пятиметрового водопада, а радужная форель упрямо забивалась под корягу.
Наступил июнь; его жена маялась от одиночества и скуки. Она уходила в лес, правда недалеко. Дремучая, трепетная летняя чаща ничем не напоминала о кладбищенской зимней неподвижности. Дальше, чем за шесть-семь метров, уже ничего не было видно. Сон всякой живности стал коротким; на каждом шагу что-то выбиралось из коконов, расправляло крылья, жужжало, спаривалось, приносило потомство, нагуливало вес. В реке плескались медвежата. Горластые птенцы требовали червячков. А она тосковала по ледяной стуже, долгому зимовью зверей, пустому небу и костяному стуку лосиных рогов о деревья. В августе она пошла посмотреть, как муж с очередным клиентом забрасывают блесну; леска описывала над рекой круги, будто ворожила. Охотник научил жену потрошить рыбу прямо в воду, чтобы не было запаха. Она вспарывала рыбье брюхо, а потом разглядывала кишки, которые разматывались в речном потоке, и свои запястья, на которых медленно угасали предсмертные, исступленные видения форели.
В сентябре к ним потянулись любители крупной дичи. Каждый заказывал свое: кто лося, кто антилопу, кто оленя, кто лань. Одни хотели увидеть гризли, другие – выследить росомаху, а кое-кто даже рвался пострелять канадских журавлей. Иные требовали для украшения своего жилища голову матерого вапити с раскидистыми рогами. С промежутками в несколько дней охотник возвращался в хижину, распространяя вокруг себя запах крови, и заводил рассказы о тупости клиентов, об одном толстяке из Техаса, не сумевшем из-за одышки взобраться на пригорок, чтобы оттуда сделать выстрел. О маньяке из Нью-Йорка, который утверждал, что приехал только пофотографировать медведей, а сам выхватил из-за голенища пистолет и открыл стрельбу по медведице и двум медвежатам. Каждый вечер жена замывала на охотничьем комбинезоне кровь, наблюдая, как в речной воде пятна из ржавых становятся красными, а под конец розовыми.
Теперь он пропадал на охоте семь дней в неделю, круглыми сутками; времени хватало лишь на то, чтобы нарубить фарш для колбасы или нарезать мясо для жаркого, почистить ружье, освободить мешок для дичи, ответить на телефонные звонки. Жена плохо понимала суть его занятий – догадывалась, правда, что он любит бродить по долине, глазеть на воронов, зимородков и цапель, на койотов и рысей – и охотиться едва ли не на всю остальную живность. В том мире, сказал он ей однажды, туманно махнув рукой в сторону Грейт-Фоллз, порядка нет – в городах, лежащих к югу. А в наших краях есть. Тут я вижу такое, что тамошним людишкам вовек не встретится, а потому они ко многим вещам слепы. Ей не требовалось особого воображения, чтобы представить его через пятьдесят лет: он будет все так же зашнуровывать ботинки, уходить с ружьем, знать, что где-то простирается целый мир, и в конце концов умрет вполне довольным, так и не повидав ничего, кроме этой долины.
Она приучила себя засыпать днем часа на три, а то и дольше. Сон, как она поняла, – это просто навык, сродни любому другому: точно так же учишься лежать в ящике, который распиливают пополам, или читать видения мертвого дрозда. Ей не могли помешать ни жара, ни шум. Пусть в защитную сетку билось комарье, пусть в дымоход залетали шершни, пусть в южные окна нещадно палило солнце – она проваливалась в сон. И когда охотник, усталый, с пятнами крови на руках, осенними вечерами вваливался в дом, жена спала без просыпу. Ветром уже срывало с тополей листву – рановато, думал он. А сам ложился рядом и брал в ладони ее спящую руку. Оба они жили во власти неодолимых сил: ноябрьского ветра, вращения Земли.
Злее той зимы он не знал: после Дня благодарения долину завалило снегом, пикап оказался под двухметровыми сугробами. Телефонная линия отключилась в декабре и бездействовала до апреля. С приходом января задул чинук, а следом грянули лютые морозы. Снег сковало ледяной коростой толщиной в ладонь. На фермах южнее охотничьего домика погибала скотина – просто истекала кровью, раздирая кожу ледяными зазубринами. Олени, проваливаясь копытцами под наст, задыхались в снегу. На склонах пестрели кровавые прожилки.
По утрам он стал находить следы койотов у двери в погреб: от запаса мороженой провизии зверей отделяли только хлипкие доски. Чтобы укрепить дверь, пришлось набить поверх деревянных филенок печные противни. Дважды он просыпался оттого, что койоты скребли когтями по металлу, и выбегал наружу, отпугивая их криком.
Куда ни глянь, отовсюду подступала смерть, и отнюдь не благостная: рухнувший на снег лось, изможденная лань, поскользнувшаяся, как пьяный скелет, чтобы уже не подняться. По радио сообщали о повсеместном падеже скота на окрестных ранчо. Каждую ночь ему снились волки, целая стая: он бежал вместе с ними, перелетал через ограждения и впивался зубами в еще не остывшую на снегу плоть домашней скотины.
А снегопад все не прекращался. В феврале он три раза вскакивал по ночам, заслышав койотов прямо под домом, и на третий раз не смог распугать их одним лишь криком: пришлось схватить нож и арбалет и выбежать босиком на снег, морозя ступни. Теперь звери сделали подкоп под дверью, а потом прогрызли и прокопали лаз в мерзлой земле, под фундаментом. Дверь перекосило; ему не оставалось ничего, кроме как снять засовы и оставить створку болтаться на ветру.
Один койот, чем-то подавившись, закашлялся. Другие суетились и пыхтели. Было их штук десять. А у него против них нашлись только стрелы на оленя вапити: алюминиевое древко и широкий зазубренный наконечник. Затаившись на корточках у темного лаза (другого пути к отступлению у зверья не было), он сжимал в руках арбалет в полной растяжке, со вложенной в него стрелой. Над головой у него слышалась тихая поступь жены. Один койот все кашлял. Охотник стал методично выпускать стрелы в темноту. Первая стрела вонзилась в заднюю стенку погреба, зато другие впивались в живую плоть. Он расстрелял весь колчан: дюжину стрел. Пронзенные койоты истошно визжали. Трое-четверо бросились на него; он оборонялся ножом. Хищные зубы до кости прокусывали ему руку, горячее дыхание обжигало щеки. Нож кромсал ребра, хвосты, головы. Его мышцы кричали от боли. Койоты разъярились. Из запястья, из бедра у него хлестала кровь.
Снизу, из подвала, до нее доносились душераздирающие вопли раненых койотов, хрипы и проклятья не сдающегося мужа. Можно было подумать, в погребе открылся люк из преисподней, откуда хлынуло самое свирепое зло. Опустившись на колени перед камином, она чувствовала, как сквозь половицы возносятся в небо души койотов.
Весь в крови, с глубокой раной на бедре, он, даже не перекусив, целый день откапывал из-под снега свой пикап. Без съестных припасов их ждала верная смерть; вся надежда была на этот грузовичок. Под колеса пришлось подложить куски шифера и древесной коры, а из-под днища вышвырнуть гору снега. В конце концов, уже в потемках, он кое-как завел двигатель и вытолкал пикап на ледяную корку. На один прекрасный краткий миг пикап заскользил по насту, отражая окнами сияние звезд; колеса крутились, движок урчал, а в свете фар будто разворачивалась настоящая дорога. Потом наст провалился. Медленно, мучительно охотник стал откапывать автомобиль заново.
Напрасный труд. Машина в любом случае уходила под снег – не сейчас, так через пару миль. Наст не мог выдержать такой тяжести. Двадцать часов он без продыху вытаскивал машину из двухметровых заносов. Три раза она уходила в снег по самые окна. Пришлось ее бросить – в десяти милях от дома и в тридцати от города.
Из срубленных веток он развел слабый, дымный костерок и попытался устроиться на ночлег, но заснуть не смог. От огня снег начал таять, вода тонкими ручейками текла к охотнику, но замерзала на полпути. Мерцающие над головой созвездия никогда еще не были так холодны и далеки. В полудреме он видел, как поодаль от костра, в темноте, рыскают отощавшие, голодные волки. Сквозь завесу дыма на снег приземлился ворон и запрыгал в его сторону. Впервые в жизни охотник понял, что сейчас умрет, если не согреется. Тогда он собрался с силами, развернулся и на четвереньках пополз к дому. Вокруг себя он физически ощущал волков: от них пахло кровью, а когтистые лапы скребли наст.
В полубессознательном состоянии он провел в пути ровно сутки, передвигаясь то на ногах, то ползком. Временами он грезился себе волком, временами – трупом. Когда же наконец он добрался до охотничьего домика, на крыльце не оказалось ничьих следов, никаких признаков того, что жена выходила на улицу. Дверь погреба по-прежнему болталась нараспашку, а кругом валялись щепки филенок и откосов, как будто из подвала вырвался сам дьявол, чтобы тут же умчаться во мрак.
Она стояла на коленях в каком-то ступоре, с заледенелыми волосами. Из последних сил он развел огонь и залил ей прямо в горло кружку теплой воды. А уже проваливаясь в сон, увидел себя со стороны – в рыданиях обнимающего полумертвую от переохлаждения жену.
У них оставалась только мука и банка мороженой клюквы; в кухонных ящиках завалялось несколько крекеров. Он выходил на улицу только для того, чтобы наколоть дров. Когда ей удавалось заговорить, голос звучал глухо, будто издалека. Мне снились удивительные сны, шелестела она. Я видела, куда уходят после смерти койоты. Я теперь знаю, куда уходят пауки, гуси…
Снег валил не переставая. Охотник заподозрил, что во всем мире наступил ледниковый период. Ночь тянулась без конца и без края, дневной свет угасал в мгновение ока. Планета грозила превратиться в белую, непримечательную сферу, затерянную в пространстве. Стоило ему подняться на ноги, как зрение покидало его медленными, тошнотворными потеками цвета.
Вдоль всего крыльца с карнизов до самой земли свисали сосульки, которые ледяными столбами забаррикадировали дверь. Чтобы выбраться наружу, приходилось прорубать себе путь топором. Он выходил с фонарями порыбачить, лопатой расчищал тропинку к реке, сверлил ручным буром лед и в ознобе сидел над лункой, дергая за мормышку с шариком теста. Изредка он притаскивал в хижину на коротком снегоступе замерзшую по дороге форель. Случалось, они ели белку, зайца; однажды он приволок издохшего от голода оленя, раздробил и выварил кости, а потом размолол их в муку; но бывало и так, что, кроме пригоршни шиповника, ему не попадалось ничего. В худшие дни марта он выкапывал из-под снега камыш и отваривал выскобленные корневища.
Она почти ничего не ела и спала по восемнадцать-двадцать часов в сутки. А когда просыпалась, царапала что-то на листках из блокнота и при этом цеплялась за одеяла, будто они поддерживали в ней жизнь. В самом центре слабости, как ей стало ясно, таится сила; на дне самой глубокой ямы есть клочок земли. На пустой желудок, в молчании тела, без постоянной заботы о житейских делах она совершала важные открытия. Было ей всего девятнадцать лет; за время замужества она сбросила пять кило. От нее остались кожа да кости.
Охотник полистал ее заметки-грезы, но они читались как бессмысленные верлибры и никак не помогали ему понять ее.
Улитка, писала она, катается по травинке в дождливый день.
Сова: глазеет на зайца, будто свалилась с Луны.
Жеребец: скачет по долине вместе с братьями.