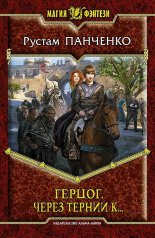Школа жизни. Честная книга: любовь – друзья – учителя – жесть (сборник) Быков Дмитрий

– ТАК! – снова заорала Наталья Дмитриевна. – Оба с родителями в школу! Дневники мне на стол!
Степа и Витек нога в ногу побрели к учительскому столу.
– Ты откуда вообще это пиво взял?! – закричала Наталья Дмитриевна Степе.
– Ну а что такого-то? – обиженно сказал Степа. – Мне папа всегда дает пиво. По субботам после бани.
– А сегодня что, суббота?! – обалдела от такой наглости Наталья Дмитриевна. – Да и вообще, что за бред? После какой бани?! Все, я иду звонить родителям, – и вышла из класса.
В общем, начало своего пребывания в классе Степа отметил оригинально. Но вот авторитет он почему-то этим завоевать не смог. Наверное, опередил свое время. Вот принеси он пиво классе в седьмом – был бы совсем другой разговор. А так он получил жесткий втык от директора, а друзей не обрел.
Маленького роста, нескладный, в вечно порванном пиджаке или вывалявшийся в грязи, Степа был типичным неудачником. Учился одинаково плохо по всем предметам, авторитетом в классе не пользовался, вечно вляпывался в какие-то истории. То кто-то рвал его дневник, то его окунали головой в унитаз, то еще что-то… Один раз попал в жуткую аварию на железнодорожном переезде, когда он чудом выжил и его собирали, можно сказать, по частям.
После очередной громкой истории со Степой в школу приходила его мама и пыталась выяснить отношения с классом. Степа, кстати, был мальчик из приличной семьи, родители у него были врачи, а папа так вообще чуть ли не профессор. Еще у него была старшая сестра со смешным именем Тося, она училась на одни пятерки, а потом поступила в медицинский институт. Словом, в семье не без урода – это про Степу и его семью.
Денис Стольников пришел к нам на год позже Степы и поначалу ничем особенно не выделялся. Он был коренастый, неповоротливый, учился средне и почти ни с кем не общался. По крайней мере, я не могу вспомнить связанных с ним каких-то историй.
Если Степа постоянно пытался вписаться в коллектив – бегал за лидерами, исполнял их мелкие поручения, начиная с седьмого класса угощал всех сигаретами и приглашал на посиделки к себе домой, – то Денис ничем подобным не занимался. Ни с кем не общался, не курил и вообще держал себя крайне обособленно.
Все изменилось в девятом классе. Первого сентября Денис пришел в школу в черном кожаном пиджаке, со стильной прической и усиками. И это было только начало! Неожиданно он начал острить на уроках и переменах. А по итогам первой же четверти оказалось, что Денис стал лучше учиться. Не курил принципиально, но стал ходить на Степины тусовки вместе со всеми. Как-то незаметно все стали называть его «Дэн».
Однажды он подошел ко мне со стопкой фотографий.
– Посмотри, – протянул он их мне.
Я взяла фотографии. Там были какие-то байкеры и чувак с гитарой, похожий на Мэрилина Мэнсона.
– Это мой брат. Саня. У него своя группа. Вот они ездят на всякие байкерские тусовки. Выступают. Это у вас в Ольгине, между прочим, – прокомментировал он какую-то фотку.
– А разве у тебя не младший брат? – удивилась я.
– Это двоюродный брат, – нехотя разъяснил Дэн. – Старший. Ему двадцать лет.
– Прикольно, – протянула я, отдавая ему фотографии. Мне до этого не приходилось сталкиваться со знакомыми музыкантами.
– Хочешь, я тебе их музыку принесу?
– Ну, принеси, – согласилась я.
На следующий день Дэн принес музыку. И еще взял за правило вести со мной на переменах умные разговоры. Хотя правильнее было бы сказать не разговоры, а монологи. Он вещал что-нибудь занимательное, а я внимала. И не решалась спорить. А говорил он всегда что-нибудь такое, с чем я не была согласна.
Например, он заявлял что-нибудь парадоксальное про религию. Или про любовь. Или про нравственность. Что все люди безнравственны, скажем. Что если ты и не совершаешь зла – то ты ему потакаешь. А это безнравственно. Если я пыталась что-нибудь возразить, он разражался какими-то путаными доказательствами, и я понимала, что не права.
– Дэн! Да тебе на философский факультет поступать надо! – говорила я, когда мой мозг окончательно закипал.
– Я подумываю об этом, – снисходительно улыбался Стольников.
– Блин, да он начитался каких-то псевдофилософских книжек! – возмущался Марат. – И прочитанное выдает за свои собственные умозаключения.
– Не знаю, по-моему, это все интересно, – пожимала я плечами.
Дэн вносил в мою жизнь некоторое разнообразие, потому что разговоры Варьки и Наташки о каких-то тусовках, где можно покурить траву, меня уже порядком утомили.
Я даже стала с некоторым удовольствием ходить в школу: было интересно, что же сегодня выдаст Стольников. А после его очередного монолога я, сидя вечером за уроками, постоянно отвлекалась и выстраивала в голове ответы на стольниковские утверждения, но никогда не решалась озвучить их на следующий день.
Как-то нам задали прочитать «Портрет Дориана Грея». Мы дискутировали о нем два урока подряд, а потом Стольников выносил мне мозг этим Дорианом Греем еще неделю. Я и так плохо разобралась в этом романе, а Дэн запутал меня еще больше. Он безумно всем надоел с этой книжкой. Даже наша учительница литературы, которая обычно очень приветствовала споры и обсуждения, сказала ему:
– Денис, оригинальность – это хорошо, но только если за ней что-нибудь стоит.
Мне казалось, что, безусловно, стоит.
Однажды Стольников притащил мне книжку «Философские сказки», откуда он, видимо, почерпнул большую часть своих оригинальных идей. Мы ее обсуждали две недели. А потом он принес «Чапаева и пустоту» Пелевина. Эту книгу я прочитала с некоторым недоумением. Она была так не похожа на книги, которые я читала раньше. На моего любимого Диккенса, например. Вроде читаешь – и все так реалистично, понятно. А потом подумаешь – нет, ерунда какая-то. Рассуждения такие странные. Когда я изложила свои впечатления Стольникову, он ничего мне объяснять не стал, а авторитетно заявил:
– Вот это и есть настоящая литература, Саша! А не всякие там «Горе от ума» и «Евгений Онегин». Тебе еще Пелевина принести?
От Пелевина я отказалась. Но теперь, приходя в районную библиотеку, пробегала мимо полок с Диккенсом и Шарлоттой Бронте прямиком к романам ХХ века. И открывала для себя массу нового: «Коллекционера» Фаулза, например. Или «Постороннего» Альбера Камю. И погружалась в их мир.
Но что меня отталкивало в Дэне – так это его взаимоотношения со Степой. Мы со Степой никогда не дружили и вообще не особенно общались, но то, что вытворял с ним Дэн, – это ни в какие ворота не лезло. Они ходили забавной такой парочкой: высокий плотный Дэн – само воплощение стиля – и маленький худенький Степа в мятом костюме и с кейсом, у которого были оббиты все края, оттого что он постоянно его ронял.
– Послушай, Степа! – душевно говорил на большой перемене Стольников, обращаясь не столько к нему, сколько ко всему классу, толпившемуся у кабинета математики. – Не хочешь ли ты заработать десять рублей?
– Конечно, хочу! – с готовностью отвечал Степа.
– Вот если съешь пакетик с растворимым кофе – дам десять рублей, – доставал Стольников из кармана пакетик с кофе.
Степа тут же открывал пакетик и начинал с чавканьем жевать содержимое.
– Фуу!! – возмущался кто-нибудь. – Степа, ты дебил!
Степа, довольный, заканчивал есть, а Дэн отсчитывал ему десять рублей мелочью.
В следующий раз Стольников повышал денежную ставку и предлагал Степе выпить пузырек с замазкой. Степа соглашался. Иногда он так вживался в образ, что начинал пить чернила из стержней, хотя Дэн ему этого не предлагал.
– Нет, ну он просто кретин! – говорил Стольников и придумывал что-нибудь новенькое. – Дам пятьдесят рублей, если на алгебре съешь десятку.
– Почему на алгебре? – уточнял Степа.
– Ну прямо на уроке. Чтобы Морозова видела.
Степа сидел на первой парте.
И вот на уроке Морозова писала что-то на доске, а когда повернулась к классу, увидела, что Степа внимательно смотрит на нее и откусывает при этом от десятирублевой купюры. Морозова потеряла дар речи, а класс сдавленно захихикал.
– Федоров! Ты идиот? Ну-ка выплюни сейчас же! – воскликнула Морозова.
Степа выплюнул ошметки купюры прямо на парту.
– И убери за собой! – продолжала ругаться она. – Ты с головой дружишь вообще?
После алгебры Степа пошел к Дэну за вознаграждением, но тот отказался платить.
– Ты же не съел десятку! Ты выплюнул! – возмущенно говорил Дэн, а Степа сопел, не зная, что сказать.
Я долго наблюдала за всем этим безобразием. И совершенно не понимала, почему Степа с такой готовностью соглашается на эти сомнительные стольниковские провокации. Неужели так нуждается в карманных деньгах? Да вроде бы нет – нельзя сказать, чтобы у Степы совсем не было денег. Или он считает, что, делая все это, повышает свой авторитет в глазах одноклассников? Но ведь, по-моему, очевидно, что все уже давно не скрывают своего презрения к Степе… Поведение Дэна тоже казалось мне непонятным. Неужели вся эта канитель доставляет ему удовольствие? Но какое?
– Слушай, чего ты докопался до Степы? – однажды прямо спросила я у Стольникова.
– Я не докопался до него, – объяснял мне Дэн. – Я просто предлагаю ему, а он не отказывается. Вот ты бы согласилась пить замазку? – я сказала, что нет. – Ну вот. Потому что ты нормальный человек. Я тебе и не предлагаю. А Федоров – придурок. Сам виноват. Он же может сказать: «Нет, не буду. Пошел ты в ж…, Стольников!» Но он почему-то всегда соглашается! И это его проблемы.
В логике Стольникову не откажешь. Но почему-то мне все равно смутно казалось, что он не прав. Если ты видишь, что человек слаб, то зачем его лишний раз подначивать, провоцировать? Но все мои вопросы оставались без ответа.
Один раз в школу пришли какие-то люди и полурока рассказывали нам всякую белиберду про средства гигиены. В конце своей импровизированной лекции раздали всем по дезодоранту.
После уроков, в гардеробе, когда мы уже собирались домой, Стольников начал пристально рассматривать дезодорант. Он оказался не роликовым, а палочковым. Дэн повыдвигал его пару-тройку раз, а потом заговорщицки посмотрел на нас.
– Стеееп! – позвал он Федорова.
– Чего? – с готовностью выглянул тот из-за вешалки.
– Дам сотню, если ты съешь дезодорант! – провозгласил Дэн.
Мы ахнули.
– Степа, не будь придурком! – сказала я. – Не вздумай жрать эту гадость.
Но у Степы уже загорелись глаза. Мы все с опаской смотрели на него. Степа открыл дезодорант, набрал побольше воздуха в легкие и откусил половину. И начал пережевывать. По лицу Дэна расползлась улыбка. Мы все надели куртки и вышли из школы.
Я ехала домой с каким-то тяжелым чувством. Как будто бы это я заставила Степу давиться дезодорантом. Как там говорил Стольников: если ты и не совершаешь зла, то ты ему потакаешь?..
Не знаю, что там в итоге было со Степой. Скорее всего, он просто выплюнул этот злосчастный дезодорант. Но кто-то сразу донес его маме, что Степа его съел. Мама примчалась с работы, а Степу дома не обнаружила. Он ушел куда-то гулять. Весь вечер она обзванивала больницы и морги, пока Степа не явился домой как ни в чем ни бывало.
На следующий день она столкнулась на улице с Дэном и Маратом, которые после школы вместе шли в магазин.
– Денис! Ты-то мне и нужен! – набросилась она на Стольникова. – У тебя вообще есть голова на плечах? Ты почему Степу заставляешь есть всякую гадость? Он под твоим дурным влиянием уже полгода! Совсем распоясался! Ты хоть чувствуешь себя виноватым?!
– Я?! – изумленно посмотрел на нее Дэн. – А разве я виноват, что вы его так плохо воспитали?
В феврале мама наконец решила перевести Степу в другую школу. В дневнике у него были редкие тройки на фоне вереницы двоек. Да и его взаимоотношения со Стольниковым Степиной маме, мягко говоря, не нравились. Уходил Степа прямо посреди недели и даже почему-то посреди дня. Он заглянул к нам на уроке геометрии – попрощаться.
– Ну что, ребята! – сказал он, поставив на пол свой кейс. – Ухожу я от вас…
– Давай-давай, вали уже, – рассмеялся Стольников.
Степа продолжал, не обращая внимания:
– Жалко вас оставлять. Но ничего, – Степа шмыгнул носом. – Даст бог – свидимся, – и направился к выходу.
Мы ответили ему дружным смехом.
– Ну чего же вы так? – укоризненно сказала Морозова, положив на стол кусок мела, когда за Степой закрылась дверь. – Человек с вами попрощаться пришел, а вы…
После неловкой паузы класс хором сказал:
– До свидания, Степа!
– Теперь-то уже чего? – махнула рукой Морозова и начала писать на доске условие задачи. – Он уже, наверное, из школы вышел.
В классе воцарилась мертвая тишина.
За этот эпизод мне стыдно до сих пор. После девятого класса я поступила в гуманитарный класс, а Стольников – в параллельный, физико-математический. Больше мы с ним не общались, а в одиннадцатом классе даже перестали здороваться. У Стольникова появился новый прихвостень, Толик. Он даже внешне напоминал Степу, и они ходили по школьным коридорам исключительно в обществе друг друга.
После школы Степа, по слухам, пошел учиться в Политех. А недавно Вова и Марат рассказали мне, что он уже давно вступил в КПРФ. И даже делает там какую-то партийную карьеру. Я нашла его страницу «ВКонтакте», и там действительно фотографии с каких-то коммунистических митингов и собраний. Степа в окружении молодежи в красных футболках. Степа с Зюгановым. Степа с Лимоновым…
Стольников же пошел учиться куда-то на программирование. А через несколько лет, говорят, пытался поступить на философский факультет. Но вроде бы не поступил.
Владимир Гуга
Мишка-таксист
В шестом классе отчим подарил ему кожаный пиджак, превративший Мишу в мужика. Так появилось это прозвище – «Таксист». Хотя раньше таксисты работали не в пиджаках, а в приталенных кожаных куртках. Эти куртки называли кожанками.
Я не забыл Мишу, как и остальных одноклассников из нашей московской школы № 531. Память на лица и пейзажи у меня отличная, чего не скажешь о способностях к запоминанию цифр. Наверно, благодаря этому скромному дару я и стал корреспондентом, а не топ-менеджером.
Пару месяцев назад я обнаружил Таксиста в переполненной электричке «Москва – Калуга I». Увидев его знакомое лицо, я согнулся и поднял воротник. Встречи с одноклассниками бессмысленны. Они ничего не дают, кроме недоумения: «Что это за чужой человек маячит перед глазами, и почему я с ним разговариваю?» Неприятный осадок остается после этих дурацких бесед.
– Вован! – крикнул Миша, когда я попытался проскользнуть мимо. – Здорово!
– Миха! Ты, что ли? – поддержал я спектакль. – Сколько лет, сколько зим? Какая встреча! Е-мое!
Двадцать пять лет. И двадцать пять зим. Вот сколько. Четверть века мы не виделись. Всего-то. Как получили аттестаты, так и разбежались.
Я сел между старушкой с длинным голым саженцем и дедом с огромной сумкой на колесиках. В вагоне пахло старостью. Говорливая электричка была под завязку забита возбужденными пенсионерами, слегка опьяневшими от приближающейся счастливой сельскохозяйственной поры.
«Тут есть некая закономерность, – подумал я. – Чем человек старше, тем его сильнее притягивает земля – всякие семена, удобрения, газета “Шесть соток”. А потом, когда земное притяжение доходит до предела, старик сам превращается в удобрение. Так устроен мир».
Таксист тоже выглядел как классический дачник, ладно скроенный из бодрого настроения, резиновых сапог, болоньевой куртки с олимпийским мишкой, пузатого рюкзака «Эверест».
После охов-ахов и взаимных похлопываний по спинам, медленно и тяжело, словно старый бульдозер по котловану, пополз наш разговор.
– Блин! Как оно, вообще? Как ты? Где ты?
– Журналист. А ты?
– Экономист, вот…
– А где?
– Вот, в одной совместной российско-германской компании. А ты?
– Я, так сказать, свободный художник. Подрабатываю там-сям…
Пока мы несли эту пустословицу, я наблюдал за необычной особенностью, торчащей из Таксиста, как штырь арматуры из треснутой бетонной плиты. Несмотря на общую рыхлость сорокалетнего московского семьянина, он обладал внутренней собранностью. Она проявлялась в жестком взгляде и подтянутых губах. Если бы не общий вид вялого предпенсионера, можно было бы предположить, что Миша-Таксист – ветеран войск специального назначения. Но чудес не бывает: либо мужик – спецназовец, либо дачный увалень в застиранных рейтузах. В Мише как-то единилось и первое, и второе.
Пришлось напрячь мозги и силой мысли вытащить Мишу из прошлого. Мне припомнилось, что он был обычным, ничем не примечательным подростком, тихим, серым, но почему-то… независимым. Последнее качество выглядело очень странно. Независимых подростков не существует. Это даже ежам понятно. Каждая нормальная школа живет по всемирному «закону силы». Если ты недостаточно силен, хитер и подл, значит, тебе надо жить под опекой родителей или под покровительством какого-нибудь головореза. Если ты силен, хитер и подл, значит, тебе следует хранить свой титул главаря банды, оберегая его от посягательств заговорщиков. Других вариантов существования в нормальной школе нет. Того, кто пытается, как Володя Ульянов, идти «своим путем», быстро заклевывают, а вернее, заплевывают. В прямом смысле: смачно харкнуть в спину мальчику, не имеющему покровителя, считается самым милым делом. Во всяком случае, этот ритуал был очень популярен в нашей с Таксистом школе. Реальный пацан считал, что жаловаться родителям западло, и старался отстоять свое положение собственными силами или опираясь на своего синьора. У Миши не было ни особых сил, ни покровителей с кастетом в кармане. Однако он умудрялся, не жалуясь родителям, обходить все острые углы политических игр школы, сохраняя при этом нейтралитет. Его никто не трогал, и он ни к кому не лез.
Как-то раз в туалете нас, троих шестиклассников, прижали ребята из восьмого «А», без пяти минут пэтэушники. Поводом для расправы стала симпатия Наташи М. к Паше М., моему вроде как приятелю. Прижали троих – Пашу, меня и Таксиста. Но последнего, смерив хмурым взглядом, отпустили. Почему? Непонятно.
– А… – криво ухмыльнулся влюбленный в Наташу восьмиклассник с железным зубом. – Таксист… Давай, вали отсюда. Быстро!
И Миша-Таксист отвалил, а нас с Павликом, как говорится, отмудохали. Его – за красивые глаза, а меня – за компанию. Первый же удар восьмиклассника с железным зубом сбил меня с ног. Боли не почувствовал. Лишь заметил, как выскочил его костистый кулак с наколотым крестиком на безымянном пальце, и – тут же звон в ушах, круговерть кафельных стен в глазах и блаженное состояние обморочного забытья.
Школьный туалет, как известно, тоже школа. Школа в школе. В нем жадные до открытий дети узнают гораздо больше, чем в классах. Туалет – это некий закрытый клуб. Здесь познают прелесть табака и даже алкоголя, рассматривают мутные порнографические фотки, устраивают кровавые поединки, списывают домашнее задание, завтракают толстыми бутербродами, играют на деньги в «трясучку», прячутся от директора. Не знаю, что происходило (происходит?) в туалете девочек. Полагаю, что примерно то же самое.
Маменькины сынки, чтобы не появляться в этом вонючем чистилище, перед школой ничего не ели и не пили. Для так называемых «домашних детей» в школьном туалете царила крайне враждебная среда.
Здесь не было кабинок. Зато на мокром полу торчали два украшенных ржавчиной унитаза. Вместо третьего унитаза из основания стены высовывалась канализационная труба, заткнутая уже окаменевшей половой тряпкой. Имелись две раковины. Одна с краном холодной воды, а вторая с обломком швабры, торчащим щетиной вверх. Подоконник был украшен сюжетами необузданной эротической фантасмагории и названиями хеви-металлических групп. Помню, что над унитазами нависали венчающие вертикальные трубы бачки. На одном болталась веревка, а на другом – чудом сохранившаяся цепочка с отшлифованной деревянной ручкой. Похожие круглые ручки мы вытачивали на токарных станках в школьной мастерской. Их потом приделывали к отверткам и напильникам. Однажды цепочка с унитаза куда-то исчезла, и наш больной на голову завхоз (всегда ходил в вязаной шапочке – и зимой, и летом) привязал вместо нее веревку.
Все это происходило в конце второго тысячелетия, а нынче, в начале третьего, мы ехали с Мишей-Таксистом по своим делам. Он – на семейную барщину, а я брать – интервью у директора московского завода, выкинутого из столицы за сто первый километр. Миша нес какую-то околесицу про армию, семью, сайт «Одноклассники», а я все пытался припомнить, по какой причине ему удалось оставаться независимым и неприкасаемым в нашей школьно-туалетной вакханалии. Любопытство подталкивало меня спросить гонца из прошлого: «Слушай, Михаил, скажи мне честно, почему тебя в школе никто не лупил, но при этом ты оставался одиночкой? Ты же не мог жаловаться отчиму. Это исключено».
К моей журналистской радости, лезть в потемки чужой души не пришлось. Тайна открылась сама, будто кто-то повернул невидимый ключ в двери между настоящим и прошлым. Когда наш пенсионерский веселый поезд подъехал к станции Нара, в вагон вошла кодла пьяных мужиков категории «кабан». Они встали в проходе и начали громко, в полный голос материться. Одна непосредственная старушка сказала:
– Ребята, хватит ругаться! Вы же не одни!
Ребята ей ответили:
– Глохни!
Таксист просунул руку за пазуху, сжал в кулаке спрятанный под курткой предмет, остекленел глазами и буркнул:
– Проблемы?
Хамы сразу скисли, замолчали, а потом вообще ушли из вагона. Вот так Миша и разоблачил себя. Мне стало все ясно.
Четверть века назад я и «Таксист» стояли в школьном туалете и курили бычки. За окном проклевывался март. Очень хотелось чего-нибудь натворить – подраться, облапать одноклассницу, разбить окно, выскочить из собственной кожи.
– Куртка у тебя – класс! – похвалил я его обнову, нарушив молчание.
– Сергей Юрьевич, мой отчим, подарил, – ответил Миша, – спасибо ему. Правда, он сказал, что мужику мало выглядеть мужчиной. Кроме пиджака ему еще полагается достоинство. Свое собственное. Отчим сказал, что рад бы помочь найти мое достоинство, но не знает, где оно, так как я не его сын. Вот, пришлось искать самому… Был бы у меня отец – помог.
– Нашел достоинство-то?
– Нашел… – вздохнул Миша и хлопнул себя по сердцу, – оно здесь. Очень удобная штука. Отлично лежит под пиджаком.
Таксист запустил руку за лацкан кожаного пиджака.
– Когда мне становится хреново или страшно, я сразу хватаюсь за него. И на душе легчает, страх исчезает. Вообще перестаешь бояться. Крутая штука – достоинство.
– Шутишь? У тебя там фотография прабабушки? – ухмыльнулся я.
Рука Таксиста молниеносно выскочила, и что-то со свистом мелькнуло над моей головой. Мгновение, и лампочка, торчащая из стены, с хлопком разлетелась на мелкие осколки. Я инстинктивно втянул голову в плечи. Зажмурился. Снова открыл глаза. Побелевший от напряжения кулак Миши сжимал деревянную ручку цепи, оторванной несколько месяцев назад от бачка унитаза. Она послушно покачивалась, будто продолжение руки Таксиста. Мне стало страшно.
– Отлично лежит под пиджаком, – повторил Миша. – И незаметно. Ручка очень удобная. Убить не убьешь, но если хлестануть по роже – мало не покажется. С достоинством жить гораздо приятнее. Никогда с ним не расстанусь.
Надежда Осипова
Екулька
Первая треть школьного моего детства протопала интересно и насыщенно по огромному яблоневому саду, где на одной из аллей скромно притулилось старенькое учебное зданьице бывшей церковной сторожки. Школьная библиотека за стенкой, да нас два десятка учеников населяли школьный филиал. Там на отшибе от людской суеты на воле мы постигали азы грамоты. Где-то примерно в четвертом классе к нам прибилась новая ученица – Валька Казанцева по прозвищу «Екулька».
С нами попервоначалу училась ее младшая сестра Катя – неприглядная, малорослая, тихая и застенчивая, малозаметная девочка, которая все время будто чего-то стыдилась. Валька была ее полной противоположностью. Буйный характер новенькой проявился с первых секунд знакомства. Она прямо на торжественной линейке за ехидненькое хихиканье отвесила подзатыльник нашему классному хулигану-двоечнику Саньке Куропаткину. От могутного удара Санька не удержался на ногах, юзом проехал метра два-три до щелястых ступенек крыльца, а потом пораженно вытаращился на Вальку. Молоденькая учительница, как и все мы, в неменьшем изумлении воззрилась на новенькую, только младшая сестренка ее отнеслась к происшедшему как к рядовому событию.
Заслуживал внимания не только вздорный Валькин нрав, но и потрясная ее внешность. Маленькая, несоразмерная туловищу черноволосая головка ее всегда находилась в работе: Валька-Екулька крутила ею направо-налево, неустанно выискивая потенциальных насмешников. Короткая мальчишеская стрижка не прикрывала оттопыренных ушей. Орлиный, с горбинкой нос грозно возвышался среди круглых с четким румянцем щек. Тонкая ниточка губ едва прикрывала здоровые белые зубы, а верхняя губа, кое-как стянутая до ноздрей синеватым послеоперационным шрамом, окончательно уродовала ее лицо. Смышленые, пронзительные, черные глаза Екульки положения не спасали. Всяк, впервые ее увидевший, долго не мог оторвать от нее ошеломленного взгляда.
Прозвище «Екулька» прилипло к девчонке с раннего возраста. Когда-то несколько поколений назад жила в деревне дурочка Акулина Стульникова. Память людская ничего не сохранила о ней, кроме имени. Давно уж на деревенском кладбище истлели ее косточки, а некоторые сельчане по глупости и по въевшейся привычке иногда прозывали в гневе или в припадке язвительного высокомерия представительниц женского пола за оплошность или какой-то физический недостаток Акульками. Так вышло и с Валентиной. «Акулька» в процессе тысячекратного использования трансформировалась в «Екульку», да так и повисло обидное прозвание пожизненно.
Валька, несмотря на всевозможные сопровождающие ее денно и нощно катаклизмы, старалась не унывать. Она каждую весну умудрялась внедриться в число второгодников. Нас она года на два-три превосходила по возрасту и по немалой доле бесшабашной храбрости, а потому уже через неделю весь класс крепенько держала в своем маленьком железном кулачке. Даже опытные учителя не могли с ней справиться, когда она доставалась им в виде переходящего вымпела. Про нашу зеленую учительницу Галину Васильевну, едва окончившую педучилище, и говорить было нечего: плакала от Валькиных проказ каждый день.
Сказать честно, сбагрить хулиганистую Екульку из школы намучившиеся учителя пытались многократно. Но все их попытки были безуспешными: Валька гранит знаний грызть не жаждала, но ходить в школу почему-то сильно любила. Администрация школы не раз направляла Валентину Александровну Казанцеву на комиссию в район на предмет проверки ее предполагаемой дебильности. Но Валентина Александровна мгновенно щелкала задачки про березы с яблоками и в расставляемые комиссией ловушки ни разу не попалась. Наоборот, она умудрялась расположить к себе суровых теть и дядь настолько, что те единодушно делали вывод: это учителя не хотят заниматься с девочкой – кстати, весьма способной.
Так и страдали учителя неповинно из года в год от Валькиного баловства. А наш класс к концу сентября не изучил ни одной новой темы, уроки непременно заканчивались разборками Галины Васильевны со строптивой ученицей. Через месяц, по правде, и мы втянулись в веселый просмотр даровых потех, уже нетерпеливо ожидая Валькины клоунские показы.
Когда вмешались в учебный процесс некоторые бдительные родители, то директор, не сумевший и на этот раз отлучить Вальку от школы, заменил желторотую учительницу тертой, бывалой Федосьей Григорьевной, уже год-два бывшей в контрах с Валькой. Сама Екулька от данных перемен лишь слегка присмирела, как хищник от хлыста знакомого дрессировщика. Шумные забавы периодически продолжались, но Валентина иногда терпела поражения: Федосья Григорьевна умела побеждать – ее педагогический опыт чувствовался. Иногда за шиворот вместе с партой она вытаскивала надоевшую ученицу в коридор или прямо на улицу, где та с превеликой охотой кормила птичек украденным из школьной столовки хлебом или играла до конца уроков с бездомным псом Куцым, приблудившимся с щенячьего возраста к школе.
– Что, Куцый, обижают тебя человеки? – ласково вопрошала Валька псину.
В отличие от людей животные Вальку крепко любили. Куцый начинал радостно повизгивать и вилять обрубком хвоста, считай, за километр до подхода Екульки. Завидев ее, он мчался навстречу, мгновенно проглатывал принесенный Валькой гостинец, а потом неотступно следовал за ней повсюду. По утрам при Валькином появлении дикие голуби, как по чьей– то команде, вспархивали с чердачного выступа и кружили над непокрытой зимой и летом головой Екульки, провожая ее до самого крыльца.
Еще Валька боготворила лошадей. Такая, прямо сказать, не девчоночья страсть совхозных конюхов умиляла, они Вальку за это уважали, а потому изредка давали ей прокатиться на каком-нибудь старом коньке. А иногда Екульке сказочно везло: ее на лошади направляли с поручением на другой конец села на ферму или на зерносклад, – то-то было ей радости! Но животных Валя берегла и никогда не позволяла себе показывать форс перед сельчанами: ехала чинно-благородно, как взрослый степенный мужик, не понукая лошадь понапрасну.
Подвижные игры на свежем воздухе были любимыми развлечениями Вальки. На уроках физкультуры учителя за все годы учебы никогда не стесняли нас рамками дисциплины, и мы с желанием играли не только в волейбол и баскетбол, но и лаптой не брезговали. Валька же Казанцева, если намечался пробег на лыжах, приходила вместе со школьным инвентарем только утром следующего дня: с присущим ей размахом каталась с горки до одури. А Федосья Григорьевна, используя короткое затишье, старалась впихнуть в наши головы как можно больше нового материала, поэтому мы Валькины физкультурные отлучки не любили и всячески препятствовали ее исчезновению из класса. А по болезни она ни дня не пропустила: ни простуда, ни прочая лихая зараза к ней никогда не приставала.
Ранней весной, когда шел ледоход, Валька пропадала на неделю: любила кататься на льдинах. Что привлекало ее к этому смертельно опасному занятию, сказать трудно. Просто, думаю, она относилась к породе адреналинщиков. По моему разумению, обычная жизнь для подобного склада людей слишком уныла и безвкусна, как несоленая еда.
Вот Вальку и тянуло в ледоход проехаться на льдине. Уговоры родителей давным-давно не помогали, а запоры не удерживали дома: в ледоход она дни и ночи проводила у грозно ревущей, крушащей грязные льдины речки. Даже когда сваливалась в ледяную воду, то просушивала свой серый в едва заметную от истертости полоску пиджак с отцовского плеча и отогревалась у костра.
Нагоровку, где жила Валька, с селом соединял подвесной мост, построенный с незапамятных времен. Он был прикреплен стальными тросами к могучим просмоленным бревнам, вкопанным в берега. Длинный мост раскачивался от порывов ветра, отзывался скрипом на каждый шажок, трос вырывался из рук, а тоненькие досочки увиливали из-под ног. Ни один взрослый без опаски не проходил по нему. Кроме Вальки-Екульки. Та быстро пробегала по дощатому настилу, возвращалась на исходную позицию на берегу, потом дожидалась льдину побольше, запрыгивала на нее и каталась по бушующей реке, пока не свергалась со скользкого льда в гремящую мутную круговерть.
В ту нашу школьную весну после окончания ледохода умиротворенная Валька вновь возвратилась к обычной жизни. И сразу занялась следствием: куда-то пропал Куцый. К ночи нашла мертвого пса за огородами. Не обращая внимания на идущий от останков запах, закопала его, а на утро следующего дня устроила в школе разборку. Еще до занятий, задолго до прихода учительницы в класс, вездесущий Санька Куропаткин под пыткой выдал виновных. Ими оказались четверо семиклассников: они затравили, закидали Куцего камнями, а потом добили палками.
Валька-Екулька про месть на холодную голову ничего не слыхивала, поэтому откладывать столь важное дело в долгий ящик не стала: на большой перемене всех четверых выловила и отдубасила по мере своих сил и возможностей. Рассказывали, что била она мальчишек со слепой яростью и не меньшим усердием, чем они Куцего: один уполз под крыльцо, двое смогли убежать через окно, выпрыгнув со второго этажа, а четвертый со свернутой челюстью оказался в больнице. Валентину за инцидент с дракой с огромной радостью на педсовете единодушно исключили из школы в тот же день. Никому из учителей и в голову не пришло доискиваться до причины столь жестокого поступка. Екулькины кровоподтеки и ссадины подсчитывать никто не собирался, зализала она сама свои раны, зажили ее синяки и ссадины быстро, как на собаке.
У нас в классе Вальку откровенно жалели, понимали справедливость ее возмездия. Больше таких учеников на всем протяжении нашего обучения нам не встречалось. Валька была наподобие сурового природного явления, вроде смерча или урагана, мощного, порой немилосердного, но неотвратимого. Она дралась за восстановление правды, защищала справедливость с позиции собственного восприятия. Во всяком случае, уж копейки у малышей, выданные родителями на завтраки, никогда не отнимала, не водилось за ней подобного.
Екулька, промаявшись без дела в деревне, другой весной уехала куда-то к родне в западную часть страны. Спустя месяц по селу прошла молва, что Вальку посадили в тюрьму. Доподлинно никто не знал причину ее заключения, на суде из семьи никого не было, поэтому существующие гипотезы распались достаточно быстро. Она вернулась домой через три года. Но это была уже другая Валька: со злобным блеском в глазах, с пригнутой бритой головой, в черном мужском костюме. Как в насмешку, из-под пиджака дерзко выпирала ее роскошная тугая грудь, словно природа спохватилась, решила загладить собственную невнимательность и наградить нелюбимое свое дитя этим подарком.
Появление в деревне Валентины семья Казанцевых расценила как позор и живо сбагрила ее обратно в неизвестность, где она и пропала в неравной борьбе с «человеками».
Школьные мучения
Лидия Павлова
Исповедь неумехи
Что больше всего не нравилось мне, первокласснице, в школьной жизни, так это ранний подъем. Не привыкшая рано вставать, я жестоко страдала, не высыпалась и на первом уроке сидела сонная. И пусть не говорят, что потом привыкаешь: все школьные годы я училась в первую смену, и каждое утро было маленькой казнью.
А больше всего мне понравился – ни за что не угадаете! – школьный звонок.
Электрических звонков тогда и в помине не было. Уборщица, она же истопница (школа наша обогревалась печами, в которых горели дрова и уголь), она же звонарь, пожилая женщина, укутанная в несколько платков, сидела в коридоре за столиком, над которым висело расписание звонков. А на столике перед ней стоял колокольчик, размером с пол-литровую банку. Он меня просто завораживал: мне нравилась его массивность и тяжесть, мягкий блеск металла и заливистый, веселый звон. Уборщица разрешала желающим оповестить о конце перемены. Старшеклассникам это было неинтересно, а от малышей всегда отбоя не было. Достался как-то звонок и мне, я взяла его и начала трясти, но вместо звона раздалось отрывистое бряканье. «Не так звонишь, – сказала уборщица, – надо вот как». И она показала мне, как надо раскачивать звонок. Я опять попробовала, и опять у меня ничего не вышло, какой-то секрет я не уловила. Другие первоклассники овладевали этой нехитрой премудростью с первого-второго раза, а у меня все не получалось и не получалось.
Так я открыла одну из своих особенностей: когда надо было что-то делать руками, я осваивала дело за месяц там, где другим требовалось пять минут. Или вообще не осваивала. Позже я не могла научиться правильно завязывать пионерский галстук, и это было источником постоянных огорчений и переживаний. Потом на уроках труда портила одну за другой заготовки, из которых мы напильниками вытачивали молотки. Потом были кляксы туши и испорченные листы с чертежами, грозящая по черчению двойка, от которой меня обычно спасал папа: он быстро и красиво выполнял чертеж, над которым я безуспешно корпела полночи. А в старших классах добавились страдания на уроках по швейному делу.
С напряжением и тревогой я постоянно ожидала, какое еще испытание пошлет мне день грядущий в школе. И папа не всегда мог помочь. Или делал это не так, как надо.
Как-то наша учительница, Александра Георгиевна, дала задание: на следующий урок арифметики принести счетные палочки. Чего, казалось бы, проще: пошел и купил. Это сейчас (или их уже вообще не делают за ненадобностью?). А тогда в магазинах счетные палочки не продавались. Наверно, наша легкая – «очень легонькая» – промышленность их не выпускала. Поэтому счетные палочки нужно было изготовить самим… Не детям, конечно, – что могут сделать первоклашки? – а родителям. Это было первое домашнее задание для моих родителей. Палочек нужно было заготовить ровно сто, потом разделить их по десять и каждый десяток скрепить отдельно. Десять связок по десять палочек.
Отец пошел в сад, наломал веток, удалил с них боковые отростки, листья, почки, нарезал, и получились палочки длиной с ладонь взрослого человека. Потом мы связали их резинкой по десять штук. «Вязанки» получились не мелкие. В портфель они не вмещались, и пришлось изготовить специальный мешочек, вроде того, в каком сейчас носят сменную обувь. Я взяла портфель, мешочек, туго набитый счетными палочками, и гордо зашагала в школу.
Первым уроком была арифметика. Мои одноклассники, в отличие от меня, пришли без мешочков, и это меня удивило: неужели они забыли про палочки? Но тут все дети стали вытаскивать счетный материал, и я застыла от удивления. Палочки у остальных детей оказались раза в два короче моих, но не это главное. Они были гладкими, белыми, ровными и одинаковыми, как будто их изготовили на фабрике. Я перевела взгляд на свои вязанки хвороста. Мои счетные палочки, не ободранные от коры и неотшлифованные, были к тому же неровными, узловатыми, корявыми – они выглядели просто ужасно! Палочки у других детей занимали совсем немного места. Моим хворостом была завалена вся парта. Ко всему еще и резинки, которыми они были перетянуты, у всех были тонкие, «шляпные», и только у меня была толстая резинка для трусов, завязанная грубыми узлами. Мне хотелось затолкать корявые обрезки обратно в мешочек. Я не сомневалась, что Александра Георгиевна скажет что-нибудь обидное про мои палочки, и все дети начнут смеяться, а я получу первую двойку.
Учительница шла между рядов, проверяя, как выполнено задание. Дойдя до меня, она на минуту остановилась и спросила, улыбаясь: «Ты, Лида, наверно, сама делала палочки, да?» – «Мне папа помогал», – пролепетала я. Мне хотелось ответить, что это я сама делала, чтобы не смеялись над моим папой, но я не умела говорить неправду. Учительница легко прикоснулась к моему плечу, сказала: «Ну, ничего, ничего», – и пошла дальше. Никто не смеялся, и я постепенно успокоилась. Но дома я дрожащим голосом сказала отцу: «У всех палочки были такие красивые и маленькие, а у меня – некрасивые и кривые!» И расплакалась. Отец очень удивился. Наши корявые палочки ему казались вполне пригодными для счета и симпатичными. Палочки нужны были на несколько уроков, и он не видел смысла в том, чтобы тратить время на доведение их до совершенства. Но он огорчился, увидев, как я переживаю неудачу.
Через две-три недели мы начали считать на счетах. Мне купили пластмассовые черные счеты с ярко-розовыми костяшками, а мешочек с вязанками хвороста уплыл в область воспоминаний. Неприятных…
А вот уроки пения я любила! Мы разучивали «То березка, то рябина, куст ракиты над рекой…», потом «Во поле березонька стояла, во поле кудрявая стояла, люли-люли стояла…» Я каждый раз с нетерпением ждала очередного урока. Но как-то Александра Георгиевна вошла в класс и объявила, что мы будем разучивать песню про нашего великого вождя Владимира Ильича Ленина.
Она не улыбалась и как будто была чем-то озабочена. Теперь-то я понимаю, что ей вовсе не хотелось знакомить малышей с ТАКОЙ песней, но, видимо, программа обучения этого требовала.
– Дети, – сказала Александра Георгиевна, – вы знаете, как советский народ любил Владимира Ильича. И когда он умер, вся страна была в горе. Вот про это и написана песня.
Она помолчала, замялась в нерешительности, потом подошла к Лене С. и сказала:
– Леночка, твоя мама меня предупреждала, что ты очень сильно переживаешь, когда слышишь что-то грустное, и даже падаешь в обморок. Но ты ведь будешь молодцом, правда?
Лена в ответ кивнула. И Александра Георгиевна запела:
- …В Колонном зале положили
- Его на пять ночей и дней.
- И потекли народа толпы,
- Неся знамена впереди,
- Чтобы взглянуть на профиль желтый
- И красный орден на груди.
Песня мне не понравилась, даже была неприятна. Но в ту минуту мое внимание было поглощено другим: я наблюдала за Леной С. Никогда еще я не видела, как падают в обморок. Лена выросла в моих глазах необычайно: она была особенной, не такой, как все. И не я одна наблюдала за ее поведением: одноклассники во все глаза смотрели на нее – заинтересованно, завистливо, восхищенно и немного испуганно. Все чего-то ждали.
Когда Александра Георгиевна спела второй куплет, у Лены задрожал подбородок, потекли слезы, потом она закрыла лицо руками и зарыдала. Все завороженно смотрели на нее. Рыдала Лена очень заразительно, так что вскоре заплакали еще несколько девочек. Я подумала, что, наверно, так и надо сейчас вести себя: плакать навзрыд, это похвально и хорошо, а если не плачешь, это неправильно. Заплакали еще несколько одноклассников. Другие изо всех сил пытались заплакать. Я тоже очень старалась выжать из себя несколько слезинок, но ничего у меня не вышло. Я была сконфужена своей бесчувственностью, разочарована тем, что падение в обморок не состоялось, а от песни остался тяжелый осадок.
Долгое время после этого строчки из текста песни вспоминались мне в самое неподходящее время, например, перед сном, и тогда я боялась засыпать.
Дома я рассказала про урок пения, и папа поморщился, услышав, ЧТО мы распевали. Но он ничего не сказал: свое мнение тогда правильнее всего было держать при себе: ведь я могла по детскому недомыслию передать его слова учительнице или еще кому-нибудь из взрослых…
В нашем классе за первой партой в том ряду, что у окна, сидели дочь директора школы и сын первого секретаря райкома партии. Видимо, это было привилегированное место, вроде ложи в театре. Мысль о привилегированном месте возникла у меня сейчас, а тогда мы, первоклашки, о таких вещах не знали. Надо признать, Славик и Галя были очень славными, скромными и о своем особом положении, скорее всего, и не подозревали. Славик мне очень нравился все два года, что я училась в этой школе.
Появились у меня в классе и подруги. Тамарочка была высокой, кудрявой, бойкой и очень смешливой девочкой. Нас обеих выбрали санитарками, и каждое утро мы стояли в дверях класса и проверяли чистоту рук и ногтей у одноклассников. Строки стихотворения Агнии Барто «Мы с Тамарой ходим парой, мы с Тамарой санитары» мне казались написанными именно про меня и мою первую школьную подружку.
А второй подругой была кабардиночка Роза. У нее были длинные косы, черные глаза, нежный румянец и застенчивая улыбка. На переменках мы втроем ходили по коридору, взявшись за руки, и болтали обо всем на свете.
На заднем дворе школы были разбиты грядки-делянки, закрепленные за каждым классом. Что мы выращивали на своих делянках, я не помню, наверно, это была кукуруза. На уроках труда мы прорывали траву, рыхлили землю на своей грядке. Учительница говорила, что класс, который соберет самый хороший урожай, будет награжден. И мы старались как могли. Чем наградят победителей, не задумывались – нас вдохновляла сама мысль о победе. Мы гордо именовались юннатами – юными натуралистами.
В один из дней Александра Георгиевна объявила, что наши грядки нуждаются в удобрениях, и каждый ученик должен срочно принести ведро куриного помета. Почти у всех учеников из нашего класса родители вели хозяйство, у всех были куры. Поэтому никаких затруднений задание не вызвало. На следующий день мои одноклассники принесли удобрение.
А наша семья жила на съемной квартире, кур и прочую живность не держала, поэтому пришлось просить нашу хозяйку Куну помочь с выполнением ответственного задания. Куна уже использовала имевшиеся запасы помета для собственного огорода, но все же наскребла мне ведро. И я, запоздав с выполнением задания на два дня, получив замечание от учительницы, от которого пришла в полное отчаяние, спешила реабилитироваться.
Папа в это время был в отъезде, мама с раннего утра убежала на работу в больницу, поэтому ведро пришлось тащить мне самой. Я шла медленно, отдыхая через каждые сто метров, а школа была далеко от дома. В результате я впервые с начала учебного года опоздала на урок. Со страхом ожидая наказания за опоздание, я подошла к двери класса и тут глянула на свою драгоценную ношу. Всю дорогу я шла и гордилась, что несу такое нужное удобрение. Теперь я взглянула на этот груз иными глазами. Как ни крути, это все-таки было ведро какашек, пусть и куриных. Заносить его в класс, пожалуй, не стоило. Я вздохнула и потащила ведро обратно по длинному коридору к выходу. В школьном коридоре никого не было, во дворе тоже было пустынно. Посоветоваться, куда деть ведро, было не с кем, и я, немного поразмыслив, потащила его за школу. Я поставила ведро под окнами нашего класса, возле самой грядки, и с облегчением побежала обратно.
Александра Георгиевна пожурила меня за опоздание и разрешила сесть. Когда закончился урок, она спросила, принесла ли я удобрение, и я, сияя, ответила, что ведро поставила под окном напротив нашей грядки. Учительница отчего-то заволновалась, мы с ней быстро пошли к нашей грядке, но ведра на месте не было… Так я впервые узнала о таком неприятном явлении, как кража. Расспросы уборщицы и других взрослых, опросы детей ничего не дали, ведро с пометом так и не нашлось. Я получила выговор от учительницы за то, что бросила такую ценность без присмотра (надо было, оказывается, все же внести в класс), и меня обязали принести удобрение повторно.
Это были очень трудные для меня дни. С одной стороны, мной была недовольна мама: опять проблемы с поиском удобрения. С другой стороны, Куна огорчилась из-за утраченного ведра: жила она бедно, и лишнего ведра в хозяйстве не было. Учительница тоже была недовольна: класс недовыполнил план по сдаче помета. Она ежедневно напоминала мне о моей «пометной задолженности», а взять удобрение было неоткуда. Меня это сильно угнетало, и каждое утро я шла в школу с тяжелой душой.
В конце концов все утряслось: мама купила Куне новое ведро, Александра Георгиевна же перестала требовать от меня невыполнимое (подозреваю, что мама зашла в школу и объяснила, что удобрения у нас нет и взять его негде) – все оставили меня в покое. Но за неделю я так успела измучиться, что возненавидела воровство как самый страшный порок…
Школа школой, а после уроков я по-прежнему проводила время на улице в обществе подружек из соседних дворов, двух девочек-тезок – двух Фатимат – и еще нескольких кабардинских друзей. Мне как раз в это время купили фильмоскоп и кучу диафильмов к нему. Фильмоскоп был не из тех, что проецируют изображение на экран (стену или простыню). Диафильмы в нем надо было рассматривать, поднеся окуляр к самому глазу, закрыв второй глаз – как в микроскопе. Диафильмы были цветные и, как я теперь понимаю, выполненные хорошими художниками: «Руслан и Людмила» в двух сериях-пленках, «Генерал Топтыгин» по стихотворению Некрасова, японская сказка «Желтый аист», сказка «Маша и медведь», еще какие-то… С появлением фильмоскопа мой рейтинг среди кабардинских друзей значительно повысился. Они просили разрешения заглянуть в окуляр, а я важничала, устанавливала очередь и наблюдала за порядком в ней.
Другой любимой игрушкой был калейдоскоп. Вообще-то он был не второй, а самой что ни на есть первой, самой любимой игрушкой, лучшим развлечением. Калейдоскоп был чудом, непонятным и влекущим своей тайной. Орнаменты, возникавшие в трубке при малейшем ее повороте, были один прекраснее другого, цвета их – насыщенные, яркие на просвет, ликующие. Думаю, отсюда и пошла моя любовь к витражам. Будь моя воля, я бы на каждом шагу располагала витражи: в домах, магазинах, детских садах, школах, учреждениях. Это ведь лучшее средство от уныния, скуки, усталости и депрессии.
Говорят, что больше всего мы причиняем боли тем, кого больше всего любим. Это верно и в отношении вещей. Может быть, о боли говорить в этом случае нельзя, но о неприятности, которые мы причиняем любимым вещам, думаю, можно. Любимые книги – всегда самые потрепанные, любимая одежда – наиболее заношенная. А моему калейдоскопу вообще не повезло. Я долго боролась между желанием разгадать его тайну и стремлением сберечь спрятанную в нем красоту, чтобы наслаждаться ею и дальше. Любознательность одержала победу: я разобрала это чудо чудное! А когда разобрала, расплакалась: внутри оказались два стеклянных кружка, три узкие, длинные полоски зеркала и кучка жалких разноцветных мелких стеклышек. И все! Никакой тайны, никакой жар-птицы. Собрать калейдоскоп снова так, как было, не удавалось. Что-то в нем сместилось, зеркальные полоски не держались, стеклянное донышко выпадало. Так что калейдоскопа больше не было.
И только через пять лет мне снова купили калейдоскоп. Тогда мы жили в Евпатории, я училась в пятом классе, но узоры в калейдоскопе рассматривала с не меньшим восхищением, чем в семилетнем возрасте, и могла этим заниматься бесконечно…
Галина Щекина
Чтобы не позорила
В школе всегда много чего случалось. Я была очкариком с одним заклеенным очком. Меня жестоко дразнили. Первое воспоминание – мокрые цветы и гладкий глянец крашеных парт. Все, все новое. Запах свежего ремонта с тех пор означал счастье. Место, где прошло мое школьное детство, – г. Эртиль Воронежской области. Наша семья: мама, папа, моя сестра Люся и я – жила там около десяти лет.
Эртильская средняя школа № 2 располагалась в двух зданиях – старая школа и новая школа. В новой, щитовой, изогнутой буквой «Г», учились старшие классы, в старом оштукатуренном домике учились младшие классы. Сейчас-то школа – большая и кирпичная, но я запомнила ту, старую. В ней в каждом классе стояли печки, пальто висели на вешалках тоже в каждом классе. Учиться было тепло, даже жарко, и вешалка мало-помалу обрастала кофтами, свитерами. Учиться было просто – дома я часами корпела над уроками и чаще других получала пятерки. Дома мне внушали, что списывать нельзя – «надейся на себя!». «И другим списывать не давай». Я и не давала. Однажды за это упрямство мне наложили в парту тухлых яиц. Я только портфель туда – как оно и потекло мне всё на колени. Пришлось бежать домой… Вообще, с учебой у меня не было проблем, они были в другом – в отношениях.
Было так хорошо после улицы зайти и прижаться к горячей печке. Старая школа часто снилась мне, потому что напоминала дом. В этой уютной старой школе случилась со мною первая беда. По весне ближе к праздникам третий класс приняли в пионеры. Меня распирала гордость – как же, мне повязали красный галстук в числе первых. И первые дни я ходила в нем и в школе, и дома, не хотела снимать. Меня приняли в пионеры, я дала клятву: «Перед лицом своих товарищей торжественно обещаю…». Почувствовала себя частью чего-то большого и важного. Когда повторяла шепотом клятву, я едва сдерживала слезы.
И вот приходят завуч и главная пионервожатая. Объявили, что нужно выбрать пионеров для караула возле памятника погибшим воинам. Спросили у нашей учительницы, кто учится хорошо. Та некоторых перечислила и почти сразу назвала мою фамилию – Есипова Галя. Все названные встали. «Вот Галя хорошо учится, на пять».
Завуч взглянула на меня и передернула плечами. «Мало ли что, хорошо учится. Она же косая, куда такой стоять в карауле. Только позорить нас будет». Все затихли. Учительница моя в начальных классах Анна Яковлевна что-то сказала завучу на ухо, но та отрицательно помотала головой и продолжала что-то отмечать в списках (фамилию ее я, конечно, не помню).
Я не сразу поняла, что меня вычеркнули! Потом со мной что-то случилось. Не помня себя, я выскочила из класса, не одевшись, забыв портфель. Бежала домой мимо почты, мимо каменного «цыганского» дома, через дворы, детсад. Дома, упав на кровать, я так рыдала, что мать испугалась, хотела бежать в школу выяснять… Но я еще добавила масла в огонь: «В школу больше не пойду. И ничего не говори мне, сама учительница». Мать (ее звали Валентина Владимировна Есипова) просто остолбенела. Такие наглые речи от меня, затюканной отличницы, она слышала в первый раз. Она действительно сама была учительница в той же школе. И она хотела меня уговорить, но это было невозможно, тем более что я не могла толком объяснить, что случилось. Мама сама потом узнала у нашей учительницы причину такого взрыва.
Но в тот вечер со мной было невозможно ни о чем говорить. Проревевшись, я замолчала. Подружка принесла домой портфель. Но я не разговаривала и с ней. Я пошла за сарай и разбила очки. Молча. Размолотила кирпичом в крошку. Сердце мое билось настолько сильно, что трудно было дышать. А ведь я знала, что у нас в районе очки такие было не купить, надо было заказывать в городе (с разными стеклами). Глазам без очков было холодно. На душе было холодно. Я понимала, что одной учебы мало. Меня будут ненавидеть. Я приготовилась, что меня будут ненавидеть. За то, что я не такая, как все. За пятерки. За то, что отец директор. Не знаю за что. И во многом это сбылось.
У нас была физкультура, с начальных классов и до последнего, десятого. Я физкультуру не любила, отлынивала. Когда могла, приносила справки. Но это редко удавалось. На физкультуру надо было носить «форму» – растянутые трикотажные штаны – и быстро переодевать прямо в классе или где хочешь. Девочки, которым покупали красивую форму – «мастерку», зеленую или синюю, с белой полосой, как у спортсменов, смотрелись в ней изумительно. В «трикошках» я была похожа на маляра. К тому же я была неуклюжей до невозможности. Папа (Александр Михайлович Есипов, директор механического завода в Эртиле) знал об этом и пытался меня тренировать. Он в своем институте, Воронежском СХИ, был на виду и славился как чемпион по лыжам. Заставлял делать зарядку, тащил с собой на лыжах кататься. Осенью мы с ним как-то бегали на заводском стадионе. Он терпеливо засекал время, по сто раз повторял, как дышать, но сам выбивался из сил. И разводил руками: «утка на ипподроме», – говорил он про меня. Когда в школе бежали, кажется, тридцать метров на время, у всех было восемь секунд, а у меня одной было десять. Все смеялись. Но учитель по физкультуре Иннокентий говорил: «Неважно, за сколько, важно, что бежала». Он запомнился мне своим демократизмом и еще шутливой фразой «сделай ложный финт ушами и садись». Это если ученик оплошал. У него были еще фразы, всегда смешные, примиряющие с неудачей.
Кстати, коронные фразы были у всех учителей! Наш пожилой математик, Алексей Васильевич, заклинал нас: «Берите быка за рога, находите общий знаменатель!» Если в классе шумели, Алексей Васильевич бесстрастно говорил: «Недовольны – напишите на меня анонимку!». Русистка Лариса Яковлевна Лосева прославилась фразой: «Чтой-то ты на себя много берешь на сегодняшний день, как я посмотрю!» Начало фразы говорилось вкрадчиво, потом громкость усиливалась, и конец уже был гневно-яростным. Часто это относилось к ее сыну Вите Лосеву, который был довольно непослушным, мягко говоря. Но больше всех запомнился молодой физик Анатолий Ильич Бевз.
Он внешне мало отличался от своих учеников-старшеклассников: быстрый, вихрастый. Объясняя кружение электронов и протонов вокруг ядра, он то и дело добавлял фразочки типа: «Они тут летают, летают по орбите, икру мечут». Все хохотали. Учителя были в основном старые, поэтому, как только появился Бевз, в него все влюбились…
Видя мои мучения с физкультурой, родители однажды все же купили мне (достали на базе!) «мастерку», причем цвета морской волны, с белой полосой на воротнике. Они надеялись, что хоть это привлечет меня к уроку. Был конец учебного года, весна, мы ходили на стадион мехзавода через дороги, а они грунтовые, можно утонуть в грязи. Мы, весь восьмой или девятый класс, столпились около этой топкой дороги в своих нарядных «мастерках» и легоньких кедах. Мальчишки, разбежавшись, перепрыгивали, а девчонки никак. Иннокентию не понравилась наша беспомощность, время шло, урок таял. Тогда он поднял каждую девчонку на руки и перенес. Я понимала, что тяжела для худого Иннокентия, сама его за шею обхватила, и он потащил на спине.
Мы хорошо провели урок на стадионе: Иннокентий был доволен, я воображала перед всеми в новой «мастерке», надо мной не ржали, как обычно. Придя на волейбольную площадку, которой я боялась как огня, я три раза отбила мяч через сетку и, чтобы выслужиться, быстро приносила мяч, улетевший в аут. «Аут» – и я бежала изо всех сил. «Аут» – резко свистел свисток, и сил уже не было, но они были…