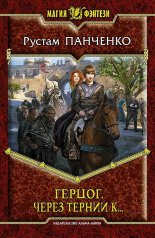Школа жизни. Честная книга: любовь – друзья – учителя – жесть (сборник) Быков Дмитрий

Только этот двор последнее время все чаще мне снится. Во сне я возвращаюсь в наш оазис тепла, дружбы и любви, бегаю по траве, летаю над домами и клумбами, играю в мяч с моими одноклассниками, пою пионерские песни… И я счастлива, что рядом мой друг Мишка, а дома, на пятом этаже, вон за теми окнами меня ждут папа, мама, бабушка и полосатый кот Малыш…
Но вернуться в страну детства можно только во сне. А наяву… Школа по-прежнему белая и красивая, а улица Терешковой по-прежнему зеленая, посаженные нами акации и прочая растительность заполонили все свободное пространство. Машин стало больше: они не умещаются на пятачке перед домом. И еще – вокруг ни одного знакомого лица…
Светлана Дурягина
Две потери
В конце шестидесятых годов, когда мне исполнилось одиннадцать лет, родители, даже не поинтересовавшись, хочу ли я этого, увезли меня из маленького южного городка в небольшое вологодское село – родину отца.
Здесь все было другое: чужое и даже враждебное. Среди сверстниц, сплошь белокожих, белобрысых и голубоглазых, моя смуглая мордашка с карими глазами, видимо, слишком резко выделялась, привлекая чрезмерное внимание и одноклассников, и мальчишек постарше. Это очень раздражало одноклассниц, а также мой акающий говор, банты в косичках, белые гольфы и туфельки, потому, видимо, что они, как было принято в деревне, даже летом ходили в платках и в сапогах. Их ужасно смешило то, что ко всем старшим, и даже к своим родителям, я обращалась на «вы», читала толстенные книги и боялась коров.
Говорить мне с девчонками было решительно не о чем, поэтому очень скоро самыми близкими друзьями для меня стали живущие по соседству одноклассники Вовка и Ленчик. Несмотря на банты и белые гольфы, я быстро выучилась у них лазить по деревьям, свистеть в два пальца и гонять на велосипеде.
Вовкины родители были учителями, кроме него в семье росли еще три девочки – старшие сестры. Вероятно, поэтому он никогда не ругался матом, как другие мальчишки, не курил и носил костюм. Рослый, сероглазый, он наверняка нравился девчонкам, но я не помню, чтобы Вовка за кем-нибудь ухаживал.
Ленчик был девятым ребенком из двенадцати детей колхозного бригадира. Маленький, слегка косоглазый, не унывающий ни при каких обстоятельствах, он знал уйму смешных и страшных историй, ловил руками рыбу в реке, словно кошка, мог залезть куда угодно.
Эти двое частенько ходили с синяками, так как им приходилось вести рукопашные бои со старшими ребятами, которые весьма своеобразно оказывали мне знаки внимания: дергали за косички, выкручивали руки или устраивали в моем портфеле террариум, поселяя в нем лягушек и ящериц. Вовкина мама в разговорах с моей сокрушалась, что ее Володенька часто падает лицом на землю (так мой приятель объяснял ей происхождение фонарей то под левым, то под правым глазом). Родителей Ленчика ссадины и синяки на лице сына не волновали.
До четырнадцати лет мы были неразлучны: вместе ходили в школу и из нее, зимой катались на лыжах, летом качались на качелях, играли в казаков-разбойников, вечерами пекли на костре картошку и пели военные песни, учились ездить на Вовкином мопеде, бегали в кино, а в дождливую погоду я читала мальчишкам вслух свои любимые книги (у меня одной была отдельная комната с закрывающейся дверью). В этой самой комнате однажды, дурачась, Вовка ткнул меня своим выросшим до размеров пудовой гири кулачищем в живот и тут же, увидев, как я с выступившими на глазах слезами хватаю ртом воздух, рухнул передо мной на колени и, целуя мои прижатые к солнечному сплетению руки, испуганно стал просить: «Ну, тресни мне по глупой башке, вот увидишь – тебе полегчает!»
После этого случая дружеское рукоприкладство (например, щелбаны в мой лоб при проигрыше в шашки или шахматы) со стороны приятелей совершенно прекратились. Но разве я смогу забыть, как мои закадычные друзья, взяв меня в плен во время игры в казаков-разбойников, однажды устроили мне допрос с пыткой: Вовка пару раз хлестнул по моим голым ногам крапивой и, увидев, что я, сдержавшись изо всех сил, не заревела, окончательно вошел в роль закоренелого бандита и вдобавок укусил меня за палец. Тут уж слезы брызнули во все стороны, но опять не у меня, а у Ленчика, который, поразившись жестокости друга, кинулся на мою защиту. Они, пыхтя, катались по траве, а я, подвывая от боли в пальце, пыталась растащить их. Потом мы все трое стояли по колено в речке, остужая мои ошпаренные крапивой ноги, и придумывали, как объяснить Вовкиной маме, почему у его пиджака оторвался рукав.
Когда нам исполнилось по четырнадцать лет, у меня появился кавалер – наш участковый, парень лет двадцати. В клубе он настойчиво приглашал меня на танец, угощал конфетами, говорил какие-то глупости, а мои верные друзья мрачно смотрели на нас из какого-нибудь угла. Сами они никогда не приглашали меня танцевать и вообще не танцевали. Видимо, в этом возрасте танцы для них были глупейшим занятием, а я обожала подвигаться под музыку. Когда мой кавалер после танцев провожал меня домой, два моих приятеля на приличном расстоянии следовали за нами, как бы я ни ругалась с ними, требуя, чтобы они прекратили сопровождать меня повсюду. И всякий раз, как мой ухажер робко обнимал меня за плечи, позади раздавалось презрительное посвистыванье и невнятные угрозы. Вскоре кавалера моего куда-то откомандировали, Ленчик уехал учиться в ПТУ, а мы с Вовкой пошли в среднюю школу, которая находилась в восьми километрах от нашего села, в другом поселке. И тут я влюбилась.
Два раза в неделю (в понедельник и в субботу) мы ехали на попутках, а чаще топали пешком в поселок, который раскинулся по берегам довольно глубокой реки; через нее приходилось переправляться на пароме, чтобы попасть в школу. Народу на берегу всегда было много, особенно «скубентов», как называл школьников вечно пьяный паромщик. Пока ждали переправы, общались на всю катушку. Обязательно находился у кого-нибудь транзистор, настроенный на «Маяк», а то и гармошка или гитара. Тогда устраивались танцы, и всем было весело без вина.
Новая школа мне очень понравилась, хотя жизнь мою здесь с самого начала легкой назвать было нельзя. Учителя наши оказались замечательными людьми, все, кроме одного. Молодой физик Алексей Сергеевич произвел на женскую половину нашего с Вовкой нового класса неотразимое впечатление: атлетическая фигура, безукоризненный костюм, модный галстук, красивое кукольное лицо. Он был похож на артиста с обложки очень популярного среди старшеклассниц журнала «Советский экран». Девчонки млели, глядя, как Алексей Сергеич выписывает на доске формулы, и зубрили физику больше, чем какой-либо другой предмет. А мне не нравился его слащавый голос, его манера поправлять на моей груди комсомольский значок и обнимать за плечи, когда он склонялся над моей тетрадью, чтобы проверить, как я решаю задачи. Всякий раз, как Алексей Сергеич это делал, я слышала, что сидящий позади меня Вовка начинал тяжело дышать и стучать под партой ботинками. В классном журнале по физике у Вовки «тройки» часто перемежались с «двойками», у меня практически в каждой клеточке стояли «пятерки». В конце октября идиллия закончилась.
Однажды во время урока Алексей Сергеич, объясняя новый материал, увидел в приоткрытую дверь класса, как из лаборантской удирают запертые там им в наказание шестиклассники (он был у них классным руководителем). Прервав объяснение, Алексей Сергеич приказал моим одноклассникам догнать беглецов, наподдавать им хорошенько и запереть их снова. Ну разве могла я, недавно прочитавшая «Педагогическую поэму» Макаренко, усидеть спокойно после всего этого?! Конечно нет. Я вскочила и, глядя физику прямо в его кукольные глаза, решительно заявила:
– Алексей Сергеич, это непедагогично!
Рванувшиеся было к дверям парни замерли на месте. Лицо учителя стало свекольным.
– Что-о? – полушепотом переспросил он.
Я повторила свои слова. Тогда Алексей Сергеич вытянул по направлению к двери длинный палец холеной руки и завизжал по-поросячьи:
– Во-он!
Я гордо удалилась, а со мной и мальчишки, отказавшиеся выполнять приказ. Парни гурьбой отправились в школьный сад курить, а я пошла на берег реки, села на скамью и бездумно стала смотреть, как плывут по темной осенней воде желтые листья. Вдруг кто-то подошел и сел рядом. Повернув голову, я увидела карие глаза с длинными, как у девчонки, ресницами и буйные смоляные кудри. Парень, белозубо улыбнувшись, предложил мне свой пиджак. Я его накинула на плечи – в одном свитере мне было холодновато. Так я влюбилась в Сережку из десятого «В».
Мы катались вечерами на его мотоцикле, а когда совсем похолодало, ходили каждый день в кино на последний сеанс, и Сережка, предлагая погреть мне руки, сжимал мои пальцы в своих больших сильных ладонях и целовал их горячими губами, щекоча шелковистыми усиками, едва пробивающимися над верхней губой. Я жила на квартире у колхозного парторга, прийти домой после одиннадцати часов вечера страшно было даже подумать, и мы каждый раз, взявшись за руки, неслись из клуба бегом, боясь опоздать.
Теперь на уроках физики, как бы я ни отвечала, в журнале неизменно появлялась «двойка». Меня это не трогало, так как мои мысли и чувства находились в другом измерении. И если бы не классная руководительница, я так и плыла бы по волнам своей первой любви, нимало не заботясь об успеваемости. Тамара Георгиевна, обнаружив в журнале среди «пятерок» и «четверок» по другим предметам кучу «двоек» по физике, быстро выяснила, в чем тут дело, и потребовала собрать педсовет, который постановил мне сдавать зачеты по физике другому учителю, а Алексей Сергеевич сделался со мной подчеркнуто вежлив и официален.
Мой друг Вовка вдруг стал молчалив и угрюм. Он наотрез отказался жить на квартире и каждый день ездил на попутках домой, а то и ходил пешком. Я присоединялась к нему по субботам и понедельникам. Однажды, в одну из ноябрьских суббот, рейсовый автобус сломался (с ним это часто случалось), и мы с Вовкой отправились домой пешком. Сережа проводил нас до парома и несколько минут махал мне рукой. Вовка, нахмурясь, отошел в другой угол, а я осталась у сходней, чтобы подольше видеть любимого. На середине реки перевозимые на пароме вместе с людьми телята, испугавшись голоса пьяного паромщика, которому приспичило спеть частушку, кинулись к моему краю. Паром накренился, я едва успела схватиться за поручень и тут же с ужасом почувствовала, как ледяная вода, обжигая мне ноги, хлынула в сапоги. Иссиня-бледный Вовка бросился ко мне, рванул за руку, увлекая на другой конец парома. Он вылил воду из моих сапог, снял с себя носки и велел мне переодеться. Нам повезло: в нашу сторону шла попутка. Через несколько минут у меня зуб на зуб не попадал. Вовка расстегнул куртку, обнял меня, укрывая ее полами. Прижимаясь к его груди, я слышала, как бешено стучит у него сердце. Через полчаса я перестала чувствовать свои ноги, думаю, и Вовка тоже: резиновые сапоги на босу ногу вряд ли грели.
К вечеру я слегла с высокой температурой. Как ни странно, друг мой после этого происшествия повеселел и сделался чрезвычайно общителен и разговорчив. Он продолжал учиться, а я болела. Вовка каждый день приносил мне домашнее задание, делал со мной уроки и трещал без умолку, забалтывая меня насмерть. Мне было грустно: я скучала по шелковым кудрям. И вот однажды, дней через пять после случившегося, вечером под моим окном вдруг раздался треск мотоцикла, и в дверном проеме появилась моя любовь в мотоциклетном шлеме и в грязи по самые уши. Стоя на пороге моей комнаты, он смущенно и радостно улыбался, глядя на меня своими шоколадными глазами; в одной руке он держал заляпанные грязью сапоги, в другой – кулек конфет, а из рваного носка на правой ноге выглядывал красный от холода палец. Я так обрадовалась, что потеряла дар речи и только протянула к нему обе руки. Сережка, почему-то на цыпочках, подошел к моей кровати, наклонился, отведя назад занятые руки, и поцеловал меня прохладными нежными губами. Это был наш первый поцелуй. Он был таким сладким, что потом мы уже не могли остановиться и целовались без конца и где попало. В школе, одновременно отпрашиваясь с уроков, мы встречались под лестницей на второй этаж и целовались как сумасшедшие. За этим занятием нас однажды и застукала моя классная руководительница. Все могло закончиться исключением из школы. Но спасибо ей, эта умная и добрая женщина нашла для нас такие слова, которыми, не обидев, убедила нас не давать волю своим чувствам хотя бы в школе.
Вовка как-то отдалился от меня, но я всегда чувствовала его неустанное внимание. Его глаза постоянно следили за мной. Ослепленная переполнявшим меня счастьем, я не обращала внимания на то, что теперь мой друг почти никогда не улыбался. Лишь на выпускном вечере, когда он одновременно с Сережей подлетел пригласить меня на танец, я вдруг увидела, какие грустные у Вовки глаза. Тогда я не пошла танцевать ни с одним из них: я заметила, как все в зале с интересом смотрят на нас, ожидая, кого же я выберу. А я пригласила на танец стоящего рядом физрука. После выпускного Сережа пошел провожать меня домой. О Вовке я даже не вспомнила. Восемь километров до моего поселка мы шли всю ночь. У калитки моего родного дома мы поцеловались распухшими губами в последний раз и расстались, как оказалось, навсегда: через два дня Сережу призвали в армию. Писать письма мы оба оказались не любители, а дальнейшая жизнь сложилась так, что больше мы с ним никогда не встретились.
Ночью я ревела от тоски по Сереже, а днем мы с Вовкой готовились к поступлению в институт. Мы валялись на покрывале под палящими лучами солнца у нас в огороде и пересказывали друг другу учебник истории. Однажды, прикрыв глаза, я слушала Вовкин монотонный голос, стараясь не отвлекаться на мысли о Сереже, как вдруг почувствовала на своих губах горячее Вовкино дыхание и услышала хриплое:
– Научи меня целоваться.
Широко открыв от изумления и неожиданности глаза, я спросила у него довольно ядовито:
– Вы, сэр, на солнышке перегрелись, что ли?
Лицо у Вовки стало пунцовым. Опустив ресницы, он тихо сказал:
– Знаешь, сколько раз вы с Сережкой поцеловались, когда шли с выпускного? Я сосчитал: сто шестьдесят четыре раза.
– Ну и дурак. Зачем ты это сделал?
Вместо ответа Вовка поднял на меня невыразимо грустные глаза и спросил, неровно дыша и близко наклонившись к моему лицу:
– Можно тебя поцеловать?
Я молча закрыла глаза, а он на миг прижался к моим губам своими неумелыми губами, потом вскочил, собрал книжки и убежал. На следующий день Вовка уехал в Архангельск поступать в институт, а я отправилась в Вологду за тем же самым. Жизнь развела нас в разные стороны. И только через много лет я поняла смысл очень мудрой русской пословицы: «Что имеем – не храним, потерявши – плачем».
Лариса Теплякова
Бульвар школьной любви
– В этом классе невозможно вести уроки! – возмущенно сетовала математичка. – Они все поголовно друг в друга влюблены! По классу летают записочки, до перемены дотерпеть не могут. Вызываю к доске задачу решать, а они начинают глазки строить, переглядываться. Какие уж там интегралы с дифференциалами! С этим мириться нельзя! Надо что-то делать, дорогие товарищи родители! Серьезно поговорите с вашими детьми. Ведь класс-то вы-пуск-ной!
Голос учительницы математики звучал пронзительно и тревожно. Глаза горели. Последнее слово она произнесла врастяжку и с осудительным покачиванием головы. Ей в такт высокой прической кивала наша классная руководительница. Для большего эффекта.
Я знала обо всем со слов мамы и очень живо представляла эту сцену. Родители видели наших педагогов изредка, а мы – каждый день и давно изучили все их коронные номера.
Сухощавая математичка быстро удалилась – ее ждали в соседних кабинетах, на родительских собраниях параллельных классов. Думаю, там она говорила то же самое, слово в слово. Школьная любовь мешает извлекать дифференциалы и строить синусоиды. Дети влюбляются, витают в облаках, а экзамены уже на носу. Эту фразу – «экзамены на носу» – мы слышали ежедневно и уже привыкли к ней. Далее обычно следовало внушение о необходимости получить аттестат зрелости с приличествующими оценками, даже если некоторые не собираются в вузы. Ведь впереди вся жизнь, а это первый важный документ, характеризующий зрелую личность.
Математика – царица наук, предмет серьезный. Потому именно математичке поручили ударно выступить перед родителями. Звали ее Аниса Хуснулловна. Вообще-то она прекрасно с нами справлялась и умудрялась вколачивать в затуманенные головы основы алгебры и геометрии. В ход шло все: резкий голос, острый взгляд, едкие замечания, пассы длинной указкой.
Кому-то ее имя покажется странным, но только не в нашей школе. Я родом из Уфы, столицы Башкирии. Нашу классную даму звали Эфира Давлетовна, а физкультурника – Равиль Гендуллович. Завуч – Римма Сулеймановна. И так далее. Обычные имена для республики, расположенной на Урале, на границе Европы и Азии. Тогда и Башкирия называлась длинно и пышно: Башкирская Автономная Советская Социалистическая Республика. Был намек на непонятную автономность, но мы, как все советские школьники, носили октябрятские звездочки с ликом кудрявого Володи Ульянова, потом алые пионерские галстуки, затем гордые комсомольские значки. Очень часто уфимских ребят принимали в октябрята и пионеры в доме-музее Ульянова-Ленина. Вождь бывал тут в ссылке.
В старших классах к широкой лямке форменного фартука я прикалывала крохотный символ кумачового знамени. Из школы мы уходили в большую жизнь комсомольцами.
На собрании в начале последней учебной четверти была мама. Она прекрасно знала, в кого влюблена ее дочь, и потому мягко сказала:
– Вы уж там с Олежкой аккуратнее, не срывайте уроки. И зачем вы эти записки строчите, учителям мешаете? Неужели нельзя на перемене обо всем переговорить?
Эх, мама-мамочка! Ведь даже в песне поется: «Перемена мала, я смолчу, как всегда, очень плохи дела, вот какая беда!». Не все можно сказать вслух. И потом, эти записочки – это же прелесть что такое, их можно хранить и перечитывать!
Маме я свои соображения не озвучила. Чтобы не огорчать. И не усугублять. Мне было некогда, меня на улице Олежка ждал. Поэтому я сделала большие глаза, состроила виноватую рожицу, чмокнула маму и убежала гулять.
Впрочем, особых причин для волнений ни у меня, ни у мамы не было. По математике я имела огромную коллекцию пятерок с редким вкраплением четверок. На строгую Анису Хуснулловну я не держала зла. Вся штука в том, что мы ее любили и знали, что она любит нас. Вот так!
Мы вообще тогда всех и вся любили: свой город; свою страну, самую лучшую и большую; свое светлое счастливое будущее. Другого грядущего у нас быть не могло. Только такое.
Мы обожали свою школу, потому что для нее отстроили новое, суперсовременное здание и оборудовали его круче некуда. Туда перевели самых веселых учеников из двух старых и переполненных школ. В старых стенах постарались удержать будущих медалистов и лучших хорошистов, а здесь собрали самый цвет заводил нашего района: троечников-раздолбаев, хорошистов-пофигистов, начинающих хиппи и пацифистов, искателей приключений и романтиков. Я очень рвалась в новую школу и исхитрилась забрать свои документы сама. За мной последовали мои лучшие подруги. Два мощных потока из разных учебных заведений слились и образовали бурное море страстей. Вот какой замечательной была наша школа!
Наш школьный комплекс возвышался возле огромного лесопарка. Вокруг всегда наперебой чирикали птицы и шелестела листва. Зимой мы прокладывали лыжню среди сонных деревьев вместе с Равилем Гендулловичем. Со всего города к нам съезжались играть в «Зарницу», искать деревянные мины в высоких сугробах и пить горячий чай из термосов. Нам завидовали: у нас был свой стадион с трибунами и свой волшебный лес чудес.
Воздух вокруг изобиловал кислородом и флюидами любви. Мы мечтали и влюблялись, и с этим ничего нельзя было поделать. Ощущение того, что наш возраст «вы-пуск-ной», лишь усиливало эмоции. Мы понимали, что вот-вот все завершится, изменится, и мы уйдем из привычных стен в большую жизнь. От этого наши чувства вообще зашкаливали.
Последняя школьная весна… Теплая, нежно-зеленая, трепетная, чувственная. Каждый день заполнен событиями и радостью. От предчувствия скорых перемен сердца гулко бились. А изменения уже происходили. Даже обычные уроки стали другими. На физкультуре нас учили танцевать вальс, на литературе мы конспектировали напутствия академика Лихачева, на анатомии говорили об отношениях полов.
У меня тогда была коса до пояса. Все уже дерзко стриглись под «гаврош», «финского мальчика» и «сэссун», а я носила простую девичью прическу по настоянию моей мамы. Ах, мама-мамочка, как ты была права!
Моя коса мне шла и очень нравилась моему парню. Каждое утро он ждал меня возле самой ближней к школе пятиэтажки. Зачем? Чтобы зайти в подъезд и поцеловать. Разве это не лучшее начало дня?
Потом я шла в класс, а он – куда душа поведет. Я усердно училась, а он с большим желанием играл в школьном вокально-инструментальном ансамбле. Тоже по-своему готовился к выпускным торжествам.
Олег учился небрежно и мечтал об эстраде. Мой друг везде ходил с гитарой, как трубадур из «Бременских музыкантов». Он дарил мне незатейливые подарки: шоколадки-миньоны, жевательную резинку и стихи. Свои стихи, записанные на листочках почтовой бумаги аккуратным почерком. У него был красивый мужской почерк. Олег вкладывал эти послания в нарядные конверты и вручал мне самолично. Я их хранила и перечитывала.
Долго хранила. До замужества. Перед свадьбой сожгла. Жечь пришлось много, но мне не хотелось огорчать будущего мужа. Легко догадаться, Олег не стал моим супругом. В юности мы часто увлекаемся плохишами, разбитными парнями, но спустя годы понимаем, что с ними не создать стабильную семью.
Иногда мы с Олегом ссорились. Из-за пустяков. И тогда тоже писали друг другу длинные письма и обменивались ими на переменах. Летопись нашей жизни складывалась из записок и фотографий. К счастью, черно-белых снимков тех лет осталось немало.
В нашем классе учился паренек, всерьез увлеченный фотографией. Его отец работал в редакции местной «Вечерки» и сына приучал к профессии. Леша нарабатывал опыт и создавал фоторепортажи неформальной школьной жизни. Он снимал нас всюду и щедро раздаривал карточки. Благодаря Леше мы можем всматриваться в свои юные лица. А ему удалось запечатлеть самое главное – наше шальное счастье в обрамлении солнечных бликов.
Вокруг нашей новенькой школы разрастался городской микрорайон с развитой инфраструктурой. Возникали дома, универсамы, корпуса клинической больницы, детсады, даже Дворец спорта с ледовой ареной. Строили дороги, а вдоль дорог сажали деревья. Нас нередко отправляли на субботники – приводить в порядок улицы. Так мы вносили свою лепту в дело благоустройства города.
Столько лет прошло, а мне до сих пор помнится тот долгий солнечный майский день, когда уроки биологии, труда и физкультуры заменили субботником по посадке деревьев! К школе подъехали грузовики с саженцами. Несколько выпускных классов вооружились лопатами, граблями, лейками и растянулись по улице.
Мы рыли ямы и сажали тонконогие березки. К вечеру обычная улица с панельными девяти– и пятиэтажками превратилась в бульвар. Деревца были слабенькие, поникшие, но постепенно они прижились.
Спустя десятилетия наши березы горделиво вытянулись к небу, вольно раскинули ветви, стали настоящими красавицами. Второй такой улицы в городе не сыскать. По одну сторону – большой школьный двор со стадионом, а по другую – жилые дома, и между ними – два стройных ряда наших берез.
Теперь другие дети учатся в нашей школе. У них не бывает субботников и даже уроков труда в расписании нет. Многих учеников в школу доставляют на машинах, а раньше такого не водилось. Мы сами брели по улицам, размахивая портфелями, обсуждая новости, забегая целоваться в ближайшие подъезды. Ныне повсюду установлены домофоны, кое-где сидят строгие консьержи и даже имеются видеокамеры. Никакой подъездной романтики.
На уроках не пишут записки, как прежде. У всех мобильные телефоны, школьники обмениваются эсэмэсками. Может, это и неплохо, но только теперь влюбленные не знают почерка друг друга, и им нечего хранить в личных архивах. Ведь эсэмэску не оставишь на память о первой школьной любви. Но даже на автомобилях нынешние дети едут к школе по нашему бульвару, где уже немолодые березы шелестят листвой и нашептывают им старые добрые истины. Нужно только вслушаться.
Елена Жарикова
Мои глазки, ваши брови – все доводит до любови
Мои первые серьезные влюбленности начались еще в младших классах средней школы № 4 поселка Горячегорск (Шарыповский район Красноярского края) – классе эдак втором, а было это, если точно, в 1979 году. Примерно с этого времени я уже (отчетливо об этом помню) жила напряженной внутренней жизнью; да, впрочем, делиться-то было не с кем. Мальчика этого, объект моих сердечных волнений, я знала давно, с детсадовских времен, жили мы неподалеку, но столкнулись «нос к носу» только в школе. И я стала внутренне трепетать и замирать, как только он приближался: ну хотя бы в тот момент, когда я дежурила на входе (была у нас такая обязанность), а он являлся вдруг – чарующе-прекрасный, близко-далекий… Разумеется, никакого контакта поначалу – так, внутренний ужас, какое-то девичье «ах!», страх даже взглянуть в его сторону и ожидание нового дня: что сегодня будет хорошего? Увижу ЕГО!
Он был похож на маленького Ленина на октябрятской звездочке, просто копия: хорошенький, с большим лбом, над которым плотно курчавилось темное облачко волос, с совершенно круглым упрямым затылком, с каким-то хитрым прицелом голубых глаз, ямочками на щеках, херувимскими губками… Тоже сын учительницы, как и я. (Кстати, этот кластер внешних данных: кудри, глаз голубой, круглый затылок и ямочки – станет для меня пожизненно-роковым! Вот ужасть-то!)
Словом, я млела и цепенела, когда он приближался на пушечный выстрел или тем паче заговаривал со мной. Казалось совершенно немыслимым оказаться с ним в одной игре и уж совсем непостижимым – сидеть за одной партой! Помню, мы очень увлекались в те годы маленькими блокнотиками, куда записывали и приклеивали всякий вздор: песенки, стишки, картинки, вырезанные из журнала «Пионер»… И мне папа подарил такой зелененький блокнотик в красивенькой обложке, что я припрыгивала и пела (когда не плакала – я пела!). Я туда приклеила вырезанный портретик обожаемой Яны Поплавской – Красной Шапочки – и любимые песенки. И вот когда Володька очередной раз проходил мимо меня, я осмелилась показать ему этот блокнотик – вот, мол, смотри, что у меня есть! И он, представьте себе, полюбопытствовал, смотрел-завидовал…
То ли учителя уловили электрическую волну, которая пробегала между нами, то ли звезды так сложились – но нас ПОСАДИЛИ ЗА ОДНУ ПАРТУ! Это было потрясение! «В целях профилактики правонарушений» нас время от времени пересаживали, и я непременно оказывалась бок о бок с каким-нибудь сопливым двоечником… А тут! Я и глаз поднять не смела, и с трудом сохраняла равнодушную физиономию, когда это произошло. И самое-самое, о Боже! – я почуяла, что и он ко мне – кажется-неужели?? – неровно дышит: вот как-то боязливо, особенно тихо-нежно спрашивает ручку или ластик, как-то улыбается странно… Я не смела поверить.
Надо ли говорить, что сидеть с ним рядом было сбывшимся счастьем и страхом-мученьем! Я не помню, как училась в третьем классе, какие оценки получала, что вообще было в эти годы – второй, третий, четвертый: все смутно, кроме того, что происходило во мне. Кажется, я училась без напряга, кажется, немного грязными были тетради, и мама заставляла меня переписывать, кажется, я любила петь на классном часе… это тоже было что-то! Учительница Валентина Никитишна (царствие небесное, померла недавно!) говорила: а теперь спойте свою любимую песню! И надо было выйти перед всем классом(!) и спеть, – вы бы не испугались? А вот я, самая трусливая трусиха на свете, словно оторвав внутри что-то, встаю и иду петь (конечно, чтобы показать ЕМУ, как я хорошо пою, какие песни замечательные я выучила с пластинок!). Я пою про жирафа, который беззаботно гуляет по своим африканским просторам; про юного трубача (с комом в горле пою), который «был настоящим трубачом», про карусельных лошадок, что «целый день бегут-спешат»… А потом мы с девчонками еще и сказку поставили – «Золушку». Ну, разумеется, режиссером была я, исполнительницей главной роли – тоже. Золушка пела, танцевала со шваброй, набросив поверх маминой тюлевой накидушки («бального платья»!) чей-то дырявый халатик… И ОН все это видел! И точно проникся!
Потом был четвертый класс, и его мама вела у нас географию – такая вся стройная, голубоглазая, узкогубая, в голосе металлические нотки… (Вот пару лет назад мы встретились в банке – она умилилась-прослезилась, обняла меня, назвала красавицей…) А тогда я все время чувствовала, что она СЛЕДИТ ЗА МНОЙ (уж такая проницательная! Наверняка видела, что мы с Володькой не столько географией и историей увлечены, сколько друг другом…).
Грянула очередная пересадка: я не успела и глазом моргнуть, как его пересадили за мою спину – с самой красивой девочкой в классе, с Маринкой, у которой уже пышнела (на зависть всем девочкам) грудь и нежно румянились щеки, а самое главное – на спине ее горделиво покоилась толстенная и длинная темно-русая коса! А ко мне посадили сопливого-нерадивого Ваську, с которым никто сидеть не хотел!
Володька еще долго будет тыкать меня в спину то карандашом, то ручкой – наверное, еще полгода, пока его опять – уже в пятом классе – не посадят рядом со мной.
В пятом классе у нас начал меняться характер поведения: пацаны начали шалеть и проявлять к противоположному полу явные (дикарские!) знаки внимания. Володька стал мне дерзить, отворачиваться – словно стесняться меня или того, что на нас поглядывают как-то… Нет, он не носил мне портфель (это в нашей школе казалось диким, невозможным), не провожал до дома, не покупал мне пирожки в буфете, не защищал меня от мальчишек – словом, он никак не выдавал своей долговременной симпатии. По мере взросления его характер стал портиться – прямо на глазах, к ужасу моему! – он жаднел, при общем озорстве прятался за чужие спины, начал списывать, ловчить, соглашаться со всякими негодяями (а я судила своих одноклассников очень строго!)… Мне с каждым днем становилось грустнее. Чувства мои омрачались сознанием того, что я обожаю недостойного человека. А потом в один день все кончилось!..
Я пришла перед началом урока и обнаружила, что у нашей парты нет стульев. Володька притащил откуда-то стул и поставил СЕБЕ. «Эгоист какой!» – подумала я. Да нет, не мог он так сделать, сейчас звонок, а мне сидеть не на чем. Возьму стул себе. Взяла и села. В одно мгновение он вспыхнул, озлился, сжал кулаки и ка-а-ак отвесит мне оплеуху!!! У меня и дыхание остановилось, и я не могла ничего сказать, только: «Ты?! Ты?!» И разразилась рыданиями…
Это была такая страшная точка в наших отношениях, такое оскорбление, от которого долго заживала душа. Сбежались, конечно, все, Петр Васильевич, классный наш (тоже уже покойный), со свойственной ему экспрессией ахнул: «ТЫ ЕЕ УДАРИЛ?»
С того дня словно шарик лопнул – и воздух вышел, словно вытекла вода из треснувшего кувшина: Володька для меня больше не существовал, хотя доучились мы с ним в одном классе до выпуска.
Елена Смирягина
«Дорогая Бредун!»
Портфель купли светло-коричневый с двумя симметричными блестящими застежками. Кроме застежек на портфеле не было ничего – ни зайца из «Ну, погоди!», ни круглобокого Винни-Пуха, ни енота – «От улыбки хмурый день светлей». Скучный был портфель. Я немного расстроилась, но родителям не сказала.
На белый фартук бабушка нашила толстое кружево, на мои жиденькие волосы-пушок привязали огромный бант – гофрированный, праздничный, белый. Еще были припасены два узких коричневых банта с тонкой окантовкой, но это «на каждый день», «на будни», которые начнутся со второго сентября.
Для меня, ребенка, который никогда не был в детском саду, первое сентября первого класса показалось днем чудовищным и страшным. Огромное здание днепропетровской школы № 28, в которой я проучилась с 1976 по 1986 годы, с полутемными лестницами, громкая торжественная музыка, чья-то рыдающая от переполненных чувств бабушка, общий туалет с кафельным предбанником, и люди – очень много людей разных возрастов и назначений: от мелких вертлявых первоклассников до строгих взрослых – учителей и уборщиц. Мне было страшно и одиноко, я лихорадочно пыталась сообразить, что бы такое придумать, чтобы завтра в школу не пойти, чтобы никогда не наступил этот самый «каждый день», на который были отложены скромные коричневые банты.
Меня посадили за вторую парту. За первую сажали отличниц и детей со слабым зрением, за последние – неформальных лидеров и неисправимых двоечников. Серые мышки вроде меня сидели за вторыми и третьими партами в компании двоечников, которых педагоги еще надеялись исправить воздействием на них примером хорошего поведения и старательной учебы.
«Учительницу первую мою» звали Анастасия Тарасовна. Ей было тогда, наверное, под шестьдесят. Она была полной рыхлой женщиной с густыми черными бровями и маленьким тугим кукишем темных с проседью волос. Анастасия Тарасовна носила строгие простые платья с брошами. Однотонное ли платье, в сумрачно ли синих цветах – обязательно крупная брошь на вырезе. Эти броши гипнотизировали меня, как удав кролика. Я могла весь урок следить за перемещением очередного янтарного паука в пространстве, совершенно не слушая, что в это время говорит Анастасия Тарасовна. Наверное, она была неплохой учительницей, наверняка работала в школе давно. Первого сентября она показала, как надо сложить руки на парте – правую на левую, а если что сказать хочешь – эту верхнюю правую руку следует поднять под углом 90 градусов к парте. Так я со сложенными руками все три года начальной школы и просидела. Читала лучше всех, писала аккуратно, все задания выполняла в срок. А руку так ни разу и не подняла – отвечала, только если вызывали. Видимо, я была идеальной ученицей для Анастасии Тарасовны, потому как табель она мне рисовала отличный: и по успеваемости, и по поведению.
Сначала со мной сидел Паша Козенко. Он был двоечником и хулиганом, но я его не боялась по одной простой причине: мы были почти соседями и иногда вместе играли. За год до того, как я пошла в школу, мы переехали в Днепропетровск, и папа купил покосившийся дом-мазанку с большим участком у старой цыганки. Купил, чтобы построить на том месте новый дом – светлый, большой, в два этажа, где жили бы долго и счастливо дети и внуки, а родители старели бы медленно и чинно в достатке и покое.
Та старая цыганка приходилась Паше Козенко родной бабушкой. У нее был сын Степан, могучий мужик с орлиным взором и кудрями до плеч, – Пашкин отец. Он женился на русской – маленькой полноватой женщине с косым глазом. У них было двое детей: высокая, как модель, гулящая красавица Ленка и маленький двоечник Паша, мой первый сосед по парте. Они жили через три дома от нас, и Пашкина бабушка – старая и страшная, как баба-яга, в многоярусных цветастых юбках, в черном платке с алыми розами, из-под которого мохнатой паутиной выбивались седые жесткие волосы, – эта колоритная бабушка часто ходила по дороге мимо наших окон. Звенели золотые серьги толстыми кольцами в ее ушах, дымила старая трубка во рту. Трубку цыганка вынимала, только когда хотела проклясть свою невестку – тетю Люду, Пашину мать. Проклинала она ее громко – на всю улицу, смачно и красиво – почти без мата, но так виртуозно, что в благоговейном трепете замер бы любой собиратель фольклора. Пашину бабку боялись, говорили, что сглазит и порчу наведет – только глянет. Кто знает… Старая цыганка прожила почти до ста лет, пережила весь свой табор и проклинаемую невестку. Говорили, что хорошо она относилась только к моей маме, потому что мама с ней всегда здоровалась. И улыбалась, говорят. А старая ведьма улыбалась ей в ответ, не вынимая замусоленной трубки изо рта. Мою маму она тоже пережила…
Забегая вперед, скажу, что лет в шестнадцать Пашка сел в тюрьму – вернее, за воровство и разбой попал в колонию для несовершеннолетних преступников, если я ничего не путаю.
Но это все случится потом, а первого сентября 1979 года об этом никто еще не знал и не догадывался.
После нового года, когда началась третья четверть, нас пересадили. Пашка попал на «камчатку», видимо, как не поддающийся положительному влиянию, а ко мне посадили мою тайную любовь – Костю Сплендора. Он тоже был двоечником, но парнем видным, высоким, как по мне – красавцем писаным. Костя был белобрыс и конопат, но брови имел черные и широкие, а ресницы длинные и пушистые, как у восточных принцесс. На меня он не обращал внимания, даже жеваной бумагой плевался в других девочек, через весь класс. Хотя, казалось бы, до меня-то рукой подать, плюйся не хочу. Помню, как он забрал у девочки, что сидела сзади, пенал. Та попыталась вернуть свое, но Костя лег на парту, прикрыв добычу собственным телом, а девочка обижалась, плакала и все пыталась Костю с пенала стащить. Так они возились, пока не появилась Анастасия Тарасовна и не восстановила справедливость.
На следующем уроке я вытащила свой пенал – красивый, желтый, с маленькими красными счетами на внутренней стороне крышки. Вытащила и поставила на парту, ближе к Костиной половине. Пенал так и простоял весь урок, завлекая соседа внутренним содержанием: сине-белой резинкой, простыми карандашами и металлической шариковой ручкой с полуоблупившейся аббревиатурой ГБСМП (городская больница скорой медицинской помощи), которую принес мне с работы папа. Все было напрасно – Костю Сплендора не интересовали ни внутреннее содержание, ни внешняя привлекательность моего пенала.
Приближались праздники – 23 Февраля и 8 Марта. Родительский комитет организованно закупил подарки. Помню, мальчикам мы дарили книгу и поделку-сувенир «Веселый человечек» из желудя и шишки. Были такие фабричные сувениры, стилизованные под поделки из природного материала, продавались в местном промтоварном магазине «Лотос». Мальчиков в классе было меньше, подарки им просто разложили на парты. Раскладывали всего три или четыре активные девочки под руководством одной мамы из родительского комитета, остальные девочки просто сидели и смотрели. Мальчики в это время стояли у стенки в коридоре под присмотром второй мамы из родительского комитета и Анастасии Тарасовны. Когда подарки были разложены, мальчиков организованно завели в класс и – сюрприз! – на парте лежали книга и «Веселый человечек» из желудя и шишки.
Костя немедленно отломал человечку желудевую голову, потом тонкие ноги-спички и попытался сделать из образовавшихся частей какое-то непотребство. Когда же конструкция не получилась, вынул из кармана мятый шарик серой оконной замазки, скатал из него толстенькую колбаску и, подумав несколько секунд, вдруг развернул подаренную книгу. Затем, весело подмигнув мне, он засунул «колбаску» в переплет и стал толкать ее взад-вперед.
– Трахает, – пояснил Костя.
Я ничего не поняла: ни действа, ни объяснения – но на всякий случай сделала «козью морду».
Восьмое марта, закономерно наступившее через две недели, было организовано немного по-другому. Мальчики по очереди брали подарки из заранее заготовленной коробки и шли вручать девочкам. Не знаю, по какому принципу были поделены девочки – скорее всего, по алфавиту, но элемент интриги в этом действе был: кто подойдет к тебе с книгой (да, опять книга, а как же!) и набором цветных карандашей и пробубнит, глядя в пол: «Поздравляю с женским днем…»
У нас было два козырных мальчика: Игорь – сын заведующей маленьким продуктовым магазинчиком, который находился рядом со школой и где все учителя отоваривались дефицитными сосисками, и Лобза Спартак. Второй был, видимо, мальчиком из хорошей семьи – спокойный, разумный, всегда аккуратненький и чистенький, на все торжественные мероприятия мама одевала его в белоснежную рубашечку и галстук. Не пионерский галстук, а настоящий, как у взрослых мужчин. Он вообще, наверное, был хорошим мальчиком – Лобза Спартак, несмотря на то что его почему-то так странно назвали.
В то время как другие девочки ждали с карандашами Игоря или Спартака, я все еще надеялась, что судьба благосклонно подарит мне внимание Кости Сплендора. Но увы, увы… Подарок, молча и не глядя на меня, протянул мальчик по фамилии Ахметов, по имени, кажется, Саша. Я была разочарована.
А на втором уроке, сразу после перемены, я обнаружила под букварем, который лежал на парте, открытку. Открытка была двойная, открывающаяся, с тюльпанами на фасаде. Внутри – разлинована простым карандашом, и на ней аккуратно, большими круглыми буквами: «Дорогая Бредун!» (это не обзывалка, это моя девичья фамилия) и далее – поздравление с Женским днем, пожелание здоровья и успехов в учебе. Подписи не было, вместо нее, как и положено, стояла жирная чернильная клякса. Я огляделась. Через ряд от меня неприметный мальчик Володя Ружицкий сидел, втянув голову в плечи, и неотрывно смотрел вниз, под парту, словно там было что-то интересное, а не его собственные ноги в школьных ботинках.
«Дурак какой», – подумала я, вдруг сразу поняв, кто написал эту ужасную открытку.
Я ничего ему не сказала, да и вообще довольно быстро забыла об этом незначительном событии. А Костя мне скоро разонравился, кроме того, он подрался, и его тоже пересадили на «камчатку». Открытка же долго валялась в старых бумагах в пузатом бабушкином ридикюле. Иногда я натыкалась на нее, когда приезжала из Москвы и искала какие-то документы: то свое свидетельство о рождении, то мамино свидетельство о смерти…
Годы прошли, времена изменились, замелькали города и страны. Мы все выросли, у нас у каждого за плечами свой багаж, свои победы, свои воспоминания и надежды, и я не знаю, где сейчас Костя Сплендор, обогативший мой лексикон, и где аккуратненький, в галстучке Лобза Спартак, и Вова Ружицкий, и Саша Ахметов, и как сложились их судьбы, живы ли, здоровы или одиноки и несчастны. И та открытка с тюльпанами и надписью «Дорогая Бредун!» потерялась. А жаль. Это было первое и, возможно, самое искреннее и настоящее объяснение в любви, которое я когда-либо получала.
Александра Сулимина
Когда уходит детство
В 1978 году я училась в четвертом классе, когда умерла моя бабушка – отцовская мать. В тот год мы учились во вторую смену, родители были на работе, и я, оставшись без бабушкиной опеки, кое-как позавтракав, на весь день убегала на улицу гулять. Я боялась оставаться дома, потому что выросла в большой семье и больше всего боялась одиночества.
Не знаю, куда занесла бы меня «вольная жизнь», только за год я из круглой отличницы превратилась в твердую хорошистку с одной пятеркой по пению. Музыкального слуха у меня сроду не было, я просто тихо сидела и широко раскрывала рот, когда остальные в классе пели.
Ужаснувшись, мама перевела меня в среднюю школу № 618 города Зеленограда, где много лет работала учительницей.
Первого сентября мама тащила меня в школу, как деревенскую козу на веревке. Я брыкалась, плакала, но мама была непреклонна. Так я попала под ежедневный мамин надзор. Сначала мне нравился повышенный интерес со стороны одноклассников к моей скромной персоне. Еще бы – дочь учительницы и классного руководителя. Во времена моего детства пятиклассники еще уважали учителей, через год-другой это проходило, и начиналась неравная борьба: учителя – ученики. Конфликты с мамой автоматически ударяли по мне, становилось все тяжелее приходить в школу, и я находила любой предлог, чтобы остаться дома.
В шестом классе зимой среди года к нам пришла новая девочка. Мама меня заранее предупредила, что Маша – дочь нашей школьной учительницы по биологии. Я не знаю почему, но ждала ее прихода с затаенной надеждой.
Она вошла в класс – маленькая, пухленькая, с острым вздернутым носиком и конским хвостом из пшеничных волос. В руках у нее был набитый портфель из коричневой кожи. «Отличница», – с презрением бросил кто-то из мальчишек.
Машу посадили вместе с нашим толстяком-весельчаком Стасиком. Он целый урок старался, развлекал ее анекдотами, за что оба получили по колу от нашей русички. Правда, Машка потом мне рассказала, что ее это совсем не расстроило. Это был первый кол в ее жизни и первый мальчик, который обратил на нее внимание. Стасика с Машей сразу рассадили: ее – за мою парту, а его, в наказание, – к нашей отличнице Гавриковой.
Мы сразу же подружились с Машей, часами гуляли, ждали наших мам после уроков, просиживали в библиотеке и доверяли друг другу свои секреты.
В конце года на нашу школу выделили одну путевку в знаменитый «Орленок» на Черном море. Я догадываюсь, каких трудов маме стоило добиться этой путевки для меня. Радость моя омрачалась угрызениями совести: я знала, что моя подруга учится не хуже меня, но отказаться от путевки в ее пользу не хватило смелости. И, честно сказать, очень было жалко отказаться от давней мечты – побывать в «Артеке» или в «Орленке».
Одним словом, жарким июльским летом с такими же счастливчиками я сидела в плацкартном вагоне поезда Москва – Туапсе и с нетерпением ж дала приезда в лагерь. Этот был год московской Олимпиады. По Москве ходили слухи об ожидающихся терактах и об иностранцах, которые в жвачку добавляют толченые лезвия, чтобы отправить на тот свет как можно больше советских детей. Поэтому детей из Москвы в «Орленок» отправляли очень много.
За окнами уже показалось побережье, в вагоне было солнечно, все были в приподнятом настроении. Наша сопровождающая начала зачитывать списки: кого распределили в какую дружину. Тех, кто постарше, направляли в «Комсомольскую» и «Солнечную», остальных – в «Звездную» и «Стремительную». Я очень хотела попасть в «Звездную», так как с детства зачитывалась рассказами о космонавтах, биографию Циолковского знала почти наизусть и, чего уж скрывать, мечтала побывать в космосе. Но меня определили в «Стремительную». Я расстроилась, но промолчала. В вагоне большинство ребят было из районных пионерских штабов, в том числе из нашего района. В школе учителя всегда ставили нам их в пример, мы же их тихо ненавидели: они были заносчивыми, и дружить с ними никто не хотел.
Рядом со мной раздался громкий плач – девчонка из РПШ со смешными хвостиками, как будто сплетенными из тонкой проволоки, пыталась объяснить нашей сопровождающей, что она едет с подругой, а их почему-то записали в разные дружины. Женщина развела руками: «Все должно быть строго по спискам». Девчонка топнула ногой, сказала, что она не хочет в такой дурацкий лагерь, и заревела еще громче. Мое сердце дрогнуло. Я подошла к ней, тронула за плечо и сказала: «Меня тоже записали в “Стремительную”, если хочешь, будем там вместе». Она подняла на меня красные, заплаканные глаза и буркнула: «Ладно, давай».
Потом нас переодели в одинаковые мальчиковые семейные трусы в странных узорах и выдали синие детдомовские майки. Мы поплакали от стыда и унижения, но, самое главное, нам выдали орлятскую форму! У нашей дружины она была сама я простая: белые сорочки с коротким рукавом и шорты песочного цвета.
С новой подругой Викой мы сразу обежали весь лагерь. И – моя мечта! – в «Орленке» был целый корпус с космическими тренажерами и даже парашютная вышка! В числе первых мы записались в кружок космической медицины и с нетерпением стали ждать первого занятия.
Каждый день мы маршировали, готовились к лагерному смотру строя и песни. Мне нравилось ходить строем и петь хором орлятские песни, но я никому в этом не признавалась, потому что особым шиком считалось пойти в медпункт, настучать тыльной стороной ладони по термометру высокую температуру и освободиться от маршировки на несколько дней. Попасть в изолятор было много желающих.
В один из первых дней после приезда мы пошли купаться на море, и я попросила какую-то женщину, сидящую на берегу, подержать мои очки, чтобы их не затоптала наша дружная орлятская братия. Когда я вышла из моря, женщины на месте не оказалось. Сейчас, став взрослой, я бы за пять минут сообразила, что нужно делать, а тогда – одна, без родителей, в новом детском коллективе, – я просто заплакала и пошла в корпус. Остаться с сильной близорукостью без очков – это сильное испытание. Я ходила как во сне. Ребята в отряде все были глазастенькие и моих страданий не понимали. О чем думали вожатые, теперь уже не спросишь. На следующий день у нас был кросс по пересеченной местности. Мне повезло: упав, я сломала всего лишь одну правую руку.
Врачу в медпункте было лень везти меня на рентген: он заставил медсестру туго перебинтовать мне руку и посоветовал греть ее песком на пляже.
Моя новая подруга Вика ухаживала за мной, как мать родная: убирала кровать, первое время кормила меня с ложки, а потом у какой-то девочки из соседнего отряда выпросила для меня ее запасные очки. Они были сильнее, чем мне требовалось, но я видела! Жизнь вокруг меня снова приобрела цвета. Смена быстро пролетела, мне так и не удалось прыгнуть с парашютом, за что я до сих пор благодарна своей руке: сомневаюсь, чтобы после прыжка родители увидели меня живой.
Остаток лета прошел в мучениях – нравственных и физических. Рука срослась правильно, но была сине-черной и из прямого угла категорически не хотела выпрямляться. По вечерам папа приходил с работы, мама готовила соляной раствор, я размачивала в нем руку и пыталась ее разгибать. От боли текли в три ручья слезы, рядом стояли бледные родители и подбадривали меня рассказами об Алексее Маресьеве и генерале Карбышеве. Иногда ко мне приходила Вика, мы вспоминали «Орленок» и мечтали о встречах с орлятскими друзьями. Викины родители, решив, что я подходящая подруга для их дочери, перевели ее в мой класс. Я не знала, как сказать Машке, что у меня появилась еще одна подруга. О том, что можно дружить втроем, мне как-то в голову не приходило.
Наступило 1 сентября. В отутюженной форме, с новым портфелем я стояла у школы и ждала своих подруг. Первой пришла Вика: «Пошли, познакомишь меня с классом». Я отмахивалась: «Сначала надо Машу дождаться». Машка, как всегда, опаздывала. Нас уже начали строить по классам на линейку, и вот она – Машка. Я схватила ее за руку: «Знакомься, это моя орлятская подруга Вика».
Девчонки улыбнулись друг другу, и я поняла, что все получилось!
Скоро учителя стали нас называть «золотой троицей»: мы хорошо учились, участвовали в олимпиадах, школьных концертах. Но осенью у моей младшей сестры начались проблемы со здоровьем, и моей маме пришлось бросить работу. Бедные родители, сколько вечеров они провели, подсчитывая, как мы будем жить на одну отцовскую зарплату. Но мама набрала себе учеников и стала подрабатывать репетиторством.
Первое время после маминого ухода из школы я часто слышала в свой адрес: «Все, Сашечка, кончилось твое время, некому тебя теперь защищать». Я тайком плакала, но родителям ничего не рассказывала. Подружки меня защищали, как могли, но все равно мне было очень тяжело. Я вытянулась, ходила худая и бледная. Родители о чем-то шептались на кухне по вечерам. И перед окончанием третьей четверти папа торжественно объявил, что смог достать мне путевку в Анапу в санаторный пионерский лагерь. В то время этот детский оздоровительный комплекс представлял собой нечто среднее между «Артеком» и санаторием Четвертого управления. Попасть туда считалось большим счастьем. Но я после истории с рукой ненавидела всех врачей вместе взятых, к тому же у меня начала расти грудь, и я стала еще более стеснительной. Представив, что целую четверть буду почти на больничном режиме и мне придется каждый день видеть людей в белых халатах, я впала в состояние, близкое к истерике.
Родители стояли на своем: путевка куплена, мой бледный вид их пугает и к тому же в такой шикарный лагерь не каждый ребенок может попасть.
– Детство скоро закончится, – добавила мама, – пользуйся.
Помню, в аэропорту я выронила деньги; помню свой ужас от того, что на три месяца осталась без копейки, боязнь полета и мартовскую Анапу – солнечную и бесснежную.
Лагерь мне очень понравился, девчонки оказались из разных городов, я была одна москвичка в отряде. Дети были после тяжелых операций, много пережившие, в отличие от меня – домашнего ребенка с хроническим тонзиллитом, о котором я и не помнила.
Мы приехали вечером, было очень темно, и нас сразу отправили на медосмотр. Боже мой, я до сих пор помню свой страх и ужас! Нас, толпу полуголых девчонок, загнали в большую комнату. За столом сидели врачи и среди них – симпатичный молодой мужчина. Он поднял глаза и назвал мою фамилию. И я начала рыдать, потому что до этого ни один мужчина не видел меня раздетой. Какая-то молоденькая женщина-врач подошла к доктору, что-то прошептала ему на ухо и отвела меня к своему столу.
– Ты не переживай, он же врач. Он будет твоим лечащим доктором. – Она вытерла мне слезы, что-то записала в карте и отпустила одеваться.
Доктор оказался веселым, много знающим. Процедурами он меня не напрягал: лечить-то было особенно нечего. Видела я его редко, но через несколько дней поняла, что… влюбилась.
Интересно, помнит ли он меня – нескладную тощую девчонку в очках в страшной черной оправе, которая смотрела на него влюбленными глазами, – этот врач из далекой Анапы?
Каждое утро он начинал с пробежки по пляжу. Я и не помню сейчас, как он предложил нам, его пациентам, совместные пробежки. Начали мы лихо, по пляжу за ним бежала колонна из двадцати пяти человек, только к концу недели с ним стала бегать я одна. Знала бы моя школьная физкультурница Елена Викторовна, что я по своей воле каждый день – сама! без будильника! – просыпалась в шесть часов на пробежку! Я, которая была готова ломать руки-ноги, чтобы получить долгожданное освобождение от физкультуры. Меня не интересовали концерты, пионерские костры, купание в бассейне, экскурсии и походы в кино. Я с маниакальной надеждой ждала каждого утра, чтобы встретиться с ним.
В один из дней он прибежал на пляж с маленькой девочкой лет пяти. Это оказалась его дочь. В глазах у меня потемнело, и я с трудом дождалась окончания пробежки. Вернувшись в палату, я прорыдала все утро. Кое-как девчонки выпытали у меня, что случилось. Запинаясь и всхлипывая, я им все рассказала. Я ожидала, что они будут смеяться надо мной, но когда подняла глаза, то увидела на их лицах уважение и… зависть. Я – очкастая тихоня, отличница, влюбилась во взрослого мужчину, врача, и он со мной разговаривает как с равной.
На следующий день я проснулась в шесть часов и лежала в постели, с тоской глядя в потолок. Я представляла, как он выходит из корпуса, ищет меня и убегает, не дождавшись. «Хватит с меня занятий спортом», – мрачно думала я. Вдруг тихонько приоткрылась дверь, и тонкий голосок его дочки спросил: «Тетя Саша, ты чего не идешь? Мы же ждем». Я мигом вскочила, кое-как натянула спортивный костюм и выбежала на крыльцо. Он стоял и улыбался:
– Саш, давай бегать, а?
В тот день мы не бегали, а гуляли вдоль берега. Он держал дочку за руку и рассказывал мне, как учился в школе, как поступил в институт, о том, как встретил свою жену и полюбил ее. Я, тринадцатилетняя девчонка, шла рядом, мне было приятно, что он так доверяет мне, и было горько от того, что я еще ребенок.
Пришел день отъезда. Я проснулась на рассвете, вышла на балкон и долго плакала, понимая, что мы больше никогда не увидимся. В шесть утра, как обычно, я вышла на улицу в спортивном костюме. Он стоял немного задумчивый, один.
– Пошли немного пройдемся: я ногу подвернул вчера, не могу бегать, – предложил доктор.
Я улыбнулась. Шел он ровно и даже не прихрамывал. Мы пришли на берег, сели на теплые скамейки.
– Саша, ты умная девочка, у тебя все будет хорошо. Ты скоро вырастешь, станешь красивой и найдешь своего человека. Не грусти.
Улыбнулся, встал и ушел.
Так в далекой Анапе закончилось мое детство.
Лусине Кандилджян
Зимние цветы
Я училась в простой ереванской школе в начале восьмидесятых. А он сидел за одной партой с Армине. Она была чем-то на меня похожа – такая же голубоглазая, только, в отличие от меня, вечно улыбалась. С ней он был таким хорошим мальчиком. Я ей даже завидовала. А ко мне приставал на каждой переменке: дергал за волосы, дурашливо лез с кулаками. Наконец эта игра в кошки-мышки мне надоела. Как-то я ухватила его за сорочку и начала трясти так, что от нее отлетели пуговицы. В тот же день он пожаловался своей маме, которая, встретив меня после школы, начала отчитывать:
– Ты почему оторвала пуговицы? Разве девочки так поступают?
Я молчала, не оправдывалась. Как же я его тогда ненавидела! Разве жаловаться маме достойно? И, уж конечно, не по-мужски.
Через пару лет его перевели в другую школу, где изучали английский, а наша была с французским уклоном. Сама не знаю почему, мне было грустно оттого, что он уходит. После этого он иногда приходил навестить нас, бывших одноклассников.
Вскоре наступил тысяча девятьсот восемьдесят восьмой год. Мне тогда исполнилось шестнадцать.
– Папа, ты не поверишь, – возбужденно вбежала в дом из сада моя младшая сестра. – Представляешь, наша вишня зацвела! Второй раз за год. Может, у нас и вишенки будут?
– Вряд ли, – покачал головой папа. – Цветущая вишня в декабре – это, по крайней мере, очень странно. Природные аномалии не к добру.
И действительно: это были всего лишь «цветочки», а «ягодки» не заставили себя долго ждать.
С тех пор прошло ровно двадцать пять лет, но каждый из нас в деталях может вспомнить события того дня.
Я училась в девятом классе. Наша старая школа стояла на возвышенности. Каждый раз, когда внизу мимо проезжал трамвай, стекла школы дребезжали. В тот день у нас был урок русского языка. Мы писали диктант. Вдруг моя ручка стала приплясывать, и, как я ни старалась дописать предложение, не смогла: только замарала тетрадь. В классе поднялся шумок. Все посмотрели на Оганеса, сидящего в среднем ряду. Тот имел привычку притоптывать ногами по полу, а так как он был парень тучный, то обычно парты рядом дрожали. Но на этот раз у него самого был ошарашенный вид.
– Я тут ни при чем, – стал он оправдываться, заметив направленные в его сторону косые взгляды.
Убедившись, что это не Оганес, все посмотрели на учительницу. Стелла Татуловна с ужасом следила за школьной доской, которая то и дело отрывалась от стены и со стуком снова ударялась о нее. Через окно было видно, как высокие тополя нагибались до земли, и все это сопровождалось каким-то гулом.
Взяв себя в руки, Стелла Татуловна призвала нас к порядку. А поскольку она была для нас непререкаемым авторитетом, мы быстро снова взялись за ручки.
Из коридора было слышно, как ученики с верхнего этажа, толкаясь, спускаются по лестнице. Вдруг приоткрылась дверь и показалась голова директора школы. Она удивленно посмотрела на нас и проговорила:
– Ну что, сидите? Ну, хорошо, сидите, сидите.
А сама вместе с другими поспешила покинуть здание. Мы со второго этажа недоуменно наблюдали, как на школьном дворе собралась целая толпа из учеников и учителей. Только на следующий день, когда стали известны масштабы землетрясения, за считаные минуты унесшего жизни более двадцати пяти тысяч человек, Стелла Татуловна, пряча за иронией запоздалый страх, скажет:
– Представляете, как шикарно мы могли провалиться?..
Когда я вернулась домой, зазвонил телефон. Это был его голос:
– Как ты? У вас все в порядке? Ереван разрушен?
Он звонил из Ленинакана. Там жил его дед, и накануне они с родителями поехали его навестить. Ленинакан был вторым по величине городом Армении. Был… А теперь лежал в руинах.
Я заверила его, что у нас все в порядке.
Связь оборвалась. Удивительно, что он вообще смог дозвониться из этого ада.
Я все не решалась отпустить трубку, надеясь на что-то, и думала о несчастных людях, застигнутых стихией врасплох. Еще долго люди будут искать и извлекать из-под обломков тела своих родных. Многие из выживших навсегда останутся инвалидами.
И в такой трагический день мне было очень стыдно за свое маленькое счастье.
– Он жив!
Ирина Семенова
Две шариковые ручки
Класс у нас был с математическим уклоном. Как туда умудрился попасть чистейшей воды гуманитарий – не спрашивайте, это долгая и печальная история, поэтому будем считать, что так распорядились звезды. Спорить с ними я не рискнула, за что и расплачивалась горькими слезами на протяжении всех оставшихся до выпуска лет: выражение «грызть гранит науки» мне довелось прочувствовать на собственной шкуре целиком и полностью. Хорошо хоть, не все зубы об этот гранит сточила, кое-что к моменту окончания школы еще оставалось…
Другое известное выражение – «мыши плакали и кололись, но все-таки продолжали жрать кактус» – как нельзя лучше описывает мои горестные школьные будни, заполненные теоремами Пифагора, матрицами и нескончаемыми задачами повышенной сложности. Впрочем, даже среди этого беспросветного математического мрака иногда пробивался лучик света. Точнее, целых два. Назывались они «русский язык» и «литература».
Первое полугодие пятого класса я делила парту с Алексеем – серьезным, вдумчивым товарищем. Отношения у нас были деловыми и взаимовыгодными: Алексей частенько помогал мне с контрольными по ненавистным алгебре и геометрии, я же в свою очередь проверяла его домашку по русскому и выручала во время диктантов, сочинений и изложений.
В общем-то мы с Алексеем были вполне довольны и жизнью, и друг другом, поэтому, когда после зимних каникул учительнице по русскому вдруг взбрело в голову всех в классе пересадить, для нас обоих это стало ударом.
Теперь я делила парту с Димой. В качестве соседа он был приобретением незавидным: кое-как перебивался с троек на четверки, постоянно вертелся, то и дело отпускал идиотские шуточки, а под настроение мог даже какую-нибудь пакость учинить.
Сначала я просто молча скрипела в сторону Димы зубами. Меня раздражало его раздолбайское отношение к жизни в целом и к учебе в частности. Но, как говорится, от ненависти до любви один шаг, и довольно скоро мне довелось испытать это на себе.
У Димы с русским языком – в смысле как со школьным предметом – дела, мягко говоря, обстояли не очень. Зато у него был папа, регулярно катавшийся по загранкомандировкам. Из них он постоянно привозил Диме какое-нибудь очередное диво дивное, чудо чудное: то модный рюкзак с непонятной, но очень крутой эмблемой, то спортивный костюм, переливающийся всеми цветами радуги…
Здесь следует пояснить, что речь идет о временах перестройки и жесткого дефицита, когда прилавки магазинов пустовали. Необходимый школьный инвентарь при случае покупался впрок – вдруг в ближайшее время завоза больше не будет… В шкафах пылились горы разноцветного картона, а на антресолях – рулоны миллиметровой бумаги, заблаговременно припасенные заботливыми родителями «на будущее», для еще одного кошмарного предмета под названием «черчение».
Лучше всего положение дел в то время передает наш разговор с одноклассницей Катей. Как-то раз, подойдя во время перемены к моей парте, она взяла в руки лежащую на парте красную ручку, поднесла к глазам, присмотрелась оценивающе, озабоченно поцокала языком… Потом спросила:
– У тебя сколько еще красных стержней осталось?
– Ну, где-то два-три… – ответила я, немного подумав.
– Беда, – вздохнула Катя, осторожно, словно стеклянную, возвращая ручку на место. – Этого не хватит до конца школы…
И вот аккурат на следующий день после этого трагического диалога Дима притащил в класс очередной отцовский заграничный презент – набор цветных ручек. Двенадцать – вы только представьте себе, двенадцать! – цветов.
Разумеется, ахнули все. Даже те, кто до сей поры делал вид, что ему начхать и на модный рюкзак с непонятной эмблемой, и на переливающийся спортивный костюм. Все сгрудились вокруг парты и по очереди аккуратно пробовали каждую ручку на гордо разложенной Димой бумажке.
Мы настолько увлеклись этим занятием, что не заметили, как прозвенел звонок, и в класс вошла учительница.
– Добрый день! – бодро сказала она. – Ну что, я надеюсь, все помнят, что сегодня у нас диктант?
– Ууу… – Из разочарованного вздоха, прокатившегося по классу, становилось ясно, что помнили-то о диктанте все, вот только от души надеялись, что сама учительница благополучно о нем забудет.
– В таком случае достаем двойные листочки и подписываем их, – невозмутимо продолжала учительница. По классу снова прокатился тяжелый вздох, все расселись по местам, и экзекуция началась.
Совершенно не помню, о чем в тот раз был диктант. Зато отлично помню, как после одного достаточно сложного предложения учительница склонилась над моим листочком и одобрительно кивнула. Сие обстоятельство не укрылось от зоркого Диминого взгляда, и он тут же внес аналогичное исправление в собственный труд.
– Ну, месье Дмитрий у нас, разумеется, тут как тут, – с усмешкой прокомментировала это учительница. – На ходу подметки рвет, не теряется.