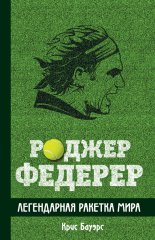Сонька. Конец легенды Мережко Виктор

Табба поправила перед зеркалом парик, спустила волосы так, чтобы они как можно плотнее закрывали шрам на лице, одернула платье, после чего допила из фужера вино и направилась в спальню.
Из прикроватной тумбочки достала завернутый в носовой платок револьвер, довольно умело проверила наличие патронов в обойме, сунула его в сумочку, снова посмотрела на себя в зеркало.
Улыбнулась, хмельно подмигнула.
— Вперед!
Вышла из квартиры, заперла на ключ дверь, спустилась, остановила на улице извозчика, приказала:
— К ювелирному на Мойке!
Ювелирный магазин на Мойке располагался на первом этаже дома и был известен в Петербурге как место, где можно было купить довольно дорогие, зато гарантированные украшения для дам и господ.
Табба сидела в пролетке, внимательно наблюдая за входящими и выходящими из салона редкими и очень состоятельными господами и дамами, ждала подходящего момента.
— Жди! — распорядилась извозчику, приоткрыла сумочку, проверила наличие в ней револьвера, ступила на подножку и сошла на тротуар.
Легко и непринужденно поправила прическу, кивнула швейцару при входе, вошла внутрь.
Салон был небольшой, по-домашнему уютный — кресла, диванчики, столики для выбора украшений и, конечно, изящные, красного дерева, бюро с изделиями.
Бессмертная бегло осмотрела зал, обратила внимание, что здесь всего двое обслуживающих — немолодой приказчик и хозяин «ювелирки» Исаак Шмулькин.
Приказчик немедленно пошел навстречу гостье, изогнулся едва ли не до пола.
— Милости просим, сударыня. В салоне клиентов нет, поэтому вам будет уделено самое пристальное внимание.
— Благодарю, — бросила женщина и направилась к одному из диванчиков. — Покажите несколько колье и пару пристойных перстней.
— У нас, мадам, нет непристойных перстней, — заметил из-за своей конторки Исаак Шмулькин. — К нам приходят самые уважаемые господа и всегда покидают салон довольные и благодарные!
— Надеюсь, я также покину его с подобным ощущением, — заметила Табба, начиная рассматривать принесенные приказчиком украшения.
— На какую сумму госпожа рассчитывает приобрести товар? — деликатно поинтересовался приказчик.
— Я обязана отчитываться перед вами? — взглянула на него покупательница.
— Фима, оставь даму в покое, — подал снова голос Шмулькин. — У нее сегодня дурное настроение!
— Вас, сударыня, кто-то сегодня обидел? — поинтересовался вежливо приказчик.
— Вы не слышали, что вам посоветовал хозяин?
— Простите.
Табба не спеша и с пониманием выбрала два дорогих колье и два перстня, кивнула Фиме.
— Подсчитайте.
Тот отнес их в стол начальника, ловко побросал костяшками счетов, объявил:
— Триста шестьдесят три рубля, сударыня!
— Вы не ошиблись?
— Могу пересчитать еще раз! — Приказчик снова пощелкал на счетах. — Нет, ровно триста шестьдесят три рубля! — И посмотрел на покупательницу.
— Деньги платят здесь, — произнес из-за конторки Шмулькин.
Бывшая прима неторопливо поднялась, так же не спеша открыла сумочку, достала револьвер, наставила на Шмулькина.
— Откройте кассу, сударь.
— Вы шутите, мадам? — почему-то без испуга удивился тот.
— Шутят в бане, когда заканчивается горячая вода! — ответила девушка и повторила: — Кассу!
Исаак медленно повернул голову в сторону замершего и бледного Фимы, тихо произнес:
— Беги за городовым, Фима!
Тот сделал неуверенный шаг, и в тот же момент Табба нажала на спусковой крючок. Раздался негромкий хлопок, приказчик присел на пол, держась за окровавленное колено.
— Боже, что это?
— Кассу! — на лице девушки была хмельная и спокойная усмешка.
— Даниил! — заорал вдруг Исаак в сторону двери. — Здесь убивают!
В тот же момент в салон протиснулся швейцар, но произнести ничего не успел — Табба в него выстрелила.
— Кассу, сказала!.. Все деньги сюда!
Шмулькин беспомощно посмотрел на лежащего неподвижно Даниила и затем едва слышно попросил:
— Не убивайте, мадемуазель… Пожалейте. У меня трое детей.
— Деньги и изделия в сумку! Быстро!
Хозяин выгреб из ящичков кассы всю выручку, сунул ее в приоткрытую сумку Таббы, затем точно так же поступил с выбранными ею украшениями.
В салоне стоял легкий дым от выстрелов.
Бессмертная спиной стала отступать к двери. В какой-то момент она вдруг увидела, что Шмулькин метнулся к телефону, и немедленно выстрелила в него несколько раз.
Ювелир рухнул на пол.
Табба захлопнула сумку, окинула быстрым взглядом помещение, остановилась на насмерть перепуганном приказчике, приложила палец к губам.
— Не вздумай орать!
Спокойно вернулась к пролетке, уселась, бросила извозчику:
— На Сенную!
Катенька и извозчик Антон покинули Таврический сад. Девушка держала в руках надувной шарик, парень нес целую вязанку свежих баранок.
— Меня госпожа заругает, — сказала Катенька Антону. — Наверное, с ума сходит.
— Ничего, — утешил ее он. — Мы через пять минут будем на месте!
— Все равно нехорошо. Я первый раз так задерживаюсь.
— Потому как первый раз встретила кавалера!
Извозчик помог девушке сесть в пролетку, забрался на облучок, ударил по лошади.
— Пошла, родимая!.. Застоялась, небось!
…Катенька с шариком и с баранками поднялась на свой этаж, нажала кнопку звонка.
Дверь открыла Табба — спокойная и тяжелая.
— Где болталась?
— Это вам, — протянула прислуга ей шарик.
— Что это?
— Шарик. Мне подарили.
— Кто? Граф?
— Нет, графа я не видела.
— А конверт?
— Передала.
— Кому?
— Графу.
— Какому графу?
— Петру Георгиевичу.
— Минуточку, — Табба недоуменно смотрела на служанку. — А шарик и прочую дребедень, — кивнула на баранки, — тоже Петр Георгиевич подарил?
— Нет, это подарил Антон.
— Какой такой Антон?
— Мой знакомый.
— А конверт?
— Сказала же, Константина дома не было и я передала через брата.
Глаза бывшей примы наливались гневом.
— А я тебе как велела?
— Велели по-другому.
— И ты передала через Петра?
— Да. Он буквально вынудил меня.
И тут Табба ударила ее — сильно, по лицу, со всего размаха.
Катенька от удара и неожиданности упала на пол, но Бессмертная не остановилась, принялась избивать ее ногами.
— Сука… Тварь… Паскуда! Ты понимаешь, что наделала? Нет, ты понимаешь?
Девушка плакала, скулила, закрывала лицо и все просила:
— Госпожа, не надо. Больно… Простите меня.
Табба, остервенев окончательно, продолжала избивать.
…На следующий день, когда бывшая прима еще спала, в спальню вошла Катенька, одетая не по-домашнему, в суконное платье, с котомкой в руке. Лицо ее было синим от вчерашних ударов.
— Чего тебе? — недовольно и болезненно спросила бывшая прима. — Подай воды.
Девушка послушно пошла на кухню, из-под крана набрала в чашку воды, вернулась к хозяйке.
Та выпила, несколько удивленно спросила:
— Куда собралась?
— Я ухожу.
— Куда?
— Вообще ухожу. Я не буду больше у вас.
— С ума сошла?
— Нет, просто устала. Больше не хочу.
Артистка села, недовольно бросила:
— Обиделась, что ли?
— Нет. Наверное, заслужила.
— Хватит дурку гнать! — отмахнулась Табба. — Раздевайся и готовь мне кофий.
— Нет, госпожа. Пусть вам кофий готовит кто-то другой.
Катенька развернулась и покинула спальню.
— Эй, стой! — крикнула Бессмертная. Сползла с постели, догнала Катеньку у самой двери, схватила за рукав. — Не смей никуда уходить! Я запрещаю!
— Не остановите, все одно уйду, — Катенька отцепила руку хозяйки от одежды. — Я, госпожа, решила, — и низко поклонилась. — Храни вас Господь.
Дверь закрылась, Табба какое-то время стояла в ошеломлении, смотрела перед собой, затем вдруг сжала кулаки, закричала:
— Ну и пошла!.. Пошла, сказала! Плевать! Будьте вы все прокляты! Ненавижу!.. Ненавижу! — Опустилась и стала плакать — громко, неутешно, царапая ногтями грязный неухоженный пол.
Удобство каюты в носовой части парохода было очевидным — из нее имелся узкий выход на крохотную смотровую площадку, на которой можно было подышать свежим ветром. Ну и кроме того, она была по размеру больше прежней, хотя действительно завалена всяким хламом и отжившими свой срок механизмами.
Над морем простиралась плотная южная ночь, пересыпанная яркими звездами. Было довольно тепло, пароход шел быстро и ровно, словно вторгаясь во что-то бесконечное, черное и пугающее.
Михелина в каюте спала. Сонька и Михель сидели рядом на носовой площадке, разговаривали вроде спокойно, но с каким-то отчуждением и напряжением.
— Я вот думаю, — произнес Михель, — сойдем на берег и как будем жить?
— Дай бог до него добраться, — неприязненно ответила Сонька.
— Доберемся. И что?
— Не знаю. И не хочу загадывать.
— Опять воровать? Искать, где зашибить копейку?
— Тогда нужно было не драпать, а оставаться на Сахалине!
— А там чего?
— Жить.
— Как?
Воровка зло посмотрела на мужа.
— Тебе больше не о чем лопотать?
— Не о чем.
— Не о чем — молчи!
Михель помолчал, качнул головой.
— Злая ты стала, чужая.
— Зато ты добрый и свой! — огрызнулась Сонька.
— Соня, — он попытался обнять ее, — ты правда злая. Неужели все ушло?
Она резко развернулась к нему.
— Ушло! Разлетелось, растрепалось по тем вагонам, где шмонали пьяных и трезвых! По гостиницам, где швыряли деньги и чистили всех подряд! По каторгам, после которых ничего не осталось — только злость, ненависть и страх! Думаешь, всего этого мало, чтоб теперь не сойти с ума или не сунуть башку в петлю?!
Михель помрачнел.
— Считаешь, я в этом виноват?
— Оба! Но в первую очередь — ты! Потому что ты мужчина! Должен был остановить меня, запретить, убить, лишь бы не лезла в эту страшную бездну! Ты это сделал?
— А ты что сделала, чтобы я не оказался на каторге? Вспомни, по чьей воле я пошел в дом генеральши и убил там человека!
— По-твоему, я виновата, что ты замочил бабку?!
— А кто же еще? Ты уже была беременна Михелиной, и надо было думать о ребенке. Но тебе все было мало! Я не хотел!.. Вспомни!.. Ты послала меня к генеральше!
Сонька вцепилась в лацканы куртки Михеля, притянула его к себе. Глаза ее были бешеными, горящими.
— Ненавижу… Слышишь, презираю! Не прощу не только за эти слова, но и за то, что у меня нет больше жизни.
— Ты тоже запомни, — прохрипел в ответ муж. — Запомни эти слова и всю нелюбовь ко мне! Я этого тоже не прощу, Соня.
В это время послышались шаги, Сонька оттолкнула от себя Михеля, поправила волосы, глубоко выдохнула:
— Давай потерпим друг друга до Одессы. Хотя бы ради дочки.
В проеме появилась голова Михелины, она улыбнулась матери и отцу.
— Это вы кричали? Так громко, что я проснулась. — Обняла Соньку за плечи, нагнулась к ней. — Чего вы здесь?
— Беседуем, — сухо ответила та.
— А мне приснился сон. — Миха попробовала примоститься рядом, но места не хватило, и она осталась стоять. — Знаете, что приснилось?.. Будто Табба и мой Никита идут по полю и держат друг друга за руки. А поле все в васильках. Они такие радостные и влюбленные, что я не выдержала и стала плакать. А они оглянулись, помахали мне и неожиданно свалились в глубокую черную яму. Я испугалась, стала страшно кричать, а они все летят и что-то тоже кричат. А что кричат, не могу разобрать. Стала плакать и проснулась. Сонь, к чему это?
Та подумала, пожала плечами.
— Когда человек во сне падает в яму, значит, он не до конца конченый. Страшнее, если он свалится в дерьмо в жизни, уж тут точно хорошего не жди. Черта с два из этой ямы выберешься, — Сонька повернула голову к Михелю. — Верно, муж?
Он усмехнулся, кивнул.
— Будем выбираться.
Михелина посмотрела по очереди на отца и мать.
— Вы поругались?
— Наоборот, — улыбнулся Михель. — Мы наконец поняли друг друга.
— Серьезно? — улыбнулась девушка. — Вы опять любите друг друга?
— Почти, — кивнула та. — Только куда со всем этим деваться, пока непонятно.
— С чем? — удивилась дочка.
— С любовью.
— Не поняла.
— Поймешь, — кивнула Сонька. — Встретишь князя Андрея, вернется твой поручик, и тогда многое поймешь.
Был день. Солнце висело над горизонтом низко и неподвижно, согревая вялыми лучами промерзшую землю.
Гончаров лежал на кровати не раздевшись, читал томик стихов Лермонтова, когда в дверь решительно постучали.
Поручик сбросил ноги на пол, крикнул:
— Войдите!
В комнату вошли двое — малого роста жандармский офицер и грузный господин в форме следователя полицейского управления.
Жандарм представился:
— Штабс-ротмистр жандармского управления Савельев!
— Здравия желаю, господин штабс-ротмистр, — Никита Глебович протянул офицеру руку, но тот ее не принял. Это смутило поручика, тем не менее он овладел собой. — Чем обязан, господа?
— Имеем предписание Управления полиции города Александровска-на-Сахалине о проведении следственного допроса вашей милости, — не без сарказма произнес следователь.
— Простите, вы не представились.
— Старший следователь Управления полиции Гунько.
— Прошу располагаться, — кивнул Гончаров на имеющиеся стулья.
Визитеры расселись, следователь открыл папку, прочитал:
— Вы, господин поручик, подозреваетесь по двум позициям. Первое — о способствовании бегству каторжан Блювштейна Михаила Изиковича, а также Блювштейн Софьи Соломоновны и их дочери Блювштейн Михелины Михайловны. — Следователь строго взглянул на поручика. — И второе… Расследуется дело о гибели каторжанина Овечкина Луки Ивановича, а также надсмотрщика Евдокимова Кузьмы Федоровича, последовавшей двадцать третьего марта сего года. — Гунько прикрыл папку, внимательно посмотрел на Гончарова. — Что скажете?
Гончаров помолчал, осмысливая услышанное, затем поинтересовался:
— На бумагу можно взглянуть?
— Прошу.
Никита Глебович пробежал глазами постановление, снова спросил:
— С чего начинать?
— С чего вам сподручнее.
— С чего сподручнее?.. Сподручнее всего мне немедленно выставить вас за дверь и таким образом закончить любое дознание.
Жандарм усмехнулся.
— Мы предполагали ваш нрав, и по этой причине нас сопровождают несколько жандармов.
— Я тоже предполагал это, — усмехнулся Никита Глебович. — По этой причине вынужден отвечать, — он перевел взгляд с жандарма на следователя. — По первой позиции… Каторжанам в бегстве содействия не оказывал, хотя за сам факт готов нести служебное наказание, вплоть до лишения офицерского звания.
— Но, по нашим сведениям, вы имели совершенно очевидные отношения со всеми тремя каторжанами. А с мадемуазель Михелиной Михайловной Блювштейн — интимные.
— Это по вашим сведениям, господин следователь. Я же, как офицер и дворянин, считаю свою честь незапятнанной, в связи с чем больше вопросов на данную тему воспринимать не готов.
— Следствие имеет право…
— Следствие имеет право, — прервал следователя Гончаров, — допрашивать меня самым пристрастным образом, если мне будет предъявлено конкретное обвинение! Пока же, господа, идет процедура дознания! Или вы соблюдаете юридические нормы, или я попрошу вас покинуть помещение!
Штаб-ротмистр и старший следователь переглянулись, и жандарм с усмешкой заметил:
— Вы, господин поручик, усугубляете свое положение. Мы ведь рассчитываем на ваше слово чести, данное государю при вступлении на воинскую службу.
— Государю, но не вам.
— Хорошо, — кивнул Гунько, — что скажете по второму пункту? О надзирателе Евдокимове и ссыльном поселенце Овечкине.
— Здесь все еще проще, — улыбнулся Гончаров. — Надзиратель Евдокимов и ссыльный поселенец Лука Овечкин состояли в сговоре, в результате чего был совершен спланированный побег. Я вынужден был пустить за ними по следу надзирателей с собаками, беглецы не восприняли приказа сдаться и были в итоге загрызены теми самыми псами.
— Но ведь надзиратель Евдокимов был едва ли не личным вашим охранником! — заметил жандарм.
— Надзиратель Евдокимов до меня также служил при бывшем коменданте поселка, и я получил его, что называется, в наследство. Поэтому мне сложно было понять, что у него в голове и к чему он готовился.
— Есть сведения, что Евдокимов был едва ли не вашим осведомителем и вы часто пользовались его услугами, — вмешался Гунько.
— Вы женаты, господин следователь? — перебил его поручик.
— Безусловно. А в чем вопрос?
— Жена часто рассказывает вам перед сном всякие байки?