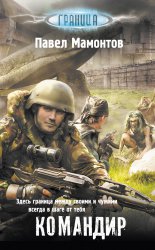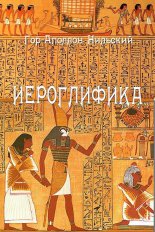Давай попробуем вместе Гайворонская Елена
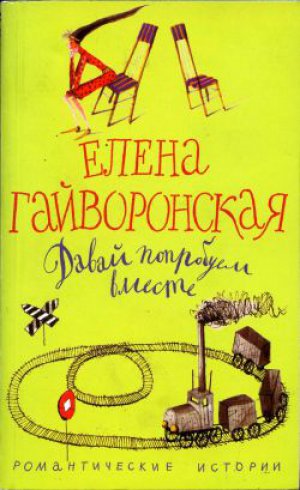
Я предложил Галине Григорьевне поужинать. Она* поджала губы и сказала, что ей для этого не нужно ничье приглашение. С этим было трудно поспорить. Затем женщина встала, бросив на прощание:
– Поди, и ваши родители не в восторге…
Я снова не стал ни возражать, ни соглашаться. Это не касалось никого, кроме меня.
Когда она ушла, Вера попросила не обращать внимания. Для мамы она всегда была и останется неудачницей. Так уж повелось. С детства. Когда обнаружилось, что для балетного кружка она полновата, для музыкального не имеет слуха, отставала по математике, физике и английскому, всегда была слишком тиха и застенчива и, конечно, выбирала не сама, а шла за тем, кто выбрал ее…
– Славик?
– Ну да… Он был таким рубахой-парнем, плейбоем, душой компании. Веселым, красивым. Все девчонки были от него без ума. А он почему-то выбрал меня. Я тогда даже растерялась: почему? Но все вокруг не переставали твердить, как мне повезло, какая я счастливая… Даже мама. И я поверила, что это правда…
Я откинулся на спинку стула, коротко рассмеялся.
– Ты чего? – удивленно спросила она, под-кладывая мне котлету.
– Иллюзия свободы выбора. У меня было то же самое. Только без балета.
Она оставила свои ножи и сковородки и приблизилась ко мне. От ее халатика пахло весенней свежестью. И лепестки на нем колыхались и казались живыми.
– Зачем ты сказал маме, что хочешь на мне жениться? – Ее теплые руки парой чаек вспорхнули на мои плечи.
– Я сказал, что хочу, чтобы ты вышла за меня замуж. Чувствуешь разницу? Вот только…
– Что?
– Что скажет твоя мама… – поддразниваю, легонько хлопнув по мягкой округлой выпуклости, что находится сзади.
– По-моему, главное, что скажу я… – шепчет Вера, обжигая меня дыханием.
– Ну и каков приговор?
– Я была бы счастлива. По-настоящему. Впервые в жизни. Только…
– Никаких «только»… – Я справляюсь с безжалостным шелком ее белья, отделяющим мое пульсирующее нетерпенье от дразнящей мягкой податливой упругости, ^сладострастной бездны, огненной и влажной…
5
Они приходят один за другим, мои друзья. Наши встречи все реже, и эта жизнь у каждого своя, а о той, что однажды связала нас воедино, стараемся не вспоминать. Мне просто важно знать, что они есть, мои фронтовые товарищи, мои настоящие друзья…
Первым – Денис. Уже слегка «заквашенный». Похудевший, ссутулившийся. Его блестящие янтарные глаза кажутся марсиански странными на бледном впалом лице. Прежде чем войти, он долго тщательно вытирает ноги, прячет вязаную шапочку в карман потертой кожанки, сохранившейся еще с его таксистских времен. Протягивает две бутылки «Столичной». Банку домашних солений. И желтую пластмассовую машинку с черными шашечками по бокам – такси: «Ребенку». На вопрос «Как дела?» отвечает нарочито бодро. Но в уголках обветренных губ пролегли невидимые прежде угрюмые морщинки. И взгляд растерянный, ищущий, как у заблудившегося пса. Работает все там же – диспетчером в таксопарке. Но скоро очередная медкомиссия, может быть, пустят за руль. Голова уже почти не кружится.
Машина… Он говорит о ней, как о любимой женщине, с которой его разлучили. Дорога… Суматошное, бурлящее, прокопченное шоссе… Больше чем просто работа, неровная, ухабистая, сотни раз обруганная трасса – жизнь. Жизнь в ее перпетуум-мобиле, в упорядоченной смене картинок и времен года на экране лобового стекла, в байках попутчиков, которые появлялись и исчезали, а дорога оставалась как символ постоянства и перемен. Его дед был водителем, и отец тоже… И он, Денис, с детских лет мечтал быть не космонавтом, не разведчиком или артистом – шофером… А вот теперь… сидит на телефоне, как списанная на пенсию старуха. Впрочем, он остался жить и даже не потерял руку, как Макс. Как он может жаловаться…
Я говорю, что иногда можно. И перевожу разговор на другое. Как Любаша, здорова? Снова натянутая улыбка. Работает… Похоже, и эта тема нынче не из приятных. Как скоро все меняется… И к худшему почему-то гораздо быстрее.
Умолкнув, Денис снова шарит глазами по сторонам, будто в поисках ускользающего равновесия. Сквозящий взгляд падает на Мишкино фото в деревянной рамочке. Спохватившись, я спрашиваю о дочке. И наконец он оживляется, глаза теплеют, горько поджатые губы распускаются в радостной улыбке. Он бежит в коридор, вытаскивает из внутреннего кармана куртки пачку цветных снимков, бережно упакованных в пластиковую книжицу. Раскладывает по столу глянцевый пасьянс. Машке полтора. Вот она с мамой, папой, бабушками, дедушками, тетями и дядями, куклой Дашей и любимым плюшевым зайкой. Он подробно рассказывает о каждой фотографии, вспоминая кучу мелочей: «Вот тут она хмурилась, а я строил рожи, и она, наконец, улыбнулась… А здесь пролила чай на платье, видишь, какой озадаченный вид…» Денис рассказывает и сам радостно смеется. Сейчас он почти прежний, с развернутыми плечами, с оживленным блеском в янтарных глазах. Только руки заметно подрагивают…
За окном раздается скрежет тормозов. Денис вздрагивает, будто очнувшись от сладкого сна, вытягивает шею. В глазах вновь неизбывная тоска. По асфальтовому пятачку в неумелой попытке припарковаться бестолково елозит старенькая «пятерка». За стеклом торчит сосредоточенный ежик Огурца.
Денис сметает фотографии в стопку. Несколько снимков шаловливо вылетают из его дрожащих рук и весело кружат по комнате, яркими бабочками опускаясь на полустертые цветы ковра. Он суетливо нагибается, поднимает одну, вторую и вдруг, закрыв лицо руками, неуверенно качнувшись, оседает вниз, пробормотав: «Проклятие…»
– Что, голова?
– Черт бы ее подрал, – цедит сквозь зубы Денис.
Я быстро собираю пестрый листопад, аккуратно укладываю обратно в книжицу. Подаю Денису руку, но он, упрямо мотнув подбородком, поднимается сам:
– Все нормально. Просто резко нагнулся. У меня такого давно не было. Давно…
Он твердит это с нарастающим жаром, точно старается уверить медкомиссию. Или себя самого. Мне остается только кивать и соглашаться. Если бы я мог, то с удовольствием поменялся с ним местами – у меня нет машины и не предвидится. Пусть бы моя башка изредка кружилась, а он вернулся к своей суматошно-колесной жизни…
– Все уляжется, – настырно бубнит Денис. – Не завтра – послезавтра, через год я снова буду водить. И всех вас прокачу. С ветерком.
Он убирает фотографии. Не хочет демонстрировать их Огурцу и, тем более, Кириллу. Они не поймут… Возможно, Денис прав. Я и сам прежде не понял бы. В той жизни. До Веры и ее, нет, нашего Мишки…
За окном нервно миллиметрует средь соседских авто Огурец. Взад-вперед. «Пятерка» ворчит и кряхтит, словно пожилая дама, которую неугомонный супруг заставляет заниматься опостылевшим сексом.
– Чё он там?! – восклицает Денис. Его руки машинально исполняют слаженные движения, точно переключают передачи. – Вперед, налево… дурила… – шепчет он под нос. И даже стучит по стеклу. Но Огурец, разумеется, не слышит. На заднем стекле его железного коня красуется изображение громадного чайника, из носика которого выходит густой пар.
Наконец Огурец причаливает. Вылезает наружу. Красный, будто из сауны, пот градом, хоть включай дворники, дышит, будто всю дорогу волок машину на себе. Снимает очки, протирает линзы выбившимся кончиком шарфа. Водружает обратно на переносицу и, узрев наши застекленные-зарешеченные физии, под-боченясь, машет радостно и гордо. Прямо-таки Шумахер.
Откуда ни возьмись, вспоров тупым носом весенний гомон, вспугнув собачников и пенсионеров, торпедой влетает в наш тихий дворик смоляная «ауди». Лихо вписывается в поворот, вздыбив из-под колес фонтаны талой грязи, снизу доверху обдав огурцовскую тачку, и замирает посреди проезда, намертво заперев всех местных «жигулят».
Из затонированной каюты вылезает Кирилл. Темно-синее кашемировое полупальто – шик с отлетом, будто только с витрины, в зубах неизменная сигарета. Наши с Денисом челюсти бряцают о подоконник. Огурец возмущенно демонстрирует ему разводы на «пятеркином» боку. Кирилл понимающе кивает, вытаскивает из кармана платок, отирает дверцу, а смущенный Огурец начинает возражать: мол, спятил, какие мелочи… Статус-кво восстановлен, платок летит под колеса «пятерки». Кирилл с Огурцом обмениваются рукопожатиями. Огурец совершает экскурс вокруг надменной иномарки, брезгливо взирающей на заплатанные бока старенького дома, а сбоку нарисовывается сосед, которому как раз необходимо выехать. Кирилл спокойно его выслушивает, морщится, что-то вяло отвечает и удаляется в подъезд, увлекая с собой еще не отошедшего от поездки Огурца. А сосед обреченно бороздит своей «Нивой» весьма скользкий газон.
– Кирилл всегда умел убеждать! – покачав головой, замечает Денис.
– Слушай, Кирилл, не в службу, а в дружбу – передвинь тачку, – прошу я. – Ты ж весь выезд загородил.
– Неохота, – упрямо хмурит брови мой несговорчивый друг. – Я хорошо встал. Мне очень удобно.
Если Кириллу что втемяшится в башку – спорить бесполезно. Я решаю предпринять следующую попытку восстановления дворового перемирия чуть позже.
– Полагаю, нам есть что обмыть, – оживляется Денис.
– Я не буду, – категорично возражает Огурец, выкладывая на стол свою долю в виде холостяцких консервов и пластиковой колы. – Я за рулем.
– А кто не за рулем? – удивляется Кирилл, вытаскивая из Плоского, с кодовыми замками кейса несколько нарезок, от одного вида коих начинается обильное слюноотделение, и плоский, вишневого цвета бутылек с иностранными буквами на этикетке. – «Мартель», мужики. Почти трофейный. А это, – он бросает на диван огромный фирменный пакет с логотипом «Леголенд», – твоему новообретенному беби.
– О черт! – не сдерживаюсь я от возгласа. – Черт! Космическая станция! Откуда ты…
– Не важно.
– Органы знают все, – весело встревает Огурец, разглядывая красочный проспект. – Ой, как интересно, глядите, раньше таких не было…
– Когда это «раньше»? – усмехается Кирилл.
– Ну-у, когда я был маленьким.
– Ты еще с двенадцатым годом сравни, де-.дуля.
Огурец смущенно сопит носом.
– Ладно, я тебе такой же подарю на день рождения, – великодушно обещает Кирилл. – Сколько тебе стукнет?
– Двадцать, – бурчит Огурец.
– Боже, – качает головой Кирилл. – Какие же вы все малолетки…
– А тебе сколько? – Я чувствую неловкость: тоже, друг, а таких элементарных вещей не ведаю.
– Много.
– Тачка у тебя классная, – тоскливо стонет Денис.
– Не жалуюсь.
– Новая?
– Естественно.
– И какая же в спецназе зарплата? – округлив глаза, интересуется Денис.
– Я уже не в спецназе. – Кирилл разливает пахнущий миндалем и навевающий смутные видения белоснежных пляжей, салатовых кипарисов и томных благоухающих красоток в умопомрачительных бикини коньяк в простенькие Верины рюмки. Его бледное запястье перехватывают неброские, но интригующие часы: на большом циферблате притулился еще один маленький…
– Интересная модель, – невольно замечаю я.
– Удобная, – отвечает Кирилл.
– Похоже на человеческую жизнь. Мы все – крохотные частички основного вселенского циферблата. И сами проживаем в основной жизни несколько маленьких…
Кирилл ставит пузырь на стол и смотрит на меня очень внимательно, приподняв широкие пепельные брови.
– Похоже, – резюмирует он, – начали без нас, Огурчик.
– Ничего подобного, – обиженно возражаем мы с Денисом.
– Я не буду, – упорствует Огурец.
– Хрен с тобой, – великодушно разрешает Кирилл. – Нам больше достанется.
– Ну. – Янтарные глаза Дениса загораются плохо скрываемым нетерпением. Он водит носом вдоль рюмки, точно пытаясь вобрать в себя терпкий, еще непознанный благородный аромат. – Сперва за ваших железных коней? Чтобы бегали – не спотыкались. Пусть дорога будет ровной, а гибэдэдэшники добрыми.
– Точно.
– Эх, – вздыхает Денис. – Я бы сейчас по-рулил…
– Порулишь еще, какие твои годы…
– Слушай, Кирилл, – поерзав на стуле, опустив глаза, тихо произносит Денис. – Не одолжишь мне рублей пятьсот на две недели? Любаша Машке массажиста хочет взять…
– Разумеется. Никаких проблем. – Кирилл достает из джинсов несколько сплюснутых сотенных бумажек.
– Я отдам с зарплаты, – густо покраснев, шепчет Денис, бережно разглаживая каждую денежку, прежде чем спрятать в нагрудный карман полосатой рубашки.
– Успокойся, – морщится Кирилл, – это не главное в жизни. С ребенком ничего серьезного?
– Нет-нет, – машет рукой Денис, – ничего особенного. Я говорил Любаше, что можно и подождать. Даже врач подтвердил, мол, пара месяцев погоды не сделают. Но вы же знаете женщин. Она уже договорилась с массажистом. И ни в какую…
– Интересное кино, – с оттенком легкого недовольства в голосе размышляет Кирилл, – а если у тебя нет денег? Что тогда?
– Тогда…. У мамы своей взяла бы… – Взгляд Дениса становится еще тоскливее, плечи понуро опадают.
Мне вдруг становится больно видеть его таким. После всего, что мы пережили, я и впрямь ощущаю наше родство, почти кровное. И мне тяжело оттого, что больше я ничего не могу для него сделать. Здесь не могу.
– Ладно, – резко распрямившись, произносит Денис с неожиданным ожесточением, – давайте лучше выпьем!
– Добро, – кивает Кирилл.
Огурец смотрит на друга задумчивым пристальным взглядом. За выпуклостями стекол его зеленоватые, в обрамлении светлых ресниц глаза кажутся огромными и чуточку печальными. Дожидается, когда Кирилл поставит опустевшую рюмку и блаженно откинется на спинку стула, и уж тогда, почесав переносицу, спрашивает:
– Кирилл, а ты что, перешел на повышение?
– Вроде того.
– И в каком ты теперь звании? – продолжает допытываться дотошный Огурец. Видимо, профессиональные навыки свербят ему в соответствующем месте.
– В майорском, – отрезает Кирилл. – Еще есть вопросы?
– Значит, больше не укладываешь наркодельцов на капот…
– А, тех… – Кирилл мрачно усмехается, покривив тонкие губы. – Их выпустили. На следующий день. По звонку свыше… – Он достал пачку «Мальборо», чиркнул «зипкой». И сосредоточился на колечке сизого дыма, немного похожего на вечерний туман. Пепельные глаза подернулись бельмом поволоки… – Да-а… – проронил он, – бремя розовых очков и юношеских надежд закончилось. Жаль, для того, чтобы это понять, меня самого пришлось несколько раз приложить мордой. В окопную грязь. Что ж, зато война стала для меня неплохой школой. Даже пригодилась… в некотором роде. Впрочем, какого черта? Мы что здесь, для интервью собрались?
– Ребята, у меня созрел тост, – провозглашает, плотоядно посматривая на початый «Мартель», приободрившийся, порозовевший Денис. – Выпьем за то, чтобы нам собираться как можно чаще, в неизменном количестве и за таким чудесным столом. За нашу дружбу, мужики!
Естественно, мы не возражаем. После чего я отваливаюсь на бок и, блаженно перекатывая терпкий миндаль по размякшим стенкам желудка, не сразу замечаю, как благодушие в глазах Кирилла постепенно приобретает прохладный оттенок легкого недовольства.
– А теперь, – вкрадчиво обращается он к Огурцу, – ты ответь мне на пару вопросов…
Кирилл достает из кейса последний номер «Новой версии», перегнутый на статье «Так кто же заказывает музыку войны?».
– Это что, Огурца? – радостно восклицает Денис. – Дай почитать! А то я совсем отстал от жизни…
Но Кирилл пропустил его возглас мимо ушей.
– Кажется, я однажды просил тебя не лезть в эти дела, Саша?
Вдруг у меня по загривку проскользнул легкий холодок. Я даже обернулся на окно: не дует ли… Саша… Как странно прозвучало это заурядное имя в устах Кирилла. Очень уж официально, по-следовательски.
– Не надо учить меня жить! – моментально вскидывается Огурец. – Я свободный человек.
– Сво-бод-ный… – с презрительным сарказмом цедит Кирилл. – Что твоя свобода – «Новая версия» за три рубля? Возможность ссать против ветра? Да, кто-то заказывает музыку войны, и перекачивает деньги, и отмывает. Но если по его указу тысячи людей швыряют в эту мясорубку, то уж раздавить тебя как козявку ничего не стоит. Прихлопнуть вместе со всей вашей дурацкой газетенкой… – Внезапно он взмахивает рукой. Звякают часы на бледном запястье. Газета серой подраненной птицей печально скользит со стола к моим ногам, примостившись возле, словно в поисках защиты.
– Та-ак… – неестественно зловещим тоном произносит Огурец. – Понимаю… Снимай штаны – власть переменилась. Выборы закончились, полегче работать стало?
– Ребята, кончайте, а? – делает робкую попытку вмешаться Денис. – Давайте еще выпьем, расслабимся…
– А мы и так расслабляемся, разве нет? – передергивает плечами Кирилл. – Ведем, так сказать, интеллектуальный диспут. Так, правдо-руб? – В его глазах уже открыто блеснули стальные острые иглы. – Хочешь, я покажу тебе настоящую свободу? – Он достает пахнущее новенькой кожей пухлое портмоне, вытаскивает пятисотрублевую купюру и машет ею перед огурцовским носом. – Вот она, свобода. Первый и последний довод.
– Ты как-то сказал… – у побагровевшего Огурца на тонком виске, меж росинок пота, вздувшись, учащенно пульсирует голубенькая жилка, – что больше не будешь пешкой в чужой игре. В этом ты ошибся. Ты именно пешка, шестерка, слепое орудие для игры тех, кто заказывает весь этот произвол. Тебя купили, как последнюю шлюху, за теплое местечко и крутую иномарку. Чтобы однажды сказать: «Фас!» И такие, как ты, бросятся давить, сажать в психушки и тюрьмы таких, как я…
– Встань… – бесстрастно попросил Кирилл, поднимаясь со стула. Затем осторожно правой рукой снял с Огурца очки, положил возле опустевшего «Мартеля», а левой коротко ткнул Огурца в лицо. Как будто не сильно, но Огурец, нелепо дрыгнув в воздухе ногами, перелетел через стул и рухнул вместе с ним в угол. Из разбитого носа – пумпум – закапала кровь, крупными красными кляксами расплываясь на снегу светло-серой рубашки…
У безмолвно вытаращившегося Дениса из распахнувшегося рта выпал на тарелку кусок недожеванной ветчины.
– Спятил? – Я перехватил Кирилла за запястье, едва не отдернув ладонь: оно было ледяным, словно я коснулся, покойника. Потом я сообразил, что случайно дотронулся до часов. Он оттолкнул меня, а затем, покачав в воздухе тонким пальцем с безупречно отполированным ногтем, обращаясь к сидящему на полу Огурцу, свистяще-яростным тоном произнес:
– Запомни, мальчик. Я никогда никому не позволю назвать меня шестеркой. Потому что последний довод я всегда оставляю за собой… – И хлопнул дверью так, что с хлипкого косяка посыпалась штукатурка.
Огурец встал, придержавшись за опрокинутый стул, нашарил очки, вытащил смятый, давно не стиранный платок, приложил к носу.
– Не знал, что он – левша. Извините… – Он печально усмехнулся. – До свидания, друзья…
И тихо вышел в прихожую. Сбрасывая с себя оцепенение, я рванулся следом.
– Ребята, ну вы что, с ума посходили, что ли? Перестаньте… Огурец, Кирилл! Помните золотое правило: держаться вместе… Иначе всему конец! Конец, черт бы вас подрал!
– Мне жаль, – обернувшись на пороге, вымолвил Кирилл.
Огурец промолчал.
Черная «ауди» со свистом разрезала сизый сумрак, тотчас сомкнувшийся следом, будто мрачной иномарки и не было вовсе. Лишь натужно кряхтела, обильно сдабривая округу бензинными испражнениями, огурцовская «пятерка».
– Пойду… – не выдержал Денис, – помогу… – и, пошатываясь, едва попав в один рукав своей кожанки, выбежал на улицу.
Я снова остался один. Выключаю свет. Ложусь на диван. И начинаю ждать Веру и Мишку. Думать о том, что нужно все-таки летом вывезти их на море, в тот же Бердянск, коль на Турцию не хватит. Я так живо стараюсь восстановить в памяти тот сон: море, солнце, берег…
«Ничто не вечно…»
Я затыкаю уши, зарываюсь головой в подушки, чтобы не слышать в предательски подкравшейся тишине, наряду с противной капелью настенных часов и участившимся биением собственного сердца, треска разрывающихся нитей, называвшихся узами дружбы…
6
К счастью, на работе я забываю обо всем. Ну, или почти обо всем. Если не напомнят. Хотя бывает…
– Сорок седьмая, отравление, большая доза транквилизаторов…
Дверь с трудом открывает сам «больной» – паренек лет шестнадцати. Ждет нас на пороге, едва не рыдая от ужаса. Кретин поссорился с подружкой и не сумел придумать ничего лучше, как наглотаться таблеток из бабкиного ящичка. А потом сам перепугался и позвонил в «Скорую».
Промыли незадачливого Казанову по самые брови. Надеюсь, что достали и до мозгов. Вот он сидит, шмыгая носом, а во мне такая злость закипает… Так бы и врезал придурку! Аж кулаки зачесались.
Я видел смерть. Ужасную, нелепую, бессмысленную смерть его почти ровесников. Видел, как они, уже полутрупы, бормотали едва ворочающими губами, просили Бога, дьявола, кого угодно: «Жить!..» Они не хотели уходить туда, даже если там им уготован рай. Но они были согласны на ад, только здесь, сейчас, на этом свете… хоть ненадолго… На одно родительское объятие, поцелуй любимой, плач первенца, на единственный солнечный луч, даже если он озарит подлое несовершенство этого холодного мира… Но все они умерли… А этот сопляк пытался отшвырнуть, как старый мяч, самое большое из земных сокровищ – жизнь…
Он вскидывает на меня глаза. Небесно-голубые, в обрамлении длинных, изогнутых кверху ресниц… Как у Костика… У меня захолонуло внутри. Я смотрю на него, а он на меня, испуганно и жалко, втянув голову в плечи, будто чувствует, что творится у меня на душе…
– И что мне теперь делать?
Это он спрашивает у меня. После того, как Виктор Степаныч прочел ему целую медицинскую лекцию. А он теперь спрашивает меня, что делать. Будто я знаю. Моя злость угасает, сменяясь чем-то наподобие раскаяния. Как я могу осуждать этого мальчишку, если несколько месяцев сам провел в аду, стреляя в людей и заливая водкой измученное сознание. И кто вообще дает нам право судить. Нам, мечущимся в вечном поиске своей дороги без компаса и карты, постоянно сворачивающим не в ту степь…
– Что мне теперь делать?
– Запишись добровольцем в Чечню. Только если тебе удастся уцелеть, ты будешь задавать себе тот же самый вопрос.
Из прихожей недовольно кличет меня Виктор Степаныч. Я спешу на его зов и уже за спиной слышу робкое:
– Спасибо.
– За что? Что не обматерил?
– И за это тоже. Я больше не буду, честно.
Детский сад какой-то…
Я слетаю вниз по замызганной прокуренной лестнице, вдоль исписанных, коряво разрисованных стен, ощутив непонятное облегчение, даже радость, будто именно я откачал парнишку. Глупо, не правда ли?
– Вот у нас в доме был случай, – сообщает Анатолий, – один придурок из окна сиганул. С третьего этажа. А к соседке в тот момент хахаль приехал. И «мерседес» свой аккурат под тем окошком и поставил. Парень на него и приземлился– Только ногу подвернул да о стекло лобовое порезался. Разбил стекло-то. И капот помял. Тот новый русский как увидал, чуть сам из окна вниз к своему «мерсу» не сиганул. Милицию вызвали, конечно, «скорую», как положено. Ремонта насчитали на кругленькую сумму. А мужик тот, новый русский, нормальный попался. Придурка этого на работу устроил. Тот не только долг вернул, но и через годик сам «опеля» взял. Почти нового. Девицы теперь к нему шастают, всё разные.
– А из окна-то почему бросался? – допытывается дотошный Виктор Степаныч. – Должна же быть причина.
– Черт его знает! Я вам так скажу. – Анатолий выдерживает многозначительную паузу. – Знал бы я, чем все кончится, сам бы на тот «мерс» прыгнул. А то кручу баранку днем и ночью за копейки…
Неожиданно мне вспоминается Гарик. Но не таким, каким я видел его в последний раз, а настоящим. Каким он отчаянно пытался, но так и не смог стать вновь. А иным быть не захотел.
Но я молчу. Что теперь говорить?
– Да-а, – вздыхает Виктор Степаныч. – Жизнь сегодня нелегкая. И все-таки надо жить. Всему назло. Надо жить, ребята, и верить, что, если не сладилось сегодня, обязательно получится завтра.
– Когда завтра-то, на пенсии? – ворчит Анатолий. – Мне тогда, если потяну, кроме горчичников на задницу, ничего не будет надо. Это только в западных фильмах деды с бабками путешествуют да трахаются. Ты у нас таких пенсионеров видал?
– А вот видел! – торжественно восклицает Виктор Степаныч. – На прошлой неделе. Та смена одного привезла с сердечным приступом. И где, думаете, его прихватило? У любовницы во время, извините, полового акта. Ребята рассказывали: в паспорт глянули – семьдесят пять деду! Ну, говорят, дедуль, поспокойнее надо в вашем возрасте. А он им: «В каком таком возрасте? Мой отец в семьдесят шесть четвертый раз женился и шестого сына родил».
– Ни фига себе! – присвистывает Анатолий.
– Значит, – подвожу итог, – у нас все еще только начинается.
7
На следующий адрес едва пробрались по узкому аппендиксу асфальта, заставленному вкривь и вкось разномастной гордостью отечественного автостроения. К самому подъезду пятиэтажки подъехать не удалось, и оставшиеся пару десятков метров чапали пешком, хрумкая крошевом последнего льда.
В проходной комнате на диване – высохший, как бамбук, старик, цветом лица неотличимый от изжелта-серого пледа, укутывающего его ноги. Дышит тяжело, с присвистом и хрипом, время от времени отхаркивая, в приступе удушливого кашля, черную слизь отработавших свое останков умирающего организма. Рядом две женщины. Пожилая, в линялом халате, с печатью хронической усталости на угасшем лице. Вторая, около тридцати, молодая копия матери, худая, анемичная, слегка растрепанная, с темными мешками под небрежно подкрашенными глазами, в облегающих штанах с дурацким названием «лосины» и вытянутом домашнем свитере. Несмотря на приоткрытое окно, квартира насквозь пропиталась тяжелым запахом лекарств, человеческих испражнений и тем неуловимым, что я научился безошибочно определять, будучи там, – дыханием близкой смерти…
– Он снова терял сознание, – нервно тиская краешек пояса халата, то сворачивая его в улитку, то раскручивая обратно, говорит пожилая. – У него постояннее боли… – Ее сморщенные пальцы так похожи на мамины…
Виктор Степанович меряет старику давление, листает выписку из медкарты и удрученно разводит пухлыми ладошками:
– Что ж вы хотите, в его возрасте? Сейчас сделаю укол, а завтра, как обычно, ждите медсестру…
– Можно вас на секундочку… – Женщина, та, что старше, увлекает нас в коридор и переходит на горячий сбивчивый шепот: – Он все знает, что рак в последней стадии, что умирает… Мы с дочкой сидели около него сколько могли. Но больше на работе дней не дают… Вы же понимаете, что значит в наше время потерять работу… Папа почти не встает. Он не сможет сам открыть дверь медсестре. Он хочет, чтобы его положили в больницу. Но его не берут. Пожалуйста, я вас очень прошу. Он же ветеран… И награды есть…
Она переводит взгляд с Виктора Степаныча на меня поочередно. Отчаянный, умоляющий взгляд измученного страданием, загнанного в угол существа. Женщины… Я не мог выносить его там. Я не могу его вынести сейчас… Молодая смотрит в окно. В напряженной ломаной линии ее острых плеч, тонком стриженом затылке сквозит молчаливое негодование. Малодушно опускаю глаза, изучая рассохшийся почерневший паркет.
– Уважаемая, – прислонив ладони к сердцу, проникновенно, как актер на сцене, вещает Виктор Степаныч, – я вас очень хорошо понимаю, поверьте. Но и вы нас поймите. Ни одна больница не возьмет… Мы лишь понапрасну прокатаемся…
– Пожалуйста, пожалуйста… – Она достает из кармана бумажки и сует их в руки мне и Виктору Степанычу. Я понимаю, что это деньги.
– Черт побери, – раздается из комнаты скрипучий голос старика. – Я прошел всю. Отечественную, дошел до Берлина, неужели я не могу умереть по-человечески, в больнице…
– Н-ну… – неуверенно тянет Виктор Степаныч.
– Довольно, – встреваю я, выхватывая смятые купюры из рук Виктора Степаныча. Я больше не в силах терпеть этот кошмарный фарс. – Возьмите. – Я всовываю все деньги обратно в карман ее халата и выпаливаю в побагровевшее от негодования лицо врача: – Я иду за носилками. И пусть только попробуют не принять…
– Спасибо вам, – шепчет женщина. Из глаз ее вешними, ручейками текут слезы, но она не замечает, продолжая жарко благодарить: – Спасибо вам, люди добрые…
Спасибо за то, что мы не обрекли ее отца, рисковавшего своей жизнью на одной из самых жестоких войн века, умирать как собаку в пустой квартире. И их самих, вряд ли бы это позволивших, – на полуголодное существование безработных. Кого нынче из господ хозяев волнует личное горе маленького человечка – наемного служащего?
– Поблагодарите лучше вашего отца, – говорю я. – За то, что выжил тогда…
– Не надо носилок, – возвышает голос старик. – Сам дойду.
– Куда ты пойдешь? – сквозь слезы восклицает женщина.
– Не реви, – сурово отрезает старик, – лучше помоги мне…
Внучка поднимает его, прислонив к диванной спинке, и дед с прерывистым вздохом опускает на пол сухие, жилистые ноги с желтыми скрюченными пальцами. Секунду он передыхает, прикрыв глаза, снова хрипло кашляет и произносит упрямо:
– Все нормально.
Я подхожу к нему. Я знаю эту боль. Ужасающую, раскаленными крючьями рвущую живой пока желудок, отдирающую от него малые части, одну за другой, заставляя истекать кровью остальные… Рак в последней стадии… Но старик не издает даже стона. С достоинством старого солдата он готовится к последнему бою. Неравному бою со смертью. Я вглядываюсь в его глаза, на удивление молодые, отливающие оливковой зеленью.
– Обопритесь на меня. – Я подставляю плечо.
Старик оценивающе смотрит на меня из-под лохматых бровей, словно оценивает, гожусь ли я на роль спутника в его последнем, самом главном пути. Затем обхватывает мое плечо, а я поддерживаю его за пояс.
Несмотря на внешнюю хлипкость, старик на удивление тяжел. Я веду его, как уводят раненых с поля боя.
Внучка обнимает и целует его в обе щеки.
– До свидания, – говорит он ей. – Заводите ребенка, не тяните. Теперь вам места будет больше…
Она опускает глаза.
– До свидания, – говорит он дочери, легко отстраняя ее и грозя скрюченным пальнем: – Не плачь, кому говорю! И не ходите, не провожайте. Мы сами…
Я чувствую ускользающее тепло его жилистой ладони на своем локте.
Мы осторожно спускаемся по ступеням. Анатолий, разбранив местных автовладельцев, сумел-таки подобраться к подъезду. Вокруг «скорой» собрался народ – бабульки, дедки. Виктор Степаныч с явным неудовольствием барабанит пальчиками: «Время…»
– Погоди минутку, – просит старик.
Мы останавливаемся. Он запрокидывает голову, скользя взглядом вверх по кирпичной стене, к единственному окну, из которого машут ему напоследок дочь и внучка. Он тоже, кивнув, приподнимает руку. В последний раз…
– Теперь везите… – И шагает в карету.
– Счастливо тебе, Ильич, – тараторят наперебой собравшиеся соседи. – До встречи…
Желтые высохшие губы старика трогает легкая усмешка.
– Не торопитесь…
В машине Виктор Степаныч дуется и недовольно бурчит:
– Давай-ка без самоуправства. Или придется тебе поискать другую бригаду.
Я молчу.
– Сам будешь потом с главным объясняться, – продолжает выговаривать Виктор Степаныч. – У нас и так показатели смертности как в чумном кордоне.
– Успокойтесь, – отвечаю я, закусывая кончик языка, чтобы не сказать чего покрепче.
В приемном нас встречает пожилая грымза в тапках и мятом халате. Как и обещал Виктор Степаныч, начинает громко возмущаться привезенным больным. Мол, и так в отделении по три трупа за ночь. Я чувствую, как во мне медленно, но верно вскипает злость.
– Слушай, ты, – я отволакиваю ее в сторону, – закрой варежку и начинай оформлять. Или, клянусь, ты здорово пожалеешь.
Она изумленно-испуганно выпучивает глаза, становясь похожей на снулую рыбу. Я ожидаю нового выплеска брани, уже в свой адрес, но грымза на удивление покорно и бесшумно идет к столу и заполняет историю болезни. Прибывшие санитары отправляют моего старика наверх. В последнюю минуту он успевает шепнуть мне:
– Спасибо.
Я заглядываю в карту. Спиридонов Игнат Назарович. Тысяча девятьсот двенадцатого года рождения.
Из ординаторской выкатывается один из санитаров, Шурик, молодой студент-четверокурсник, большой охотник до противоположного пола. Возбужденно поблескивая глазенками, потирает ладони в явном предвкушении чего-то весьма приятного.
– О, Славка! – завидев меня, радуется Шурик. – Не подежуришь за меня сегодня? Во как надо. – Он проводит ребром ладони по выпуклому кадыку, многозначительно подмигивая.
– Он же со смены, – недовольно встревает Анатолий. – Соображать надо!
– А я не к тебе обращаюсь! – парирует Шурик. – Как, Слав, выручишь?
– Ладно. Но отдашь по своему разряду.