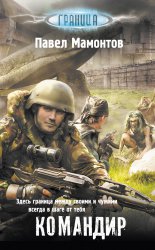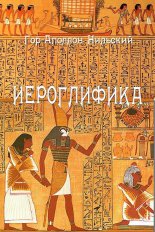Давай попробуем вместе Гайворонская Елена
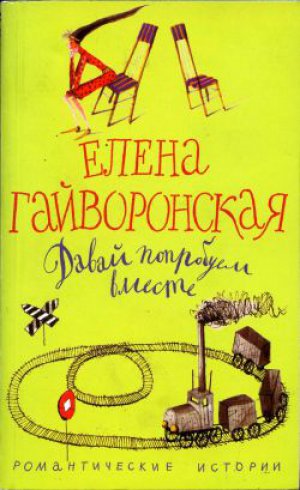
Но я вижу, что ему не жаль. Ему все равно. Одним стариком меньше, одним рабочим местом больше…
Когда я усвою правило номер один мирного времени:
«Каждый сам за себя»?
33
Возвращаюсь с ночной. Веру с Мишкой застаю на пороге. Вера на ходу чмокает меня в губы и сообщает скороговоркой:
– Тебе вчера звонил Александр Огурцов. Передал, что он в Москве…
– Огурец?!
Горячая волна бешеного восторга захлестывает меня с головой. Впервые за последние дни мне хочется хохотать, танцевать и петь. Я подхватываю жену и сына на руки и кружу на лестничном пятачке.
– Пусти, сумасшедший, – со смехом отбивается Вера, а Мишка визжит от восторга и требует еще. – Пусти, оставь меня в покое…
– Покоя нет! – кричу я. – Знаешь об этом?!
Из приоткрывшейся двери напротив просовывается в щель любопытный внушительных размеров нос, затем столь же солидных габаритов его обладательница, которая вежливо интересуется:
– Что, Верочка, в Америку собрались?
– При чем тут Америка? – осекшись, озадаченно спрашивает Вера.
– Гляжу, веселье у вас… Думала, уезжаете. Я слышала, там у вас муж работал.
– А что, – встреваю я, – в России уже нельзя повеселиться?
Дверь с бормотанием затворяется.
– Она здесь всего год живет, – опустив голову, извинительно произносит Вера.
– А мы поедем в Америку? – спрашивает Мишка, вскинув на меня пытливые глаза. – Или ты насовсем вернулся?
– Идем, – неожиданно повышает голос Вера. – Опаздываем.
34
Я звоню Огурцу, но его номер молчит как партизан.
– Черт… Небось уже в свою газету снесся, папарацци…
Моя башка гудит, как старый медный самовар, в трубу которого набросали еловых шишек. Был у нас такой на даче лет сто назад… Обычно в такие минуты я решаю мучительную дилемму: сразу завалиться спать или все же слопать заботливо приготовленный Верой завтрак. И покуда я решаю эту важную проблему, рука помимо воли тянется к пульту. Диктор смотрит на меня как удав на кролика. Я демонстративно поворачиваюсь к нему тылом и проделываю обычные механические действия: сбрасываю одежду, тащусь в душ, отмываюсь от смеси запахов жизнедеятельности и распада, босиком шлепаю по коридору. Задержавшись на развилке кухня – спальня, невольно вслушиваюсь в монотонное дикторское бормотание из-за настойчивого повторения знакомой фамилии…
Я подхожу ближе и делаю громче…
«Сегодня ночью произошло нападение на корреспондента газеты «Новая версия» Александра Огурцова. Неизвестные подкараулили журналиста, когда тот выходил из собственной квартиры, нанесли несколько ударов молотком по голове, затем втолкнули его обратно… По предварительной версии следствия, это могло быть нападение с целью ограбления…»
Почему-то я начинаю ощупывать свой затылок и виски, точно эти удары предназначались мне. А потом проваливаюсь в невесть откуда подкравшуюся зияющую пустоту…
Телефон. Он стрекочет глухо и утробно, словно звонок с того света. Он зудит не переставая. И постепенно я начинаю соображать, что почему-то сижу на полу, прислонившись спиной к дивану, тупо пялясь в экран, с которого сурово глядит на меня новый президент, проникновенно рассуждая о чем-то очень глобальном…
Почему-то я тащусь, как сомнамбула, к книжному шкафу, достаю на белый свет забытую синюю картонную папку, ощутив необычайно острый прилив стыда и непонятной вины, словно, если бы я прочел огурцовскую рукопись, ничего бы не случилось… Хотя думать так – полный бред. Открываю наугад.
«Война… Для нас она никогда не закончится, даже если об этом объявят сто тысяч раз… Она поразила наш мозг, она поселилась в нас – в нашей крови, в наших телах, – как вирус. Вирус вечного боя… Пока он затаился и дремлет, готовый вырваться в любую минуту, разрушая все на своем пути… Противоядия нет…»
Зачем он тогда принес мне это? Почему – мне? Исповедь поколения, стираемого с лица земли чьей-то безжалостной рукой, словно волной – фигурки из песка…
«Кто он был, первый Хомо Сапиенс – человек разумный, взявший в руки орудие… убийства. Именно тогда он доказал, что высший из зверей. И после веками доводил до совершенства высшее достижение разума – оружие для уничтожения себе подобных. Теперь он входит в третье тысячелетие – человек воюющий. Человек с автоматом…»
Я захлопываю папку. Мне не хочется читать дальше. Тоска берет меня за горло своей мохнатой рукавицей. У меня такое чувство, словно я подглядел чей-то приговор…
35
Ноябрь 2000 г.
Она зашла в маленький цветочный магазинчик возле станции метро. В нос ударил удушливый запах пышного разложения. Бойкая девушка-продавщица, легко окая, принялась расспрашивать, какой нужен букет, на какую сумму и событие.
– Мне разных.
– Каких именно «разных»? – продолжала пытать продавщица. – Есть розочки, гвоздички кустовые, махровые… Хризантемки…
– Хорошо, давайте.
– Вам оформить?
– Не нужно. – Она едва сдерживала раздражение. – Просто наберите мне разных цветов. И заверните, пожалуйста, в простую бумагу. Мне далеко ехать.
36
В реанимационное отделение Склифа не пропускают ни под каким предлогом. Я дожидаюсь Кирилла. Он предъявляет удостоверение работника органов, и мы проходим.
– Только очень тихо, – предупреждает врач.
– Заткнись, – огрызается Кирилл.
Я толкаю его в бок и справляюсь о состоянии Огурца.
– Критическое, – сердито поджимает губы врач. – В сознание не приходит. Так что вам здесь пока делать нечего.
Видимо, он принимает нас за следственную группу, потому что добавляет с убийственным откровением:
– Мы, конечно, делаем все необходимое, но, учитывая характер повреждений…
– Да ты что несешь, урод?! – побагровев, шипит Кирилл, сгребая его за ворот белого халата.
– Мы его друзья, – вступаю я в разговор, ощутив холодный спазм внизу живота. – Мы вместе воевали…
– Ах, вот оно что… – Доктор выпутывается из объятий Кирилла. Его глаза смотрят сочувственно и устало. – Извините, не знал. Понимаете, любые травмы головы могут иметь очень неприятные последствия. Но может, и обойдется. Понадеемся на Бога…
– Разве вас не учили, что никакого Бога нет?! – В низком голосе Кирилла клокочет утробная ненависть. – А жаль. Я с удовольствием посчитался бы с ним.
– Перестань, – шепчу я, толкая Кирилла в бок.
Человек в белом халате опускает глаза и, еще раз извинившись, просит не шуметь и удаляется по длинному коридору. Мы приоткрываем дверь в палату. Я смотрю на белое лицо человека, лежащего с трубками в носу и капельницами по бокам на серых казенных простынях, и никак не могу поверить, что эта полубезжизненная кукла – наш Огурец, неизлечимый правдолюб, последний мечтатель… И что стоило пройти войну без единой царапины, чтобы теперь, в самом что ни на есть мирном городе, умереть от рук неизвестной шпаны. Этого просто не может быть! Потому что не должно быть никогда!
«Взгляни на мою писанину, ладно?»
Слишком несправедливо. Сырой удушливый туман застилает мои глаза. Он так молод! Моложе, чище всех нас. Почему?!
– Прекрати, – яростно шепчет Кирилл, больно щипая меня за руку. – Он выкарабкается, ясно? С ним все будет в порядке. Будет, – повторяет он с остервенением, словно пытается убедить в том высшие силы или вызывает их на бой. Повторяет все громче, срываясь вдруг на отчаянный вопль: – Борись, Сашка, борись, черт тебя дери! Я был не прав, слышишь, сукин сын? Ты нужен нам, ты нужен всем, твоя книга, твоя правда! Наша правда!
На мгновение мне кажется, будто желтоватые губы Огурца чуть подрагивают…
Подоспевшие несколько человек из медперсонала дружно выталкивают нас за двери. Я гляжу на Кирилла: маска холодного цинизма сброшена, я вижу исказившееся, полное бессильного отчаяния, меловое лицо человека, доведенного до предела. Таким ходил он в ливневые атаки «передка». Там он был настоящим, как здесь и сейчас. Почему я привык видеть его другим? Я снова думаю, что совсем не знаю своего друга…
Внизу на проходной топчется растерянная кучка людей. Краем уха я слышу, что они также справляются об Огурце. В руках у худенькой девушки букет алых роз. Она уговаривает медсестру передать его. Остальные что-то тихо, но горячо обсуждают. До меня доносится:
– Угрожали?
– Вроде нет.
– Менты считают, что это ограбление.
– Ты веришь в эти сказки?! Где твой профессиональный нюх?
– Говорят, главному было предупреждение.
– Это слухи…
– Но почему тогда Сашка?
– Начинают всегда с малого. Если не заткнемся – все получим.
– Если это правда – лучше помолчать.
– А я не собираюсь молчать! Это же наша работа! Иначе какой от всех нас толк? – неожиданно громко выпаливает девушка с розами. – Я войду в группу вместо Саши…
– Никто никуда не войдет. Мы сворачиваем дело, – веско произносит человек лет сорока с холеной окладистой бородкой. – Никто не желает быть следующим.
– И что теперь? Будем бегать по презентациям ночных клубов и расписывать, кто сколько сожрал, кто от кого родил? Нет, спасибо… – Дрожащий голос девушки вибрирует под облупившимся потолком. – У нас демократия и свобода слова, между прочим!
– Хочешь в соседнюю палату? – визгливо выкрикивает парень в сером джемпере с лицом того же цвета.
Завязывается перепалка, и всю группу удаляют на улицу.
Мы выходим следом. Кирилл провожает огур-цовских коллег долгим тяжелым взглядом.
– Эти люди, – говорит он презрительно, – считают себя рупорами свободы? И Огурец так стремился быть с ними? Они того не стоят.
– Никто в мире того не стоил, – вздыхаю я.
И Кирилл соглашается со мной. Едва ли не впервые в жизни.
37
На переходе маячит знакомая сутулая фигура. Замедляем шаг, переглянувшись. Так и есть – Макс Фридман. В одной руке он держит потрепанную авоську, другой вяло опущенный книзу веник из бело-розовых гвоздик…
В другой?! На мгновение я застываю соляным столбом, а Макс, завидев нас, орет во все горло:
– Здорово, мужики! Вы ведь от Огурца? Как он?
Он приближается, и до меня доходит наконец, что Макс размахивает новеньким протезом.
– Выросла? – кисло шучу я.
– Ну! Немцы помогли, прикинь. Кого разбили пятьдесят лет назад!
– Может, через полвека «чехи» наших внуков проспонсируют, – брякаю я.
Макс ржет, как целое стадо жеребцов. Он слегка навеселе. Совсем немного. Узнав о состоянии Огурца, мрачнеет. Шумно засопев, объясняет, что Сашок помог ему связаться с немецкой конторой по протезам. Даже с работой помогли. Устроили вахтером в какую-то совместную контору. Не бог весть что, но на жизнь хватает. Даже с девчонкой познакомился. По объявлению. Она слегка прихрамывает, а вообще – красавица, глаз не отвести… Как увидел – все, сразила наповал. Макс уже к ней переехал.
Он здорово изменился с последней встречи, наш Макс. Стал почти прежним. Когда рассказывает о своей хроменькой красавице, его глаза теплеют, а рот разъезжается в немного смущенной счастливой улыбке. Впрочем, он осекается, возвращаясь с небес своей влюбленности на грязную грешную землю.
– Вот, бананы Сашку принес, йогурт… Спросил продавщицу, что можно в больнице, и та посоветовала… Я же не знал… – Макс переминается с ноги на ногу. – Вот… Гвоздики купил… Не знал, какой цвет лучше… Красный обычно женщинам дарят… По-моему, белые с розовыми нормально? – Он глядит на нас так, словно пытается прочесть в наших глазах надежду, будто именно от цветов зависит, выдержит ли Огурец этот бой…
Мы дружно киваем.
– Ну, я пошел? – так же полувопросительно произносит Макс.
– Счастливо.
– И вам, ребята…
Мы прощаемся, хлопая друг друга по плечам. Причем он делает это именно правой… Макс исчезает за дверьми Склифа.
– Хочешь, подброшу? – предлагает Кирилл. – В ногах правды нет.
Ее вообще нигде нет.
38
За окном, словно видеокадры на ускоренном просмотре, проносятся дома, машины, люди.
– Надо же, – говорю я, – Макс – молодец, выкарабкался…
– Да.
– Это ты той девчонке лечение оплатил?
– Какое еще лечение?
В зеркальце я ловлю его угрюмый быстрый взгляд.
– Зачем ты хочешь казаться хуже, чем есть? Мы же свои…
– Заткнись. Тоже мне – психолог от слова «псих».
Кирилл молчит, уставясь на дорогу. Я тоже. Тишина угнетает, но не больше, чем пошлые избитые фразы.
– Не обижайся, – внезапно чуть слышно, будто про себя, произносит Кирилл. – Я просто чертовски устал. Честное слово, устал я, Славка…
Его лоб пересекает длинная, тонкая, как шрам, морщина. Он кажется глубоким стариком с потухшим взглядом и безвольно разомкнутым ртом. Таким я его прежде не видел.
– Поедем выпьем у меня что-нибудь за скорейшее выздоровление нашего Огурца.
Я колеблюсь в нерешительности. Как раз сегодня я обещал Вере и Мишке, что свожу их в «Макдоналдс», который на самом деле терпеть не могу – дурацкая забегаловка, а по вечерам кишит побирушками. Но детям нравится. Они еще не научились замечать невидимую грязь и распознавать разукрашенную фальшь…
Я обещал, а в то самое время Сашка Огурец боролся за свою жизнь в реанимации Склифа…
В зеркальце я ловлю молчаливый упрек Кирилла. Сейчас он прав. А Вера поймет. И сумеет объяснить Мишке. Мы же – семья.
– Что ж, выпить за выздоровление стоит. Только, пожалуйста, не гони…
– Есть, шеф, – чеканит Кирилл. Вместо привычной насмешки в его словах сквозит горький сарказм.
39
«Станция «Домодедовская», – объявил приятный женский голос из вагонного динамика.
Она вышла из метро и направилась к автобусной остановке. На желтой табличке конечным пунктом значилось кладбище. По церковным праздникам здесь выстраивались в вереницу современные экспрессы. Сегодня же ей пришлось отстоять полчаса, пока не прибыл маленький, тряский, коптящий выхлопами автобус, какие давно не ходят по городу.
В будни и там было тихо и пустынно. Две си-зоносые тетки торговали цветами и венками, собранными со свежих могил. Она прошла мимо. Она никогда не покупала этих цветов, пахнущих чужим горем. Ей хватало своего.
Она долго брела до свежих захоронений, думая о том, насколько огромен этот погост. Океан надгробий. Скоро на нем вовсе не останется места. На одной из покосившихся лавочек, возле давней, поросшей бурьяном могилы, мирно спал бомж, подложив под голову в грязной ушанке свежий венок. Погост стал прибежищем для тех, кому не хватило места в городе живых.
Она ориентировалась на две небольших сосны, с которых картаво и глухо, накликая непогоду, каркала ворона. Вообще-то на этом кладбище не разрешали сажать деревья, потому что иначе получился бы лес. Но правила все же нарушали. Иногда работники кладбища выкапывали тоненькие молодые деревца и выбрасывали на мусорную кучу, но некоторым повезло. Те уцелели и на жирной почве выросли скорее, выше и крепче, чем их лесные собратья, скорбными часовыми-указателями застыв посреди города мертвых.
Года еще не прошло, потому на могиле не было гранитного памятника. Только утлый крестик и табличка с именем и датами: 1979–2000.
Двадцать один…
За полгода ветра, дождей и снега буквы полустерлись и полиняли. Она рассыпала цветы по холмику и застыла, упершись коленями в мерзлую землю.
– Я даже не знаю, какие цветы ты любишь. Любил… – поправилась она. – Почему это должно было случиться именно с нами?
И тихо заплакала от болезненно-сосущего ощущения страшной несправедливости, с которой так и не смогла примириться.
Налетевший порыв ветра качнул сосну, и та жалобно заскрипела.
40
Апрель 2000 г.
В подъезде дома, где живет Кирилл, в стеклянной будке сидит поджарый охранник с въедливым взглядом, просвечивающим насквозь, подобно рентгеновскому лучу.
– Строго у вас тут, – усмехаюсь я ему.
Хмыкнув, Кирилл проходит к лифту, нажимает предпоследний – пятнадцатый.
– Высоко забрался.
– Не очень. Надо мной живет один из наших. Настоящий полковник. Большая сволочь, между прочим. Еще большая, чем я… – Он на секунду закрывает глаза, точно собирается вздремнуть. – Знаешь, где бы я с удовольствием пожил? На необитаемом острове. В тайге. Или хотя бы в загородном коттедже с глухим бетонным забором. Век бы никого не видеть. Устал я.
– Может, тебе стоит поменять работу?
– А может, мне стоит поменять жизнь? – Он меряет меня колючим взглядом.
Я начинаю бормотать оправдания, мол, я не имел в виду…
– Вот и заткнись.
Мы входим в квартиру, и я не сразу понимаю, отчего вдруг появляется смутное беспокойство и некий дискомфорт. Лишь спустя некоторое время доходит: тишина. Неестественная, абсолютная, такая густая, что хочется вспороть ее ножом… Будто остановилось время.
– Проходи, чего встал как памятник? – Его слова тонут в пучине безмолвия.
– А где шум? – кисло спрашиваю я, передернувшись от застарелой фобии.
– Снаружи остался.
– Стеклопакеты?
– Не только. – Зажав в зубах зажженную сигарету, Кирилл разливает по рюмкам коньяк. – Пробковые стены, потолок. Ремонт со звукоизоляцией. Нравится?
Я поеживаюсь.
– Здесь как… в могиле.
– Не знаю, – тихо говорит он, – я там не был. Лишние звуки меня раздражают. Ужасно… На. – Он бросает мне вскрытую пачку «Мальборо».
Я озираюсь по сторонам. Комната обставлена довольно просто, без вычурности. Ничего лишнего. Но в каждой вещи: кожаных креслах, низком овальном столике со стеклянной поверхностью, увенчанной массивной пепельницей в виде дубового листа, модных светильниках в виде канцелярских ламп, растыканных по разным углам потолка и комнаты, – ощущается определенный стиль, скромно намекающий на ее стоимость, с трудом соизмеримую с моей фельдшерской зарплатой.
Он откидывается на сцинку кресла, полузакрыв глаза, делает пару затяжек и неожиданно произносит:
– Когда в интернате жил – такой дурдом по ночам. Кто. кашляет, кто дрочит, кто мать зовет… Десять пацанов в палате. Я тогда мечтал, что когда-нибудь у меня будет своя отдельная квартира на последнем этаже. Чтобы никого не видеть и не слышать…
– Я не знал, что ты рос в интернате.
– Естественно. Я тебе не говорил.
– А твои родители? Умерли?
– Мать, может, и жива. А может, нет. Понятия не имею. Мне на это как-то начхать. Последний раз видел ее лет двадцать назад. А трезвой ни разу. Может, и жива. – Он открывает глаза, обводит стены странным, стынущим взглядом. – Такие обычно долго живут… А вот бабушка рано умерла. Или мне так казалось, оттого что маленьким был? Но я ее помню. Она пекла пироги. Такие пироги… До сих пор ощущаю их вкус. Знаешь, если бы встретил женщину, которая печет такие пироги, сразу бы женился. Честное слово. Но таких сейчас нет. Немодно… Давай выпьем, брат. За что?
– За здоровье, – отвечаю я недоуменно.
– Точно. А еще за дружбу. За настоящую мужскую дружбу, какой почти не осталось на свете. Думаешь, я той шлюхе больницу из жалости оплатил? Или меня совесть заела? Нет, брат. Мои ум, честь и совесть давно проданы чужим дядям. Наша дружба – это единственное, что они не смогли ни купить, ни отнять. Это последнее, чем я дорожу в своей поганой, никчемной жизни. Остальное – тьфу. – Сморщившись, он натурально сплюнул в пепельницу. – Дерьмо. Давай еще по одной.
Мне не хочется возражать. После пары рюмок наступает оцепенение. У Кирилла, наоборот, глаза начинают возбужденно блестеть, тонкие, ухоженные не хуже, чем у хирурга или музыканта, пальцы нервно скрябают по полированной поверхности столика.
– Может, и правда, – говорит он с непонятной усмешкой, – плюнуть на все, взять эту шлюху, когда прочухается, и махнуть куда глаза глядят… Я ее видел. Аппетитная девочка. Жаль. Лучше б на старуху какую наехал. Убийца и блудница. Классика.
Внезапно Кирилл вскакивает и мечется по комнате из угла в угол, словно загнанный в клетку зверь.
– Я ведь говорил ему! Маленький придурок! Предупреждал ведь! Как чувствовал…
Он двинул кулаком по стеклянной столешнице, по виду достаточно хрупкой, чтобы ожидать обиженного разбитого звона или хотя бы трещины. Но ничего не произошло. И меня снова настигло ощущение, что я попал в ирреальный мир, построенный в одной отдельно взятой квартире…
– О чем ты?
– О том… Ты что думаешь, это ограбление?!.Тогда ты полный идиот.
– А ты думаешь, это как-то связано с его журналистской деятельностью?
– Как-то связано… Я не думаю, я просто знаю! Это моя работа – знать. Все и про всех. Это предупреждение. Не ему – остальным. Тем, кто гораздо выше. А его выбрали как пушечное мясо, пешку… Как всех нас когда-то. Просто я не ожидал, что все так серьезно. Но все равно я не смог бы ничего сделать. Я застрял где-то посередине между ними и нами… – Он налил еще и залпом опрокинул.
Огонь в его глазах, то ли дьявольский, то ли безумный, разгорался все сильнее. Кажется, он стремится выплеснуть все, скопившееся за время осторожного длительного молчания.
– Как там, «последний довод королей»? Да, они – корольки, а мы – пешки. И нас можно бить, ломать, топтать гусеницами танков, посылать под пули, рвать на части бомбами! Со временем я мог бы стать одним из них, тех, кто заказывает эту чертову музыку… Но я устал плясать под нее… А там, – он снова ткнул пальцем в потолок; – любят таких, как я. Без корней, принципов, привязанностей… «Поменять работу…» Да, я могу ее сменить. На ящик в два квадрата…
Огурец прав: нас нет. Мы все – ходячие мертвецы. И он, и я, и ты. Думаешь, ты сумеешь стать таким, как они? – Он кивает на копошащуюся внизу жизнь. – Работать, трахаться, плодить детей? Черта с два! Мы не нужны им. Мы – прокаженные. Мы лишь существуем. Параллельно. Как эти чертовы стрелки на одном часовом поле. Но рано или поздно кому-то станет душно и тесно в этом дерьме…
Он содрал часы с запястья, шмякнул их об пол, с размаху наступил каблуком. Раздалось обиженное «хрясь».
– Ты что, спятил? – Оттолкнув Кирилла, я поднимаю часы. По круглому стеклу прошла рваная трещина, раскроив его на неравные дольки. Маленький циферблат встал. А стрелка большого упрямо продолжала отсчитывать вечность.
Хлопнула дверь. Это Кирилл куда-то исчез из комнаты. Может, проблюется и придет в себя?
Я подхожу к окну. Далеко внизу продолжает свое параллельное существование шумный город. Но я этого не слышу. Лишь наблюдаю с высоты пятнадцати этажей за беспорядочной сутолокой крохотных существ…
Перед моими глазами из недр сознания всплывают больной старик, идущий на смерть, и рано повзрослевший мальчик по имени Малик… И Огурец. Наша последняя встреча. Тот молчаливый взмах рукой, словно приглашение или прощание…
Неужели он чувствовал? Или знал?!
Тишина становится невыносимой. Внезапно я испытываю непреодолимое желание пробить это дьявольское стекло и шагнуть навстречу головокружительной агонии жизни. Словно кто-то манит меня за собой. Я в ужасе отскакиваю, ощутив, как взмокли подмышки.
– Что, высоко?
Оборачиваюсь, переводя дух. Передо мной стоит Кирилл. В руке – снайперка.
– Ни хрена себе… Откуда?!
– Нравится? – Его бледное лицо искажает кривая ухмылка. – Это и есть моя работа. Вызывает высокий начальник и говорит: «Появился плохой парень. Бяка. Представляет угрозу государству, демократии в целом и одному хорошему человеку в частности. Его надо уничтожить». Я отвечаю: «Есть».
– Ты… что, шутишь?
– Конечно. – Он подмигивает мне. – «И вечный бой, покой нам только снится…» Так, кажется?
Он рывком рванул на себя оконную раму. Ветер ударил в лицо и грудь. Продымленный московский ветер…
– Я сам объявил им войну! Свой собственный джихад! – кричит Кирилл, выставляя дуло в. окно.
– Хватит! – Я дергаю его за плечо. – Дурацкая шутка…
– Заткнись. Не учи ученого.
– Я и не знал, что ты такой дурной, когда пьяный. Сам же говорил: с оружием не шутят. Забыл? Сотрудник органов…
– Спецслужб, – поправляет Кирилл. – Ты много чего не знал. И лучше тебе оставаться в счастливом неведении. Тебе и всем вам… Иначе будет очень страшно. Оно приближается, наше светлое будущее… Слышишь, как грохочут сапоги?
– Перестань, пожалуйста. – Я пытаюсь его урезонить, но он отталкивает меня плечом.
– Я пошутил. – Он повернул ко мне поллица. – Я не отвечаю: «Есть». Так говорят только в старом добром кино. Лично я просто молча забираю бабки.
Ого, кто прибыл. Сосед сверху. Уже на «мерсе». Повышение, что ли, получил? Хорошо, видно, защищает родное отечество от таких, как Сашка. Вот только вас, козявки, никто не станет спасать, даже подыхай вы у всех на глазах. Но знаешь что? Жизнь, как и смерть, у каждого своя. Вот только кровь одного цвета…
Я отхожу от окна. Меня угнетает этот пьяный бред. Но, зная дурной нрав друга, решаю с ним не спорить. Как бы хуже не вышло. А так – сам уймется. Я хочу уйти, но не могу. Не могу оставить его сейчас в этом странном состоянии почти буйного помешательства, как не мог когда-то бросить Дениса… И пока я лихорадочно размышляю, как образумить Кирилла, вдруг слышу сквозь его злобное бормотание тихий щелчок…
– А вот сейчас я говорю: «Есть».
– Что «есть»?
– Попал, – спокойно констатирует Кирилл, обернувшись. – А ты думал – промахнусь?
– Ты чё, – шепчу я, преодолевая нежданную ватность ног, подползаю к окну. Внизу образовывается копошащаяся кучка.
– Вот такими они и видят нас сверху. Те, кто заказывает музыку войны. Ничего, я и до них доберусь. Я им не Сашка… Он хотел сказать правду? Я ее покажу!
– Что ты наделал? – Я хочу крикнуть, но голос куда-то подевался. Остался лишь свистящий шепот. – Сию минуту закрой окно, отойди…
– Да пошел ты! – Он отталкивает меня. Я цепляюсь за него, впервые в полной мере осознав смысл выражения «не на жизнь, а на смерть». Он бьет меня прикладом в лицо, и я, потеряв равновесие, сваливаюсь вниз, увлекая за собой столик. На голову осыпается битое стекло. Я вижу, как Кирилл снова спускает курок…
Человеческий муравейник рассыпается в разные стороны. Теперь – это паника. Люди бегут, давя друг друга.
– Дерьмо! – орет Кирилл. – Вы все – тупое стадо, достойное своих пастухов! Потому и живем в таком дерьме! Ненавижу! Вы все сдохнете, сдохнете!
Я бью его пепельницей по затылку, вырываю снайперку. Он падает в кресло, продолжая выкрикивать ругательства, безумно вращая глазами, брызгая слюной. Внизу раздается истошный вой милицейских сирен. Люди показывают на наше окно.