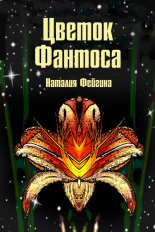Фестиваль Власов Сергей

У Жигульского началась истерика – такого неожиданного поворота в воспоминаниях он явно не ожидал. Пока его мама в ужасе от услышанного охала и ахала, а папа как мог ее успокаивал, их единственный отпрыск катался по полу почти в невменяемом состоянии. Он дрыгал худыми ногами, визжал и, как всегда, обильно плевался – ему было очень смешно.
В результате, когда мизансцена представления гостей сравнительно успешно завершилась, Алика с «супругой» уложили спать на пружинистый диван Михаила в его комнате, а сам Жигульский коротал время до утра на кухне на сломанной раскладушке.
Однако история на этом не заканчивается, на протяжении многих лет после описанного случая людям, приходившим к ним в гости, на вопрос, как обстоят дела у их сына, родители Михаила Викторовича грустно сообщали почти одно и то же:
– А ведь мы вырастили подонка. Да-да, не удивляйтесь, Миша у нас – настоящий подонок. Тут как-то к нам приезжала приятная молодая пара из Одессы – хорошие интеллигентные, скромные ребята. Так вот, они рассказали очень грустную историю про маленького мальчика Гогу, который купался в море и утонул. Так вот, наш сын смеялся над этим случаем где-то около часа.
Сейчас, по прошествии более пятнадцати лет совместного времяпрепровождения, Бырдин и Жигульский чувствовали себя почти родственниками – в скольких опасных приключениях побывали они за это время, сколько прошагали вместе километров нехожеными тропами жизни московских стиляг.
– Ну что, Мишаня, давай еще по рюмахе – за нашу юность. – Нахлынувшие воспоминания взволновали Алика, его неширокий, но все равно благородный лоб покрылся мелкими бисеринками душистого пота.
Жигульский разлил водку:
– Поехали!
Пока участники легкого застолья закусывали, в коридоре нежно затренькал зуммер телефонного аппарата.
– Кому это не спится еще в такую рань…
Жигульский пошел к телефону:
– Алле! Я слушаю! – Через секунду он взвизгнул и перешел на крик: – Ондрух! Сколько лет, сколько зим! Быстро бери тачку – и мухой ко мне!
Возвратясь к столику, Жигульский пояснил:
– Это очень известная на «Преображенке» личность, этакий нахальный немолодой человек с бараньей прической. Знаю я его лет сто, по-моему. Со времени нашего с ним знакомства он ни на йоту не изменился. Лет десять назад он попросил меня устроить его на работу. И на мой вопрос, на какую, скромно потупив глазки, ответил: «Мне нужна работа, чтобы с девяти до одиннадцати я мог спокойно курить, а с одиннадцати так же спокойно пить вино, но только, чтобы при этом у меня была настоящая профессия, а то я выйду на пенсию, и меня спросят, мол, какая у тебя профессия? И что я тогда отвечу?» Так что Ондрух – достаточно неординарный экземпляр, – резюмировал Михаил свое представление еще одного сегодняшнего потенциального собутыльника.
– А чем он сейчас занимается?
Вопрос приятеля очень понравился хозяину. Он вообще любил отвечать на вопросы, в которых содержался хотя бы минимальный намек на эмоциональный всплеск при ответе, его натура постоянно требовала резких переходов от спокойного бодрствования к экзальтации, к нервным перегрузкам.
– Держись двумя руками за стул, старик, чтобы не свалиться. Набери побольше воздуха в свои прокуренные легкие, чтобы не задохнуться от удивления. Ондрух уже несколько лет считается в песенной тусовке одним из самых перспективных и талантливых поэтов-песенников. Его коренное отличие от других в том, что он презирает лирическую направленность содержания песен, его конек – производственные тексты, его Пегас – это водовозная мускулистая кобыла, завсегдатай провинциальных занюханных площадей, которую не берет ни сап, ни годы, ничего другое.
– Интересный чувак…
– О чем ты говоришь… Его бессмертному перу принадлежат следующие слова из пафосной песни о труде, у меня язык не поворачивается назвать это стихами: «Вчера ты был обычный алкоголик… – приготовься, Алик, ты сейчас очумеешь, – …сегодня – перспективный трудоголик…»
Пепел с бырдинской сигареты индифферентно свалился на пол, после чего Алик попросил Жигульского пододвинуть пепельницу к нему поближе.
– Старик, это не пепельница, это салатница, – объяснил Михаил. – Она просто маленькая. Но в принципе ты можешь стряхивать пепел и в нее.
– Правда?!
– Конечно. Все равно это гораздо эстетичнее и удобнее, чем на пол.
Слегка опьяневший Алик поудобнее развалился в кресле и, скрестив вытянутые ноги, неожиданно засмеялся:
– А помнишь, мы с тобой пользовали двух молоденьких студенток, выдавая тебя за сына турецкого посла, якобы снимавшего вот эту квартиру, а меня – за твоего телохранителя?
Помню! – взвизгнул Жигульский – Ты еще по пьянке свалился в канаву и поранил голову, а мы говорили девчонкам, что это настоящее боевое ранение, причем пулевое.
– Да, – поддержал его Кабан. – А другим двум дурам мы под большим секретом сообщили, что моя перевязанная «репа» – это результат случайного попадания под «Мерседес» первого секретаря турецкого посольства, тоже твоего вроде родственника, только дальнего.
– Весело было… А хочешь, я тебе «Перпл» поставлю, как тогда.? Или «Кинг-Кримсон», а может, «Квинов» или «Мотли Крю»?
– Поставь мне лучше «Кремоторий», – сказал Алик и гнусаво и фальшиво запел: – А у Тани на «флэту» был разбитый патефон… Или мою любимую «Эй, Хабибулин»…
– Один момент! – Жигульский метнулся к столу, на котором рядом с телевизором стояла видавшие виды «вертушка», и стал нервно нажимать на ней многочисленные кнопки.
Знакомые аккорды, неслышно появившись у посеребренного бырдинского виска, прошлись мягкой упругой волной по тщательно разглаженному пробору и, разноцветными бликами подразнив и пошелестев воспоминаниями, улетели прочь. Можно сказать, что Кабан в это мгновение всего лишь одиннадцатый раз в жизни пережил эмоциональный оргазм.
Наконец среди какофонии звуков хозяин различил мелодичный звонок.
– Внимание, это наверняка пан Ондрух! – сказал Жигульский, приглушил звук проигрывателя и побежал открывать дверь. Повернув ключ последнего замка, он дернул дверь на себя и радостно поприветствовал:
– Салют, толстенький, сумасшедшенький человек, автор многих маловразумительных песен о рабочем классе…
– …И трудовом крестьянстве, – добавил Ондрух, вытаскивая из висящей на левой руке затрапезной сумки какие-то странные, замызганные, с потертыми этикетками бутылки с вином.
– Тебя еще до конца не упрятали в дурдом?
– Не посмеют, гниды! Между настоящим сумасшедшим и мной разница только в одном, но она очень существенна: сумасшедший думает, что он – в своем уме, а я точно знаю, что я – не в своем.
– И я знаю, – уточнил Жигульский. – Ладно, проходи. В комнате сидит Алик Кабан, ты о нем много слышал, а сейчас будешь иметь возможность познакомиться.
– Для начала – неплохо бы выпить!
– Ну, так за знакомство и выпейте, а я пока приготовлю горячую еду. Можешь поведать Алику какую-нибудь из своих сногсшибательных историй. Ну, например, о том, как ты ездил за повесткой.
Однажды, несколько лет назад, прогуляв рабочий день, Ондрух по-соседски и дружески одновременно обратился к Жигульскому с просьбой достать ему оправдательный документ:
– Ты же говорил, что у тебя в военкомате все схвачено…
– Ну, все – не все, но капитана Панкратова Михаила Ивановича, по-моему, за пьянство еще не исключили из числа «пайщиков-концессионеров» коммерческой организации под кодовым названием «Районный военный комиссариат», – как всегда сложно и непонятно для Ондруха пояснил рок-журналист.
Он действительно в тот же день позвонил Михаилу Ивановичу и с удовлетворением отметил, что даже на шестнадцать часов пятнадцать минут московского времени личный состав, правда кое-как, но еще ворочает языком.
Капитан Панкратов был, как всегда, четок и конкретен:
– Повестку ему сделать? Дай ему адрес и пусть приезжает в двадцать четыре ноль-ноль – домой. С собой иметь, кроме двух пачек «Столичных», – один литр. Сам знаешь чего.
– Спасибо, Миш. – Жигульский удовлетворенно хмыкнул и тут же перезвонил Ондруху.
Проклиная свое пьянство, любую работу, которую нельзя прогулять, всех в мире военных любых родов войск, со слезами на глазах Ондрух доставал из тайника, расположенного за неровной шеренгой потрепанных книг, стоявших на обшарпанной полке, свое последние достояние – пару белесых сорокоградусных…
В двенадцать часов вечера он находился по указанному адресу, в нетерпении суча ножками, в надежде в ближайшее же время стать счастливым обладателем заветного клочка бумажки, обозванной в еще незапамятные времена каким-то высокопоставленным солдафоном «повесткой».
Кода Михаил Иванович Панкратов открыл дверь, стало понятно, что он находится в состоянии тяжелейшей эйфории – своем любимом состоянии, при котором он обычно позволял себе распевать матерные частушки вперемешку с обрывками военных маршей. Он внимательно посмотрел на Ондруха и, получив от него исчерпывающие объяснения по поводу его столь позднего визита, затянул:
– Мимо тещиного дома я без шуток не хожу… – Здесь он сделал паузу и, по-видимому, забыв только что услышанное, набычившись, спросил: – Ты кто – Степан?
– Нет, – ответил слегка ошарашенный Ондрух.
– Василий?
– Нет…
– Федор?
– Как бы не так…
– Николай?
– Никакой я не Николай.
Прищурившись, Панкратов еще раз внимательнейшим образом осмотрел незнакомца:
– Так кто же ты?
– Блин горелый, я – Ондрух! Я пришел за повесткой, потому что прогулял работу… Вам по этому поводу сегодня звонил Жигульский…
В голове у Михаила Ивановича что-то заскрежетало, задвигались невидимые постороннему глазу шестеренки, пошел какой-то процесс. Ондруху показалось, что пока капитан думает, тупо уставившись в пол, прошла целая вечность. Наконец стало видно, что результат получен.
– Водку принес? – спросил Панкратов.
– Принес, – грустно отозвался Ондрух и передал две бутылки с рук на руки.
Капитан оживился:
– Будь мужчиной, прогуляй еще пару дней, – сказал он и, грубо подтолкнув гостя, тут же захлопнул дверь перед его носом.
В результате этого неординарного события Ондрух надолго запил горькую и был уволен по тридцать третьей статье. С тех пор он окончательно разуверился в людях в целом и в должностных лицах – в частности, заодно твердо решив покончить с любой формой государственной службы…
Друзья сидели и пили водку вот уже битых четыре часа. За это время интерьер большой комнаты квартиры Жигульского приобрел очертания студенческой столовой середины 80-х какого-нибудь захолустного провинциального вуза.
– Можно я останусь у тебя ночевать? – зачем-то спросил в половине второго Алик хозяина.
– М-можно!
– А можно я приглашу сюда одну знакомую девушку?
– М-можно!
– А можно…
Жигульский перебил товарища:
– Да все можно! Гуляй, рванина, от рубля и выше…
Последнее обращение несколько люмпенизированный Ондрух принял на свой счет и потребовал извинений. Жигульский извиняться категорически отказался, Алик Кабан уже уснул и в разборке не участвовал.
– Если ты хочешь меня оскорбить, плюнь мне в рожу, – грустно попросил Ондрух.
– На! – выдохнул Михаил и плюнул.
– Спасибо!!! – взревел поэт-песенник и, промокнув платком лицо, поспешил на выход.
Стало слышно, как с остервенением хлопнула входная дверь.
– Совсем сбрендил старина Ондрух… – вымолвил Михаил и, размахнувшись, сильно ударил спящего Бырдина по пружинистому, как батут, заду.
– Я здесь! – тут же отозвался Алик.
– Хватит дрыхнуть, у нас еще полно запасов…А когда запасов полно, их надо…
– Уничтожать!
– Правильно, – хихикнул Михаил и потянулся за бутылкой.
– За что будем пить? – Кабан приготовился.
– Поскольку цели нашей встречи до конца не определены и не концептуализированы, выпьем за очаровательно бесцельное времяпрепровождение в приятной компании…
– Можно добавить?
– В смысле – сказать?
– Нет. В смысле – долить.
– Сколько угодно.
Приятели со вкусом чокнулись, выпили и расцеловались.
В ту же секунду в его прихожей зазвенел звонок – это к Михаилу Викторовичу пожаловала его хорошая знакомая, в недавнем прошлом малоизвестная певица, а в данный момент обычная сутенерша – Надежда Станок, приторговывающая в элитных кругах такими же, как и она, симпатичными несостаявшимися неудачницами.
За последние восемь лет Станок даже четыре раза показывали по телевизору, и все четыре – в программе «Кто? Где? Кого? Как и за сколько?». Сегодня Надежда заявилась без всякого дела, просто так – поболтать ни о чем и немного развеяться.
– Надька, что-то давно тебя не видно на голубом экране. – Жигульский плеснул ей водки.
– «Ящик» совсем прогнил. За любой показ требуют столько «бабла». Педики с гомиками все оккупировали.
– Не может быть! – Алик Кабан явно заинтересовался близкой для него темой телевидения.
– Может. Я вам точно говорю. У меня подружку пригласили в одну музыкальную передачу. Так кроме денег сказали: «Этому дашь, тому. И потом еще вот этому». Она возмутилась: «Так они же «голубые!» Ей быстро все объяснили коротко и ясно.
Жигульский не выдержал:
– Интересно, как…
– Сказали: «А им – по фигу…»
Михаил настолько возмутился услышанным, что предложил сменить тему разговора на более приятную:
– Станок, обеспечь нас лучше сегодня какими-нибудь певичками для скромных утех…
– За деньги…?
– Ну, конечно. – Рок-журналист уверенно похлопал себя по нагрудному карману. – Сделаешь?
Сутенерша устало вздохнула и, верная своему девизу «дело прежде всего» поплелась домой за записной книжкой:
– Вы только не напивайтесь. Я, как кого-нибудь вычислю из подходящих, сразу же вам отзвонюсь.
Глава седьмая
Одним из основных качеств человеческой нервной системы является способность мобилизироваться в различных экстремальных условиях. Частые и продолжительные мобилизации – достаточно вредны для любого организма как в физиологическом, так и в психологическом аспектах.
Поняв это и осознав, что на календаре уже суббота, Сергей Сергеевич решил, что пора денек-другой отдохнуть и подумать о своем здоровье – в квартире девушки Лены, где он сегодня проснулся, кислородная составляющая практически полностью отсутствовала… Перебрав в уме десяток приятелей, зазывавших в последнее время к себе на загородный отдых, он с удовлетворением остановился на Евгении Алексеевиче Лабухове.
– Ленка, поедем к Лабухову на дачу? – спросил он, легонько потормошив новую подружку, а затем нежно целуя ее в щеку.
– А кто это?
– Один мой приятель. Тоже писатель-сатирик.
– А который час?
– Почти десять…
– Хорошо, – согласилась девушка. – Только сначала я приму душ и приготовлю легкий завтрак…
– Прекрасно. А мне тоже того… не мешало бы чего-нибудь принять. Можно потяжелее. – Сергей пошарил рукой возле дивана. – Солнце, здесь вчера оставалась открытая бутылка шампанского. Или я сошел с ума?
– Ты ее, между прочим, выпил где-то под утро! Ты что, правда, ничего не помнишь? С кем я связалась?! С пропойцей! Какая же я дура!
– Очень хорошо, что дура! В этом мире существует только два способа добиться успеха: либо за счет собственного трудолюбия, либо за счет чужой глупости. А кстати, ты же говорила, что живешь с родителями? Где же они в таком случае?
– Они тоже на даче. Но, разумеется, на нашей…
– У тебя и дача есть? Это я удачно зашел.
– Удачно, удачно… – согласилась Лена и, подойдя к трельяжу, внимательно посмотрелась в зеркало. – Ой, ну и физиономия у меня…
Сергей тут же подобострастно отреагировал:
– Ставя под сомнение собственную привлекательность, вы ставите под сомнение мой вкус. Однако если возражений против легкой прогулки за город нет, надо потихоньку собираться в дорогу… Электрический поезд меньше, чем за час доставит нас в один из очаровательнейших уголков почти дикой природы…
Электричка, стремительно рассекая пространство, устремлялась все дальше и дальше в кислородные глубины родного Подмосковья. Справа тянулась равнина; налево широкие поля постепенно переходили в холм, увенчанный деревьями, среди которых мелькали приземистые домики с островерхими крышами.
– Красотища! – с умилением глядя в окно, сказала Лена. – Ты знаешь, хотя у нас и есть дача, я не была на природе уже целую вечность…
– А вон, видишь, на лужайке пасется крупный рогатый скот, – скрупулезно заметил Флюсов, – а другой скот его охраняет.
– Ты кого имеешь в виду?
– Что-то в последнее время я становлюсь циником и хамом, – грустно ответил Сергей и повернул голову в сторону неожиданно выросших в проходе трех железнодорожных контролеров.
От станции до лабуховской хибары было минут десять пехом. Лена и Сергей покрыли это расстояние с обостренным чувством раскованности коренных москвичей, оказавшихся впервые за долгое время на лоне природы.
– А вон, смотри – птички… А вон – ручеек…
– А вон – нужная нам улица, – сказал Сергей и нарочито важно, по слогам, произнес ее название – Ки-баль-чи-ча.
Дача Евгения Алексеевича Лабухова находилась на территории поселка Кратово, хорошо известного каждому москвичу – в этом песчаном районе на расстоянии всего двух десятков километров от столицы проживала исключительно элитная публика, непосредственно имеющая отношение к какому-нибудь истеблишменту: политическому, экономическому, творческому или же к какому-нибудь другому, например, – правоохранительному. Живущие на улице Кибальчича милицейские генералы понастроили здесь огромное количество разноцветных трехэтажных теремков, соревнуясь друг с другом в их монументальности и размерах земельных участков.
– Какие же вы дураки… У государства вами заниматься нет никаких возможностей, у меня – времени и желания… – частенько бубнил под нос Евгений, шкандыбая вдоль улицы с ближайшей колонки и неся в натренированных руках доверху наполненные с желтоватым оттенком водой эмалированные ведра.
Сейчас он важно стоял возле своего покосившегося, полинявшего забора и призывно всматривался в небесную голубую высь. Ее созерцание помогало Жене лучше чувствовать свой талант; чувствовать даже больше, чем гремучая смесь «Жигулевского» пива с водкой.
Увидев вышедшую из дверей соседней дачи грузную соседку Нину Ивановну Мурашеву, Евгений крикнул:
– Привет, мамаша!
– Какая я тебе, Женчик, мамаша! Ты ж еще вчера ко мне в женихи набивался, короткая же у тебя память…
– Вчера – это уже прожитый день, а сегодня я вам отказываю в предложении руки и сердца, объявляю вчерашние легкомысленные собственные утверждения дезинформацией и беру свои слова обратно относительно нежных чувств, которые я когда-то к вам питал вследствие многодневной алкогольной интоксикации…
– Чего-чего? – нахмурила лоб соседка, пытаясь вникнуть в смысл сказанного, но так ничего и не поняла.
– Отказываюсь я от тебя, Нина Ивановна! Раз и навсегда отказываюсь. И больше требую меня не шокировать вашим легкомысленным внешним видом, не склонять к гнусному сожительству и не приглашать для совместного не менее гнусного времяпрепровождения за стаканом душистого самогона.
– Во, понес! – изумилась Мурашева. – С утра, что ли, набрался… – Она убежала ненадолго в дом и вынесла Лабухову целую тарелку только что пожаренных и пахнущих прогорклым растительным маслом сырников: – Нака, закуси, Евгений Алексеевич, а то «косанет». Ударишься в запой, а в понедельник – я знаю – у тебя съемки на телевидении. Хоть ты от меня и отказался, а все равно мне будет стыдно смотреть на помятую рожу своего соседа-юмориста.
Серебристые стайки диких гусей, вытянувшись на небе замысловатой фигурой, напоминающей позолоченные гусли, уносились на юг.
– Им бы мотор от истребителя, – мечтательно посмотрев вверх, проурчал Лабухов, дожевывая маслянистый сырник. – И пару компасов с пулеметами – цены бы гусям не было. Могли бы Родину защищать!
В сладостные секунды размышлений о судьбе страны Евгений наконец-то заметил приближающуюся пару, издали усиленно махающую руками и временами даже пытающуюся сигнализировать голосом.
Приятели обнялись и троекратно расцеловались. Начал накрапывать мелкий дождь, поэтому хозяин сразу же пригласил гостей в дом.
– Для начала расположимся на веранде, у меня там всегда имеется дежурное угощение в виде горячительного, – пояснил Лабухов. – А попозже к нам, скорее всего, прибавится передовой отряд ленинградских литераторов.
– Мурай, Плотицин и еже с ними?
– Так точно!
– Это – зверская пьянь! – Было видно, что Флюсов занервничал. – Зря мы сюда приехали. Они ж наверняка будут не одни – девок с собой вульгарных притащат…
– А почему именно вульгарных? – весело спросила Лена.
– Потому что других у них просто не бывает. Другие с такой публикой, к счастью, не общаются…
– Не понимаю, что на самом деле плохого в вульгарных девушках? Мы найдем здесь и им полноценное занятие, – философски заметил Лабухов.
– Все плохо. Получается, я приехал в Тулу со своим самоваром – обидно…
– Зато самовар у тебя на редкость удачный, – захихикал Евгений.
Лена слегка оттопырила нижнюю губу, как бы показывая, что окончание диалога ей не совсем приятно.
– Не обращайте внимания – это он так шутит. Флюсов – опытный весельчак…
– Я понимаю, просто я еще не привыкла…
– Знаете что. У меня есть предложение возложить обязанности прислуги за все на мою соседку Нину Ивановну. Она женщина бойкая – организует приличный стол в один момент. Рекомендую ее вам с самых лучших сторон, главная из которых – это то, что Мурашева пьет как лошадь.
– Тогда зови!
Приглашенная Нина Ивановна быстро взяла ситуацию под контроль – под ее чутким руководством уже через четверть часа друзья имели возможность разлить холодную водку по рюмкам и приготовиться к превозглашению первого тоста.
Мурашева в молодости, в совдеповские времена была передовиком и орденоносцем. Ядреная, крупная, с пудовыми кулаками и тугой косой, она всего за несколько лет сделала головокружительную карьеру от работницы Обнинского молокозавода до заместителя председателя исполкома одного из подмосковных районов, частенько сидела в различных многочисленных президиумах – надо отметить, что это было ее хобби, – участвовала в партконференциях, короче, всегда была на виду. Еще неизвестно, чем бы закончился ее служебный рост, если бы она однажды не попалась на элементарной взятке, «сплавив» налево несколько десятков таких родных для нее доильных аппаратов. Уголовное дело, разумеется, в силу ее особых заслуг перед государством замяли, и вот теперь она мирно проводила первые пенсионные деньки на вольном воздухе.
– За знакомство и со свиданьицем! – рявкнула Нина Ивановна и, выпив, хрустнула соленым огурцом.
– За мир во всем мире! – дополнил ее хозяин и, опрокинув почти стакан, закусил грибками.
Лена пригубила совсем чуть-чуть из небольшой стеклянной рюмки с позолоченным ободком и, сморщившись, потянулась за кусочком черного хлеба. Сергей выпил молча, кивая головой на реплики присутствующих и демонстрируя тем самым, что полностью разделяет весь глубокий смысл слов, сказанных сидящими за столом.
– Чего нового в Москве? – спросил Женя. – Я уже почти целую неделю сижу здесь безвылазно…
– Ничего, – отрезал Флюсов. – Из новых впечатлений – только Ленка.
– Вы что, недавно познакомились?
– Да – вчера!
– И вы согласились поехать с незнакомым человеком на дачу? – изумилась Мурашева.
– Почему с «незнакомым»? – игриво возмутился Сергей. – За прошедшую ночь мы вполне познакомились.
– В смысле?
– В прямом. – отрезал Флюсов.
Лена смущенно загремела мельхиоровым прибором, а Сергей взял в руки лежащую на обшарпанном подоконнике пожелтевшую газету «Правда»:
– Газеты всегда возбуждают любопытство и почти никогда его не оправдывают. Так… Это газетенка за 1985 год – интересно. Посмотрим, что волновало орган ЦК КПСС в самый разгар перестройки.
– Я люблю просматривать старую прессу, – пояснил Евгений. – А этот номер валяется здесь со времен царя Гороха. В нем коммуняки развенчивают неопознанные летающие объекты и многое другое, что им, беднягам, непонятно.
– Что не вписывается в политику партии, и где они не в доле. – дополнила Мурашева. – Вот свиньи!
Сергей быстро пробежал глазами статью:
– Да, пишут, что никаких неопознанных летающих объектов нет, и все разговоры по этому поводу чистая выдумка.
– Ясно, что выдумка! Вообще в мире ничего непознанного нет, иначе за что все эти бездарные академики зарплату получают! У них же все наоборот! – схватив бутылку, Нина Ивановна быстро разлила ее содержимое по рюмкам. – Академическая лженаука поразительно тупа – это я вам официально заявляю как профессионал.
– А вы знаете три стадии признания истины? – элегантно входя в научный диспут, поинтересовалась Лена. – Нет? Первая – «это абсурд», вторая – «в этом что-то есть», третья – «это общеизвестно».
– Браво, Ленок! Какие глубокие познания! Когда я во времена выхода вот этого номера газеты работал в Институте комплексных транспортных проблем при Госплане СССР, – Флюсов жадно затянулся, – одна малограмотная тетенька защищала диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук. Так вот, в ее абсолютно бессмысленной монографии директор института, кроме полного непонимания и отсутствия всякой логики, обнаружил такое количество орфографических, морфологических и разных других ошибок, что, будучи интеллигентнейшим, воспитаннейшим руководителем, человеком, от которого за многие годы никто не слышал ни одного грубого или бранного слова, не выдержал и написал красным карандашом по диагонали на титульном листе ее диссертации: «Уволить в ПЯЗДУ!»
Все засмеялись, а Лабухов продолжил:
– Да, самонадеянность дилетантов-ученых оставляет желать лучшего. Они отрицают все, что лежит за границами их неширокого кругозора, а им бы давно пора понять: космос – живой организм, имеющий разум более совершенный, чем у человека. Люди делают одну ошибку за другой, совершая насилие над окружающим миром. Но любое терпение не безгранично и либо человечество вовремя одумается, отказавшись от технократической ереси, либо цивилизация в скором времени подойдет к тому краю, за которым уже ничего нет: ни ученых дурацких степеней, ни таких же дурацких надбавок за них к заработной плате.
– Ребята, пора по рюмахе, а то обсуждение приобретает оттенки крайней категоричности, что абсолютно не нужно в нашей ситуации…
В это время где-то возле калитки раздались многочисленные голоса вперемешку со стоном гитары.
– Кажется, еще гости. Пойду посмотрю… Это, наверное, Мурай со товарищами. – Лабухов неуверенно поднялся со стула и скользким пресмыкающимся выскользнул на улицу.
Нина Ивановна, с опаской глядевшая по сторонам, тихонько спросила:
– А вы с этими… Ну, которые должны приехать, хорошо знакомы?
– Шапочно. В общем, хорошие тихие ребята, пьющие немного больше среднего обывателя, хотя если разойдутся…
– Вот этого бы не хотелось…
– Да чего уж хорошего, – радостно поддакнул Флюсов, увидев легкий испуг соседки Мурашевой. – В прошлый раз я слышал, что они после совместного распития и на почве неприязненных отношений разбили друг другу в кровь писательские интеллигентные лица, а потом все вместе дружно попали в вытрезвитель.
– Ничего себе!!! – Нина Ивановна резким движением одернула свою юбку и, кажется, собралась уходить.
Но отступать было поздно. Вновь прибывшие уже отряхивали грязь с многочисленных ботинок, стуча ими об доски полуразвалившегося крыльца. Возглавлял процессию сам хозяин, за ним гуськом, явно подшофе, как бы по росту и ранжиру двигались: главный редактор санкт-петербургского юмористического журнала «Вокруг смеха» – поэт Андрей Мурай, его первый заместитель – лучший друг и собутыльник – литератор Виктор Плотицин, постоянный автор журнала и ведущий «детской странички» в нем же – писатель Илья Бутман. Замыкали шествие две малолетние размалеванные девицы – то ли из числа верных поклонниц питерцев, то ли просто случайных знакомых, снисходительно подобранных литераторами где-нибудь в суматохе площади трех вокзалов.
Самым колоритным из всей компании, безусловно, был Илья Бутман. Примерно лет тридцати пяти от роду, среднего роста, приятной наружности, с темно-серыми глазами и бородой и с отсутствием какой-либо мысли вкупе с сосредоточенностью в чертах лица, он сразу произвел приятное достойное впечатление на присутствующих. Глупая улыбка вальяжной светотенью искрилась в его глазах, порой собираясь на мясистых губах, порой прячась в унылых розоватых мочках ушных раковин. Цвет его лица не был ни румяный, ни смуглый, ни положительно бледный, а безразличный или казался таким, может, от недостатка движения или воздуха, а, может быть, от того и другого.
Витя Плотицин принадлежал к другой породе – крупный, высокий, объемистый в плечах, с головой гигантских размеров с длинными цыганскими прядями черных волос на коротенькой шее и глазами навыкате, он сразу напомнил Флюсову легенду о чудовище озера Лох-Несс.
«Хотя, – подумал Сергей, – у озерного монстра никаких волос, даже на многочисленных сфабрикованных авантюристами фотографиях, нет. Да и откуда им взяться?»
Движения Плотицина были размашисты, говорил он нарочитым басом, словно имея задачу всех вокруг напугать.
Андрей Мурай, будучи первым человеком в журнале, для пользы дела имел внешность невзрачную и к никакой другой не стремился.
Малолетние девицы первыми из прибывших уселись за стол и сразу сообщили массу ненужной информации о себе, своих родственниках и знакомых, увлечениях и интересах.