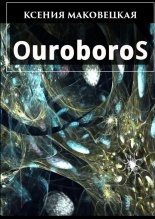Есенин глазами женщин Антология

- Есть одна хорошая песня у соловушки,
- Песня панихидная по моей головушке.
Как-то подошел к моему малышу, поднял высоко в воздух.
– Ну, Есенин, покажись, какой ты есть!
Мой годовалый Александр Сергеевич очень ко всем приветлив. Вот и сейчас с готовностью пошел на руки к «чужому дяде». Тот мурлычет:
- …Как гитара старая и как песня новая
- С теми же улыбками, радостью и муками,
- Что певалось дедами, то поется внуками.
Ставит мальчика наземь. Отворотив лицо, говорит:
– Сергей все спрашивает, каков он, черный или беленький. А я ему: не только что беленький, а просто, вот каким ты был мальчонкой, таков и есть. Карточки не нужно.
– А что Сергей на это?
– Сергей сказал: «Так и должно быть – эта женщина очень меня любила».
Не знаю, что больше меня удивило – самая ли мысль Есенина, что любящая непременно родит ребенка, похожего на отца? Или то, что он отозвался обо мне «эта женщина»? Не «она», не «эта девушка», как в те годы стали у нас называть всякую молодую женщину. Знаю, он теперь пишет мой вымышленный портрет: очень взрослая женщина, которая «сама за себя отвечает». Ведь и при второй нашей встрече в больнице (в тот раз, при Гале) он вдруг заспорил, что я старше, чем была на деле. Или и впрямь понимает, что со стороны (а может, и в собственных глазах) его поведение со мною выглядит не слишком красиво? Что и говорить, многие его осуждали, считали передо мною виноватым, но только не я сама. Меня, напротив, тяготило сознание собственной вины перед Есениным. Навязалась ему с четвертым! Более того: отступилась от него, променяв на этого нежеланного четвертого. В глазах Сергея это было с моей стороны предательством.
Да и то сказать: в те годы согласие женщины на аборт подразумевалось как нечто само собою ясное. Я шутила: аборт сейчас у нас главное противозачаточное средство.
Последняя встреча
Поздняя осень двадцать пятого. Вскоре после недавнего приезда Есенина в Ленинград (предпоследнего) «воинствующие» передали мне, что Анна Ивановна Сахарова просит меня зайти к ней: есть деловой разговор.
Я на Гагаринской. Анна Ивановна сообщает:
– У нас тут гостил Есенин. Просил меня дать ему ваш адрес. Я не дала. Сказала: сперва спрошу у нее, разрешит ли… Придете, а она вас с лестницы спустит. Уж я б на ее месте спустила!
Я еле сдержала крик досады и боли.
Сергей не только принял как должное, что я «спущу его с лестницы», но даже стал утверждать, будто я так именно и поступила. И сам поверил в свою выдумку. Поверил тем легче, что еще в августе двадцать четвертого года, когда моему сынку было всего три месяца, случилось так: я шла с няней и с ним по Гагаринской – няне надо было навестить свою семью (все в том же сахаровском дворе), а я должна была покормить грудью ребенка да заодно зайти по делу к Анне Марковне, соседке и давней подруге Анны Ивановны. Издали вижу – навстречу идет Есенин. Делаю няне знак, чтоб она с малышом на руках перешла на другую сторону. Няня подчинилась крайне неохотно, а у Сергея пробежала судорога по лицу. Затем я, как ни в чем не бывало, перекинулась с ним двумя словами – знала, что он собирается на Кавказ, даже думала, что уже уехал из Ленинграда… Отсюда и родилась сплетня, будто я «не позволила Есенину даже посмотреть на ребенка», за что младший брат Сахарова сильно меня осуждал. Нет, прямого запрета не было: когда бы сам пришел ко мне домой, с лестницы не спустила бы. Но я не захотела показывать сына при случайной встрече, да еще на этой улице, где встреча не могла показаться Сергею случайной: подумал бы, конечно, что я сама ищу встречи. Я же, напротив, дала ему знать через друзей, что прошу не приходить, пока не отлучу маленького от груди.
Я, понятно, разрешила Анне Ивановне дать мой адрес Есенину. Но в его последний приезд в Ленинград мы разминулись: на Рождество я поехала с сыном на две недели в Москву.
И еще мне рассказали тогда у Сахаровых, будто в тот свой приезд Есенин ходил на Мойку с мыслью утопиться. Но хмурая, осенняя река посмотрела на него холодной, неприютной, – не упокоит такая могила! И отказался от замысла, отложил…
– Сами знаете, – сказал мне Александр Михайлович, – он уже раз пробовал такое, вену вскрывал…
– Тогда, в двадцать четвертом году? Та черная повязка на руке?
– Ну, да! А вы что, поверили, будто он стекло подвальное продавил? Ясно же было: аккуратненько вену перерезал. Нигде, ни на руке, ни на одном пальце ни царапины. Да как вы могли поверить?
Я тогда гнала от себя страшную догадку. Ведь черную повязку на руке Сергея я увидела в канун родов.
Та встреча на Гагаринской обернулась моим последним свиданием с Есениным.
По ту сторону
Известие о гибели Есенина настигло меня в Москве. Как удар в грудь.
Двадцать шестой год. Первые дни января. Со всех сторон люди считают нужным рассказать мне, что знают, что слышали о последних неделях и днях Есенина… И здесь, в Москве, и в Ленинграде, когда вернусь…
Я у Анны Марковны. Она отличная портниха и близкая подруга Анны Ивановны Сахаровой. Крупная, броско красивая зрелая женщина с восточными огненными глазами и мощной грудью. Ее молодой муж, записной бело-розовый красавчик Коля (полного имени его я никогда не знала, для всех вокруг он просто Коля), напустив на себя многозначительный вид, рассказывает мне:
– Очень Сергей расстроился, когда Анна Ивановна отказалась дать ему ваш адрес. Он потом пил со мной весь день, вместе и заночевали. Все повторял: «Как же я низко пал, если Надя Вольпин… Надя… она любила меня больше всех… И Надя спустила меня с лестницы!»
Не «должна спустить», а «спустила»! Это больше всего поразило меня (и это кое-что сказало бы психиатру). Отметив про себя в рассказе Коли это слишком торжественное «низко пал», я переспросила:
– «Спустила»? Он так и сказал?
– Да, именно так. Но я-то понимал, что не ходил он к вам, ведь и адреса не знал.
И Коля с похвальбой в голосе добавил:
– Ну, я как мог утешил его. Дело, говорю, поправимое. Вы к ней не пустой придите, с хорошим подарком, купите что-нибудь этакое… подороже… уж как положено! А он все повторяет свое: «Как я низко пал!»… Так всю ночь и проплакал.
Больно было слушать. Коля с его «мудрым» житейским советом… Вот какими людьми был окружен в последние свои недели Сергей Есенин – верней, окружал себя… И вспомнилась мне зима с двадцать третьего на двадцать четвертый: как истинные друзья Сергея Есенина – в первую голову Иван Васильевич Грузинов – стараются выслеживать ночами Есенина по московским кабакам, приводить на место надежного ночлега, привлекая к этому делу даже меня… И вдруг пронзила мысль: а первый-то друг, Анатолий Мариенгоф? Он полностью снял с себя эту заботу!
Был в те первые послереволюционные годы в Камерном театре актер – не на ведущих ролях – Оленин. Полного имени его не помню, а звали его в нашем кругу Аликом Олениным. Он дал себе тяжелый труд выучить наизусть раннюю есенинскую поэму «Товарищ», первый отклик поэта на Февральскую революцию. Поэма была напечатана в мае семнадцатого года и рисуется мне предвестницей блоковских «Двенадцати». Поэзия Есенина давно оставила позади этот ранний опыт. Прозвучал «Небесный барабанщик», «Сорокоуст», «Пугачев». Прочтены друзьям и «Страна негодяев», и «Черный человек». А наш Алик Оленин, знай, читает с эстрады «Товарища». Эффектно читает. Особенно заключительный выкрик:
- Железное
- Слово
- «Рре-эс-пу-у-ублика!»
Над чтецом уже давно посмеиваются. Есенин несколько раз просил его добром больше «Товарища» не читать. Как горох об стену! Поэт наконец пустил в ход сильное средство: официально – от Ордена имажинистов – актера предупредили, что если он еще раз позволит себе прочесть с эстрады «Товарища», то «в уплату получит по морде». Подействовало.
Не прошло, однако, и недели со дня смерти Сергея Есенина. В московском Доме печати вечер памяти погибшего поэта. Одним из первых выходит на эстраду Алик Оленин и читает… ну, конечно же, «Товарища»! Ох, и хотелось мне, чтобы кто из друзей в память ушедшего выдал чтецу обусловленную плату.
Нет, никто не счел нужным «расплатиться»…
Я шла с вечера домой, думая о том, как теперь в памяти людской беззащитен поэт: от зависти тайной и злобы открытой, от ядовитой клеветы друзей.
Год двадцать шестой. Январь или февраль?
Приехал в Ленинград мой двоюродный брат Валентин Иванович Вольпин. Привез подарок – недавно вышедшие из печати три тома «Собрания сочинений» Есенина (напомню: четвертый том первоначальным планом не был предусмотрен, и самая мысль о нем возникла лишь после смерти поэта).
Печальный дар! Но очень желанный.
Время шло. Я давно снова живу постоянно в Москве, на Самотеке. Год тридцать девятый (или сороковой?).
Как-то иду по Самотечному бульвару, и навстречу мне Анатолий Борисович Мариенгоф. Он горячо жмет мне руку, как дорогой родственнице. Точно в прошлом вовсе не старался, как только мог, оттягивать от меня Есенина. Говорит:
– Мне очень хотелось бы познакомить наших сыновей. Пусть они растут друзьями. Такими, как мы с Сергеем! Пусть возродят нашу молодость!
Я не возражаю, хоть и не верю в искусственное возрождение молодости, ни в дружбу по заказу. Уговариваемся, когда ему прийти ко мне со своим Кириллом… Однако ни дружбе, ни даже знакомству сыновей не суждено было завязаться… Через несколько дней я узнала, что Кирилл – ему тогда было лет шестнадцать – покончил с собой. Тем же способом, что и Есенин.
И мне представилось: сын Мариенгофа через долгие годы завершил своею смертью ту длинную череду самоубийств, которой якобы отозвалась Москва на гибель Сергея Есенина. То была переломная полоса. Многие, многие тогда свели счеты с жизнью. И чуть не каждый, в чем бы ни была причина его самоубийства, считал нужным оставить рядом с предсмертной запиской раскрытый томик Есенина. «Никого не винить». Или скажете: «некого винить»? Ан есть кого: вините поэта!
На этом я позволю себе – без послесловий – оборвать мои записи. Как самочинно оборвал свою жизнь Сергей Есенин.
1984
Вместо заключения
Южный ветер
- Февральский ветер южный,
- Ты саднишь сердце мне,
- Как память прежней дружбы,
- Как свет в чужом окне.
- Скрипел под килем гравий,
- Горели три огня.
- Закат лениво грабил
- Руду слепого дня.
- «Прощай, Надия, – кормчий
- Неласково сказал, —
- В солончаковой почве
- Не прорастет лоза».
- И он ушел – по ветру
- То имя расплескать,
- Что мне дала в примету,
- Любя и веря, мать.
- Бывают страшны штормы,
- Бывает зыбь страшна,
- Но пыткой самой черной
- Измает тишина.
- Тот искус был иль не был?
- Простор два года пуст,
- Два года пусто небо,
- А воздух сух и густ.
- Ты все ж вернулся, блудный!
- Что счастьем назовут?
- …На дальнем рейде судно
- Тонуло, сев на ют.
- И я сквозь сумрак древний
- Успела прочитать
- То имя на форштевне,
- Что нарекла мне мать.
- Не взмах руки горячей,
- Не лоб высокий твой:
- Как великан незрячий,
- На берег шел прибой.
- Пришел. Чужой, недужный,
- Залег меж серых скал.
- Он шею гнул натужно,
- Он плечи разминал.
- С набухшей гривы молча
- Он пену отжинал…
- А ночь над миром волчьим
- Склонилась, как жена.
- И память прежней дружбы
- Томила сердце мне,
- Как в стужу ветер южный,
- Как свет в чужом окне.
Н. В. Крандиевская-Толстая
Сергей Есенин и Айседора Дункан. Встречи
– У нас гости в столовой, – сказал Толстой, заглянув в мою комнату. – Клюев привел Есенина. Выйди, познакомься. Он занятный.
Я вышла в столовую. Поэты пили чай. Клюев, в поддевке, с волосами, разделенными на пробор, с женскими плечами, благостный и сдобный, похож был на церковного старосту. Принимая от меня чашку с чаем, он помянул про великий пост. Отпихнул ветчину и масло. Чай пил «по-поповски», накрошив в него яблоко. Напившись, перевернул чашку, перекрестился на этюд Сарьяна и принялся читать нараспев вполне доброкачественные стихи. Временами, однако, чересчур фольклорное какое-нибудь словечко заставляло насторожиться. Озадачил меня также его мизинец с длинным, хорошо отполированным ногтем.
Второй гость, похожий на подростка, скромно покашливал. В голубой косоворотке, миловидный, льняные волосы уложены бабочкой на лбу. С первого взгляда – фабричный паренек, мастеровой. Это и был Есенин.
На столе стояли вербы. Есенин взял темно-красный прутик из вазы.
– Что мышата на жердочке, – сказал он вдруг и улыбнулся.
Мне понравилось, как он это сказал, понравился юмор, блеснувший в озорных глазах, и все в нем вдруг понравилось. Стало ясно, что за простоватой его внешностью светится что-то совсем не простое и не обычное.
Крутя вербный прутик в руках, он прочел первое свое стихотворение, потом второе, потом третье. Он читал много в тот вечер. Мы были взволнованы стихами, и не знаю, как это случилось, но в благодарном порыве, прощаясь, я поцеловала его в лоб, прямо в льняную бабочку, ставшую вдруг такою же милою мне, как и все в его облике.
В передней, по-мальчишески качая мою руку в последнем рукопожатии, Есенин сказал:
– Я к вам опять приду. Ладно?
– Приходите, – откликнулась я.
Но больше он не пришел.
Это было весной 1917 года[27], в Москве, и только через пять лет мы встретились снова, в Берлине, на тpoтyapax Курфюрстендама.
На Есенине был смокинг, на затылке – цилиндр, в петлице – хризантема. И то, и другое, и третье, как будто бы безупречное, выглядело на нем по-маскарадному. Большая и великолепная Айседора Дункан, с театральным гримом на лице, шла рядом, волоча по асфальту парчовый подол.
Ветер вздымал лиловато-красные волосы на ее голове. Люди шарахались в сторону.
– Есенин! – окликнула я.
Он не сразу узнал меня. Узнав, подбежал, схватил мою руку и крикнул:
– Ух ты. Вот встреча! Сидора, смотри кто…
– Qui est-ce?[28] – спросила Айседора. Она еле скользнула по мне сиреневыми глазами и остановила их на Никите, которого я вела за руку.
Долго, пристально, как бы с ужасом, смотрела она на моего пятилетнего сына, и постепенно расширенные атропином глаза ее ширились все больше, наливаясь слезами.
– Сидора! – тормошил ее Есенин. – Сидора, что ты?
– Oh, – простонала она наконец, не отрывая глаз от Никиты – Oh, oh!.. – И опустилась на колени перед ним, прямо на тротуар.
Перепуганный Никита волчонком глядел на нее. Я же поняла все. Я старалась поднять ее. Есенин помогал мне. Любопытные столпились вокруг. Айседора встала и, отстранив меня от Есенина, закрыв голову шарфом, пошла по улицам, не оборачиваясь, не видя перед собой никого, – фигура из трагедий Софокла. Есенин бежал за нею в своем глупом цилиндре, растерянный.
– Сидора, – кричал он, – подожди! Сидора, что случилось?
Никита горько плакал, уткнувшись в мои колени.
Я знала трагедию Айседоры Дункан. Ее дети, мальчик и девочка, погибли в Париже, в автомобильной катастрофе, много лет тому назад.
В дождливый день они ехали с гувернанткой в машине через Сену. Шофер затормозил на мосту, машину занесло на скользких торцах и перебросило через перила в реку. Никто не спасся.
Мальчик был любимец Айседоры. Его портрет на знаменитой рекламе английского мыла Pears’a известен всему миру. Белокурый голый младенец улыбается, весь в мыльной пене. Говорили, что он похож на Никиту, но в какой мере он был похож на Никиту, знать могла одна Айседора. И она это узнала, бедная.
В этот год Горький жил в Берлине.
– Зовите меня на Есенина, – сказал он однажды, – интересует меня этот человек.
Было решено устроить завтрак в пансионе Фишер, где мы снимали две большие меблированные комнаты. В угловой, с балконом на Курфюрстендам, накрыли длинный стол по диагонали. Приглашены были: Айседора Дункан, Есенин и Горький[29].
Айседора пришла, обтекаемая многочисленными шарфами пепельных тонов, с огненным куском шифона, перекинутым через плечо, как знамя. В этот раз она была спокойна, казалась усталой. Грима было меньше, и увядающее лицо, полное женственной прелести, напоминало прежнюю Дункан.
Три вещи беспокоили меня как хозяйку завтрака.
Первое – это чтобы не выбежал из соседней комнаты Никита, запрятанный туда на целый день. Второе заключалось в том, что разговор у Есенина с Горьким, посаженными рядом, не налаживался. Я видела, Есенин робеет как мальчик. Горький присматривается к нему. Третье беспокойство внушал хозяин завтрака, непредусмотрительно подливавший водку в стакан Айседоры (рюмок для этого напитка она не признавала). Следы этой хозяйской беспечности были налицо.
– За русский революсс! – шумела Айседора, протягивая Алексею Максимовичу свой стакан. – Ecoutez[30], Горки! Я будет тансоват seulement[31] для русски революсс. C’est beau[32] русски революсс!
Алексей Максимович чокался и хмурился. Я видела, что ему не по себе. Поглаживая усы, он нагнулся ко мне и сказал тихо:
– Эта пожилая барыня расхваливает революцию, как театрал – удачную премьеру. Это она – зря. – Помолчав, он добавил: – А глаза у барыни хороши. Талантливые глаза.
Айседора Дункан
Так шумно и сумбурно проходил завтрак. После кофе, встав из-за стола, Горький попросил Есенина прочесть последнее написанное им.
Есенин читал хорошо, но, пожалуй, слишком стараясь, нажимая на педали, без внутреннего покоя. (Я с грустью вспоминала вечер в Москве, на Молчановке.) Горькому стихи понравились, я это видела. Они разговорились. Я глядела на них, стоящих в нише окна Как они были не похожи! Один продвигался вперед, закаленный, уверенный в цели, другой шел как слепой, на ощупь, спотыкаясь, – растревоженный и неблагополучный.
Позднее пришел поэт Кусиков, кабацкий человек в черкеске, с гитарой. Его никто не звал, но он как тень всюду следовал за Есениным в Берлине.
Айседора пожелала танцевать. Она сбросила добрую половину шарфов своих, оставила два на груди, один на животе, красный накрутила на голую руку, как флаг, и, высоко вскидывая колени, запрокинув голову, побежала по комнате, в круг. Кусиков нащипывал на гитаре «Интернационал». Ударяя руками в воображаемый бубен, она кружилась по комнате, отяжелевшая, хмельная менада. Зрители жались по стенкам. Есенин опустил голову, словно был в чем-то виноват. Мне было тяжело Я вспоминала ее вдохновенную пляску в Петербурге пятнадцать лет тому назад. Божественная Айседора! За что так мстило время этой гениальной и нелепой женщине?
Этот день решено было закончить где-нибудь на свежем воздухе. Кто-то предложил Луна-парк. Говорили, что в Берлине он особенно хорош.
Был воскресный вечер, и нарядная скука возглавляла процессию праздных, солидных людей на улицах города. Они выступали, бережно неся на себе, как знамя благополучия, свое Sonntagskleid[33], свои новые, ни разу не бывавшие в употреблении зонтики и перчатки, солидные трости, сигары, сумки, мучительную, щегольскую обувь, воскресные котелки. Железные ставни были спущены на витрины магазинов, и от этого город казался просторнее и чище.
Компания наша разделилась по машинам. Голова Айседоры лежала на плече у Есенина, пока шофер мчал нас по широкому Курфюрстендаму.
– Mais dis-moi souka, dis-moi ster-r-rwa…[34] – лепетала Айседора, ребячась, протягивая губы для поцелуя.
– Любит, чтобы ругал ее по-русски, – не то объяснял, не то оправдывался Есенин, – нравится ей. И когда бью – нравится. Чудачка!
– А вы бьете? – спросила я.
– Она сама дерется, – засмеялся он уклончиво.
– Как вы объясняетесь, не зная языка?
– А вот так: моя – твоя, моя – твоя… – И он задвигал руками, как татарин на ярмарке. – Мы друг друга понимаем, правда, Сидора?
За столиком в ресторане Луна-парка Айседора сидела усталая, с бокалом шампанского в руке, глядя поверх людских голов с таким брезгливым прищуром и царственной скукой, как смотрит австралийская пума из клетки на толпу надоевших зевак.
Вокруг немецкие бюргеры пили свое законное воскресное пиво. Труба ресторанного джаза пронзительно-печально пела в вечернем небе. На деревянных скалах грохотали вагонетки, свергая визжащих людей в проверенные бездны. Есенин паясничал перед оптическим зеркалом вместе с Кусиковым. Зеркало то раздувало человека наподобие шара, то вытягивало унылым червем. Рядом грохотало знаменитое «железное море», вздымая волнообразно железные ленты, перекатывая через них железные лодки на колесах. Несомненно, бредовая фантазия какого-то мрачного мизантропа изобрела этот железный аттракцион, гордость Берлина! В другом углу сада бешено крутящийся щит, усеянный цветными лампочками, слепил глаза до боли в висках. Странный садизм лежал в основе большинства развлечений. Горькому они, видимо, не очень нравились. Его узнали в толпе, и любопытные ходили за ним, как за аттракционом. Он простился с нами и уехал домой.
Вечеру этому не суждено было закончиться благополучно. Одушевление за нашим столиком падало, ресторан пустел. Айседора царственно скучала. Есенин был пьян, невесело, по-русски пьян, философствуя и скандаля. Что-то его задело и растеребило во встрече с Горьким.
– А ну их к собачьей матери, умников! – отводил он душу, чокаясь с Кусиковым. – Пушкин что сказал? «Поэзия, прости господи, должна быть глуповата». Она, брат, умных не любит! Пей, Сашка!
Это был для меня новый Есенин. Я чувствовала за его хулиганским наскоком что-то привычно наигранное, за чем прятались не то разобиженность, не то отчаянье. Было жаль его, и хотелось скорей кончить этот не к добру затянувшийся вечер.
Айседора и Есенин занимали две большие комнаты в отеле «Адлен» на Унтер-ден-Линден. Они жили широко, располагая, по-видимому, как раз тем количеством денег, какое дает возможность пренебрежительного к ним отношения. Дункан только что заложила свой дом в окрестностях Лондона и вела переговоры о продаже дома в Париже. Путешествие по Европе в пятиместном «бьюике», задуманное еще в Москве, совместно с Есениным, требовало денег, тем более что Айседору сопровождал секретарь-француз, а за Есениным увязался поэт Кусиков. Автомобиль был единственным способом передвижения, который признавала Дункан. Железнодорожный вагон вызывал в ней брезгливое содрогание; говорят, что она никогда не ездила в поездах.
Айседора вообще была женщина со странностями. Несомненно умная, по-особенному, своеобразно, с претенциозным уклоном удивить, ошарашить собеседника. Эту черту словесного озорства я наблюдала позднее у другого ее соотечественника, блестящего Бернарда Шоу.
Айседора, например, утверждала: «Большинство общественных бедствий оттого, что люди не умеют двигаться. Они делают много лишних и неверных движений».
Мысли эти она развивала в форме забавных афоризмов, словно поддразнивая собеседника. Узнав, что я пишу, она усмехнулась недоверчиво:
– Есть ли у вас любовник, по крайней мере? Чтобы писать стихи, нужен любовник.
Отношение Дункан ко всему русскому было подозрительно восторженным. Порой казалось: пресыщенная, утомленная славой женщина не воспринимает ли и Россию, и революцию, и любовь Есенина как злой аперитив, как огненную приправу к последнему блюду на жизненном пиру?
Ей было лет сорок пять. Она была еще хороша, но в отношениях ее к Есенину уже чувствовалась трагическая алчность последнего чувства.
Однажды ночью к нам ворвался Кусиков, попросил взаймы сто марок и сообщил, что Есенин сбежал от Айседоры.
– Окопались в пансиончике на Уландштрассе, – сказал он весело, – Айседора не найдет. Тишина, уют. Выпиваем, стихи пишем. Вы смотрите не выдавайте нас.
Но Айседора села в машину и объехала за три дня все пансионы Шарлотенбурга и Курфюрстендама. На четвертую ночь она ворвалась, как амазонка, с хлыстом в руке в тихий семейный пансион на Уландштрассе. Все спали. Только Есенин в пижаме, сидя за бутылкой пива в столовой, играл с Кусиковым в шашки. Вокруг них в темноте буфетов на кронштейнах, убранных кружевами, мирно сияли кофейники и сервизы, громоздились хрустали, вазочки и пивные кружки. Висели деревянные утки вниз головами. Солидно тикали часы. Тишина и уют, вместе с ароматом сигар и кофе, обволакивали это буржуазное немецкое гнездо, как надежная дымовая завеса, от бурь и непогод за окном. Но буря ворвалась и сюда в образе Айседоры. Увидя ее, Есенин молча попятился и скрылся в темном коридоре. Кусиков побежал будить хозяйку, а в столовой начался погром.
Айседора носилась по комнатам в красном хитоне, как демон разрушения. Распахнув буфет, она вывалила на пол все, что было в нем. От ударов ее хлыста летели вазочки с кронштейнов, рушились полки с сервизами. Сорвались деревянные утки со стены, закачались, зазвенели хрустали на люстре. Айседора бушевала до тех пор, пока бить стало нечего. Тогда, перешагнув через груды черепков и осколков, она прошла в коридор и за гардеробом нашла Есенина.
– Quittez ce bordel immdiatement, – сказала она ему спокойно, – et suivez-moi[35].
Есенин надел цилиндр, накинул пальто поверх пижамы и молча пошел за ней. Кусиков остался в залог и для подписания пансионного счета.
Этот счет, присланный через два дня в отель Айседоре, был страшен. Было много шум и разговоров. Расплатясь, Айседора погрузила свое трудное хозяйство на два многосильных «мерседеса» и отбыла в Париж, через Кельн и Страсбург, чтобы в пути познакомить поэта с готикой знаменитых соборов.
<1958>
Г. А. Бениславская
Воспоминания о Есенине
1920 год. Осень. «Суд над имажинистами». Большой зал консерватории. Холодно и не топлено. Зал молодой, оживленный. Хохочут, спорят и переругиваются из-за мест (места ненумерованные, кто какое займет). Нас целая компания. Пришли потому, что сам Брюсов председатель. А я и Яна[36] – еще и голос Шершеневича послушать, очень нам нравился тогда его голос. Уселись в первом ряду. Но так как я опоздала и место, занятое для меня, захватили, добываю где-то стул и смело ставлю спереди слева, перед креслами первого ряда.
Наконец на эстраду выходят. «Подсудимые» садятся слева группой в пять человек. Шершеневич, Мариенгоф и еще кто-то[37].
Почти сразу же чувствую на себе чей-то любопытный, чуть лукавый взгляд. Вот ведь нахал какой, добро бы Шершеневич – у того хоть такая заслуга, как его голос. А этот мальчишка, поэтишка какой-нибудь. С возмущением сажусь вполоборота, говорю Яне: «Вот нахал какой».
Суд начинается. Выступают от разных групп: неоклассики, акмеисты, символисты – им же имя легион. «Подсудимые» переговариваются, что-то жуют, смеются. (Я на ухо Яне сообщила, что жуют кокаин; я тогда не знала, что его – нюхают или жуют.) В их группе Шершеневич, Мариенгоф, Грузинов, Есенин и их «защитник» – Федор Жиц. Слово предоставляется «подсудимым». Кто и что говорил – не помню, даже скучно стало. Вдруг выходит тот самый мальчишка: короткая, нараспашку оленья куртка, руки в карманах брюк и совершенно золотые волосы, как живые. Слегка откинув назад голову и стан, начинает читать:
- Плюйся, ветер, охапками листьев, —
- Я такой же, как ты, хулиган.
Он весь стихия, озорная, непокорная, безудержная стихия, не только в стихах, а в каждом движении, отражающем движение стиха. Гибкий, буйный, как ветер, с которым он говорит, да нет, что ветер, ветру бы у Есенина призанять удали. Где он, где его стихи и где его буйная удаль – разве можно отделить. Все это слилось в безудержную стремительность, и захватывают, пожалуй, не так стихи, как эта стихийность.
Думается, это порыв ветра такой с дождем, когда капли не падают на землю и они не могут и даже не успевают упасть.
Или это упавшие желтые осенние листья, которые нетерпеливой рукой треплет ветер, и они не могут остановиться и кружатся в водовороте.
Или это пламенем костра играет ветер и треплет и рвет его в лохмотья, и беспощадно треплет самые лохмотья.
Или это рожь перед бурей, когда под вихрем она уже не пригибается к земле, а вот-вот, кажется, сорвется с корня и понесется неведомо куда.
Нет. Это Есенин читает «Плюйся, ветер, охапками листьев…». Но это не ураган, безобразно сокрушающий деревья, дома и все, что попадается на пути. Нет. Это именно озорной, непокорный ветер, это стихия не ужасающая, а захватывающая. И в том, кто слушает, невольно просыпается та же стихия, и невольно хочется за ним повторить с той же удалью: «Я такой же, как ты, хулиган».
Потом он читал «Трубит, трубит погибельный рог!..».
Что случилось после его чтения, трудно передать. Все вдруг повскакивали с мест и бросились к эстраде, к нему. Ему не только кричали, его молили: «Прочитайте еще что-нибудь». И через несколько минут, подойдя, уже в меховой шапке с собольей оторочкой, по-ребячески прочитал еще раз «Плюйся, ветер…».
Опомнившись, я увидела, что я тоже у самой эстрады. Как я там очутилась, не знаю и не помню. Очевидно, этим ветром подхватило и закрутило и меня.
Когда Шершеневич сказал, что через полторы недели они устраивают свой вечер, где они будут судить поэзию, я сразу решила, что пойду.
Что случилось, я сама еще не знала. Было огромное обаяние в его стихийности, в его полубоярском, полухулиганском костюме, в его позе и манере читать, хотелось его слушать, именно слушать еще и еще.
А он вернулся на то же место, где сидел, и опять тот же любопытный и внимательный, долгий – так переглядываются со знакомыми, взгляд в нашу сторону. Мое негодование уже забыто, только неловко стало, что сижу так на виду, перед первым рядом.
Эти полторы недели прошли под гипнозом его стихов.
Второй вечер был в Политехническом музее. Тоже не топлено, и тоже молодая, озорная, резвая публика, тоже ненумерованные места. Первые ряды захватили те, кто пришел в 6 часов вечера, за два часа до начала.
Всего вечера я уж не помню. С этих пор на всех вечерах все, кроме Е., было как в тумане. Помню только, как во время суда имажинистов над современной поэзией из зала раздался зычный голос Маяковского о том, что он кое-что знает о незаконном рождении этих эпигонов футуризма (что-то в этом роде). Через весь зал шагнул Маяковский на эстраду. А рядом с ним, таким огромным и зычным, Е. пытается перекричать его: «Вырос с версту ростом и думает, мы испугались, – не запугаешь этим». В конце вечера С. А. читал стихи, кажется «Исповедь». Читал так же, как и первый раз. Он раньше, до «Страны негодяев», читал всегда с буйством, с порывом.
Я с Яной сидела во втором ряду. Е. весь вечер, когда не читал, а сидел на эстраде, почти все время упорно смотрел в нашу сторону. После окончания, он как раз читал последним, я до сих пор не знаю, как и почему очутилась там, за кулисами. По словам Яны, я сорвалась и бросилась по лестнице на эстраду, потянув и ее за собой. Опомнилась я, уже стоя в узком проходе; за сценой направо в дверь был виден Е. «Яна, ройся в своем портфеле, ищи чего-нибудь там» (это чтобы удобнее было тут стоять). Яна, ошеломленная, выполняет. Вдруг Е. нагло подлетает вплотную и останавливается около меня. Не знаю отчего, но я почувствовала, что надо дать отпор; чем-то его выходка оскорбила меня, и мелькнула мысль: «Как к девке подлетел». – «Извините, ошиблись». И, резко повернувшись, умышленно резким тоном сказала Яне: «Ну, чего ты копаешься, пойдем же». С какой физиономией С. А. остался – не знаю.
Но уже выйдя из музея – цепь мыслей. Такого, не именно его, а вообще такого, могу полюбить. Быть может, уже люблю. И на что угодно для него пойду. Только удивилась: читала в романах, а в жизни не знала, что так «скоропостижно» вспыхивает это. Поняла: да ведь это же и есть именно тот «принц», которого ждала. И ясно стало, почему никого не любила до сих пор. (В 1920 г. мне было 23 года. Единственное увлечение до тех пор я испытала в 1916 г. Как мне вообще свойственно, это был порыв. Были даже поцелуи. Но через два месяца всякое чувство само собой прошло. И с тех пор до С. А. мне и не снилось, что я способна полюбить.) Не любила потому, что слишком большие требования были (подсознательно), много надо было творческого огня и стихии в человеке, чтобы захватить меня своим романтизмом. А это я первый раз почувствовала в Е. В этот же вечер отчетливо поняла – здесь все могу отдать: и принципы (не выходить замуж), и – тело (чего до тех пор не могла даже представить себе), и не только могу, а даже, кажется, хочу этого. Знаю, что сразу же поставила крест на своей мечте о независимости и подчинилась. Тот отпор его наглой выходке был дан так, для фасона. Но не знала тогда, что в будущем, и сравнительно недалеком, буду бороться в себе с этим чувством, буду стараться изменять ему, раздувать в себе малейшее расположение к другим, лишь бы освободиться от С. А., от этой блаженной и вместе с тем мучительной болезни. Не знала ни о чем, ни о каких последствиях не думала, а так, не задумываясь, потянулась, как к солнцу, к нему.
Яне несдержанно сообщила, что очень понравился Е. «Ну да, он все время на тбя смотрел, потому и понравился». Обозлилась на Яну, но мне было все равно, куда идти, куда иду. Только бы за ним. Причем это «за ним» было совершенно бесцельно. Ничего не собиралась добиваться, я только не могла и не хотела не думать о нем, не искать возможности увидеть и услышать его. И главное для меня в нем был не поэт, а эта бешеная стихийность. Ведь стихи можно в книгах читать, слушать на вечерах. Но для меня это никогда, ни до, ни после, не связывалось с личностью поэта. И позже, уже имея возможность всегда видеть его, когда он начинал читать стихи, я не раз думала, что, кроме всего этого, я могу еще слушать от него самого только что написанные стихи. В этот день пришла домой внешне спокойная, а внутри сплошное ликование, как будто, как в сказке, волшебную заветную вещь нашла. С этого вечера до осени 1922 г. (два года) я засыпала с мыслью о нем, и, когда просыпалась, первая мысль была о С. А., так же как в детстве первой мыслью бывает: «Есть ли сегодня солнце?»
Г. Бениславская
Открылось «Стойло» – клуб «Ассоциации вольнодумцев» (они же и имажинисты). Почти каждый вечер там чей-нибудь доклад. Жаркие, ожесточенные, задорные и вместе с тем веселые споры об образе, о форме и содержании, об урбанизме (извечная пропасть между Мариенгофом и Есениным). Однажды доклад Якулова. Е., как и все вечера, поглядывает в нашу сторону (была я и моя подруга Л<идия> Б<ерестова>, Яна не пришла) и вдруг направляется <к нам> и, нагибаясь ко мне, на ухо, как-то взволнованно и грубо, вполголоса говорит: «Послушайте, но так же нельзя, вы каждый вечер сюда ходите…» Тут уж меня взорвало (надо сказать, я много слыхала об его дерзости) – ясно, что сейчас добавит: «из-за меня» или что-нибудь в этом роде. Ну, думаю, и в дураках же ты будешь, так же нагло отвечу: «Да вы что, с ума сошли? Вас-то меньше всего заметила». Все эти мысли в одно мгновение пронеслись в голове, а он в это время доканчивает фразу: «…Я уже сказал в кассе, чтобы вас пропускали как своих, без билета. Скажите фамилию, и я велю кассирше записать». У меня на душе отлегло, но тут же соображаю: нет, таким способом мою фамилию не удастся узнать – и называю бесцеремонно три подряд: Козловская, Бениславская, Берестова. Он пошел к кассирше и, возвращаясь, сообщает, что «я распорядился».
Прошло несколько дней. Ни Яна, ни Лида не могли пойти в «Стойло», иду одна. Вошла. Вечер еще не начался; вдруг ко мне направляется (я глазам не верю) Есенин, здоровается и спрашивает: «Правда, у нас хорошо стало с музыкой?» (Первый вечер в «Стойле» играл оркестр, тот, который много лет до скончания «Стойла» томил нам душу.) Насчет качества музыки я усомнилась, но в общем весь вечер мы проговорили с Е. Говорили о Маяковском. «Да это ж не поэзия, у него нет ни одного образа», – убеждал С. А. Я обещала специально отметить карандашом образы Маяковского и принести в следующий раз. Потом говорили вообще о поэзии и о всяких прочих вещах. С. А. был какой-то очень кроткий и ласковый.
На следующий день Яна не верит, что я познакомилась с Есениным. У меня, правда, ликующие глаза. Но ведь совершенно невероятно, чтобы случилось именно так, как я лишь смутно сама предполагала. «Ну что ж, на следующий вечер пойдем, увидим». А сама со страху думаю: не во сне ли приснилось мне? Вдруг приду с Яной и оскандалюсь. Он не узнает даже.
Вечером сидим в «Стойле», входит С. А. и сразу направляется ко мне. Я даже Яну познакомила с ним.
Я и Яна идем мимо лавки на Никитской. Прошли. Яна, заглянув в окно, увидела, что там Е., без шапки, в костюме. Нечаянно я оглядываюсь на улице: за нами Е., в шубе, без шапки, со связкой книг. Мы несколько дней его не видели. Яну он не узнал. Пришлось знакомить вторично. «Ну, как живете, что делаете?» И я, вероятно от смущения, отвечаю: «Ничего, за билетами на концерты ходим». Только когда почувствовала толчок Яниным локтем, поняла, что сморозила глупость. Заговорили о критике. С. А. очень интересовался статьями о литературе в зарубежных газетах. Яна обещала ему доставать. Больше всего интересовался статьями и заметками о нем самом и об имажинистах вообще. Поэтому я и Яна доставали ему много газет. Я добывала в информбюро ВЧК, а для этого приходилось просматривать целые комплекты «Последних новостей», «Дня» и «Руля».
И с того дня у меня в «Стойле» щеки всегда как маков цвет. Зима, люди мерзнут, а мне хоть веером обмахивайся. И с этого вечера началась сказка. Тянулась она до июня 1925 года. Несмотря на все тревоги, столь непосильные моим плечам, несмотря на все раны, на всю боль – все же это была сказка. Все же было такое, чего можно не встретить не только в такую короткую жизнь, но и в очень длинную и очень удачную жизнь.
Как-то раз Яна достала какие-то газеты. Передали их Е. (Мы по-прежнему всегда ходили вместе – таким образом легче было скрыть правду наших отношений с С. А.) Заходим за этими газетами. Оказывается, Мариенгоф передал их Шершеневичу. Мы рассердились, т. к. газеты были нужны. Е. погнал Мариенгофа к Вадиму Габр<иэлевичу>. Потом оделся и вместе со мной и Яной пошел туда же. Это был первый ласковый день после зимы. Вдруг всюду побежали ручьи. Безудержное солнце. Лужи. Скользко. Яна всюду оступается, скользит и чего-то невероятно конфузится; я и С. А. всю дорогу хохочем. Весна – весело. Рассказывает, что он сегодня уезжает в Туркестан. «А Мариенгоф не верит, что я уеду». Дошли до Камергерской книжной лавки.
Пока Ш<ершеневич> куда-то ходил за газетами, мы стоим на улице у магазина. Я и Яна – на ступеньках, около меня С. А., подле Яны – А<натолий> Б<орисович>. Разговаривали о советской власти, о Туркестане. Неожиданно радостно и как будто с мистическим изумлением С. А., глядя в мои глаза, обращается к Анат<олию> Бор<исовичу>: «Толя, посмотри, – зеленые. Зеленые глаза».
Но в Туркестан все-таки уехал – подумала я через день, узнав, что его нет уже в Москве. Правда, где-то в глубине знала, что теперь уже запомнилась ему.
С этих пор пошли длинной вереницей бесконечно радостные встречи, то в лавке, то на вечерах, то в «Стойле». Я жила этими встречами – от одной до другой. Стихи его захватили меня не меньше, чем он сам. Потому каждый вечер был двойной радостью: и стихи, и он.
Мы узнали уже, что Е. женат и у него ребенок. Я все пробовала представить себе его ходящим по комнате с ребенком на руках и вообще в этом быту пеленок и пр. (а в те «голые годы» ребенок неизбежно создавал такой быт), и никак такая картина не укладывалась в голову, больно не шло к нему это.
Ноябрь 1920.
Утро. Я работаю у себя на службе. Напротив сидит Кр-ко[38]. Телефонный звонок. Яна: «Слушай, могу сообщить приятную тебе вещь! Оказывается, Е. разошелся со своей женой!» У меня, как говорится, упало сердце, я обозлилась, обругала ее и бросила трубку. Много раз потом я вспоминала этот разговор – почему меня это так задело, почему я обозлилась? Вот что пронеслось молнией в голове: «Есть жена, он ее любит (тогда я еще воображала, что только купцы и фабриканты могут не любить жен и жить с ними), значит, я могу быть спокойной и оставаться пассивной. Любить я могу сколько угодно – и только!..» Становиться на чьем-либо пути тогда я не была способна. Узнав, что он «свободен», для меня ясно, что раз никаких внешних преград нет, то я пойду на все. Я не могу не пойти – это моя внутренняя обязанность завоевывать то, на что я имею право. Почувствовала, что это скорее страшно, а не радостно. Во всяком случае, было ощущение чего-то рокового. И еще – значит, кто-то из них (Е. или жена) несчастен, а я уже тогда любила Е. так же, как и потом всю жизнь, и, увы, не могла радоваться несчастью человека, близкого ему, даже если на этом строилось мое счастье. Смешно и странно, но я до самой могилы – романтик, при всей моей внешней рассудочности и при всем моем «цинизме», как это называет Яна.
Вышли из Политехн<ического>. Идем издалека, решив проследить, где ж он живет. А непосредственно за ним толпа девиц, с возгласами: «Душка Е.!» и т. п. Помню, коробило очень, и обидно было и за него и за себя, хотя мы и шли по другой стороне, не подавая вида, что интересуемся им.
На углу Тверской и Охотного девицы отстали, а мы провожали по всей Никитской, до д<ома> 24, в подъезде которого он скрылся. Было ясно, что <он> живет именно в этом доме. И очень не скоро мы узнали об этой ошибке. Но долго потом этот дом у нас иначе, как «покинутым храмом», не назывался, и по инерции проходили мимо него со страхом и надеждой встретить Е.
В Политехническом музее объявлен конкурс поэтов.
Я и Яна ждем его с нетерпением. Пришли на вечер, заняли наши места (второй ряд, посередине).
Наивность наша в отношении Есенина не знала пределов. За кого ж нам голосовать? Робко решаем – за Е.; смущены, потому что не понимаем – наглость это с нашей стороны или мы действительно правы в нашем убеждении, что Е. первый поэт России. Но все равно голосовать будем за него.
И вдруг – разочарование! Участвует всякая мелюзга, а Е. даже не пришел. Скучно и неинтересно стало. Вдруг поворачиваю голову налево к выходу и… внизу у самых дверей виднеется золотая голова! Я вскочила с места и на весь зал вскрикнула: «Е. пришел!» Сразу суматоха и переполох. Начался вой: «Есенина, Есенина, Есенина!» Часть публики шокирована. Ко мне с насмешкой кто-то обратился: «Что, вам про луну хочется послушать?» Огрызнулась только и продолжала с другими вызывать Есенина.
Есенина на руках втащили и поставили на стол – не читать невозможно было, все равно не отпустили бы. Прочел он немного, в конкурсе не участвовал, выступал вне конкурса, но было ясно, что ему и незачем участвовать, ясно, что он, именно он – первый. Дальше, как и обычно, я ничего не помню[39].
«Гранд Отель
Пурвилль на море.
19-го июня 1923 г.
Господин Есенин.
Меня уверяли перед моим отъездом, что прилагаются все старания к получению виз для Вас и что Вы уедете на этой неделе. Так ли это? Я узнала в субботу, что Лондон отказывает в транзитной визе, это идиотство, но непреодолимое препятствие. А<йседора?> оставила мне несколько строк, что она Вас отправит в путь с друзьями.
Прошлую субботу выражение Вашего лица мне показалось таким жалостно-болезненным, что я пожелала Вам еще горячей вернуться на милую Вам родину. Вы знаете сами, дорогой господин Есенин, какой заботливостью я Вас окружала и что низко было предположить, что в моем образе действий крылось другое чувство. Мой идеал не сходится с человеком, который Вы есть, кроме того, Вы умеете иногда становиться достаточно неприятным, чтобы заставить забыть, что Вы – очаровательное существо. Но предо мной был только поэт, только мозг, гибель которого я чувствую, спасти который я хотела; это поэта я хотела вырвать из злополучного для Вас бытия, которым является обстановка, в которой Вы пребываете в Париже и везде в Европе с тех пор, как Вы уехали из России. Можно ли подумать без грусти, что уже два года Вы ничего не говорили, что все, что красиво и чисто в Вашей душе, стирается каждодневно от <со>прикосновения с пошлым бытием. Вы только пьете и любите, и вот и все – ничего не остается, так как Вы любите не только сердцем, так как Вы не можете набраться достаточно энергии для того, чтобы спастись от самого себя. Как я буду счастлива, когда мне напишут, что Вы наконец уехали.
Не мне Вам на это указ<ыв>ать. Однако я подчеркиваю, что для приписываемых мне чувств к Вам странно пожелать это расставание навсегда. Ибо в самом деле я Вас никогда не увижу больше. Это немножечко больно, я так хотела бы знать о Ваших достижениях, может быть, найдутся сколько-нибудь великодушные люди, чтобы рассказать мне, что Вы себя вновь обрели, что у Вас чудные творения и, паче всего, что Вы больше не несчастливы. Не осмеливаюсь говорить, что узнаю, что Вы больше не пьете. Вы слишком мало благоразумны, чтобы так много ожидать от Вас. Но если бы Вы могли пить меньше – если <бы> Вы могли поверить, дражайший, что пить так – значит сокращать Ваши дни – Вы подлинно больны, верьте мне; Вас можно теперь еще вылечить, но через несколько месяцев будет слишком поздно. Чувствуете ли, что я Вам говорю очень искренно и что Вам надо быть немножко разумнее, Вы не имеете права <ни> убить поэта, ни понизить человека, каким Вы являетесь.
Вы мне обещали прислать Вашу первую книгу или поэму по возвращении. Это будет одна из моих самых прекрасных радостей, если Вы об этом не забудете. Она будет по-русски, но я дам ее перевести – и пойму, потому что понимаю и люблю русскую душу – как люблю балованное дитя.
Если бы память обо мне могла достаточно долго сохраниться у Вас, чтобы удержать Вас, когда Вы снова склонитесь выкинуть сумасшедшее коленце, если бы я обладала какой-то душевной силой, которая внедрила бы в Вас одну только мудрость: не пить больше, я считала б себя благословенной богами.
Увы, не больше как
Очень преданная Вам
Габриэль Мармион».
Точная копия записки С. А.:
«Юбилей Есенина10-го Декабря исполняется10 лет поэтическойдеятельности СергеяЕсенина. (Союз) Всероссийскийсоюз поэтов, группаимажинистов и (группа Росс)группа писателейи поэтов из крестьянходатайствуютперед Совнаркомомо почтении деятельности…»
Списано с поправками, сделанными им же самим (его почерком).
Это было в декабре (может, в конце ноября) 1923 г. С. А. в «Стойле» рассказывал друзьям: 10 декабря десять лет его поэтической деятельности. Десять лет тому назад он первый раз увидел напечатанными свои вещи. Сам даже проект записки в Совнарком составил.
Придя домой, рассказал, что Союз поэтов и пр<очие> собираются организовать празднование юбилея. Мы (я, А. Назарова и Яна) отнеслись очень сдержанно к этой идее – мне было ясно, что у нас, как, впрочем, и на всей планете, венчают лаврами только «маститых», когда из человека уже сыплется песок. С. А. стал с раздражением доказывать свое право на чествование: «А, да. Когда умрешь, тогда – памятники, тогда – чествования. Тогда – слава. А сейчас я имею право или нет… Не хочу после смерти, на что тогда мне это. Дайте мне сейчас, при жизни. Не памятник, нет. Пусть Совнарком десять тысяч мне даст. Должен же я получить за стихи».
Наше молчаливое отношение его очень сердило. Пару дней поговорил. Потом никогда не вспоминал о своем юбилее.
В делах денежных после возвращения из-за границы он очень запутался (недаром к юбилею он именно денег ждал от Совнаркома). Иногда казалось, что и не выпутаться из этой сети долгов. Приехал больной, издерганный. Ему <бы> отдохнуть и лечиться, а деньги только из «Стойла». Писать он не был в состоянии, т. к. пил без передышки. По редакциям ходить, устраивать свои дела, как это писательские середняки делают, в то время он не мог, да и вообще не его это дело было. Часто говорят про поэтов: «он не от мира сего», и при этом рисуется слащавый образ с длинными волосами и глазами, устремленными в небеса – в мечтах и грезах, мол, живет. Не знаю, как вообще полагается поэтам. Знаю одно – С. А. не был таким слащавым мечтателем с неземными глазами, но вместе с тем трудно передать, насколько мучительно было для него это добывание денег. Его гордость не мирилась с неудачами, с получением отказа. Поэтому, направляясь в редакцию, он напрягал все нервы, чтобы не нарваться на отказ. Для этого нужно было переводить свою психику на другой регистр.
Говорят, пишут, вспоминают про него – какой он был хитрый, изворотливый, как умел войти в душу всесильного редактора, издателя и пр<очее>. Но при этом забывают случаи, когда С. А. пасовал, неудачно отстаивал свои интересы – как, например, с продажей своих сочинений Госиздату, когда он, почти не глядя, собирался подписывать договор, и только благодаря сестре (Е<катерине> А<лександровне>) и поэту Наседкину (в этом отношении очень практичному и бывалому) получил от Госиздата 10 тысяч вместо 6 тысяч, на которые он уже почти согласился.
Такая же история была с «Анной Снегиной» (или с «Персидскими мотивами» – точно не помню). Я условилась с частным издателем И. Берлиным продать ему эту вещь за 1000 руб. Предупредила об этом С. А. Пришел Берлин к С. А. и опять завел разговор об этом издании. В конце разговора предлагает за книжку не 1 тыс. р., а всего 600 рублей. И С. А. робко, неуверенно и смущенно соглашается. Пришлось вмешаться в разговор и напомнить о том, что уже условлено за эту вещь 1000 рублей. Тогда С. А. неопределенно заявляет: «Да, мне все-таки кажется, что 600 рублей мало. Надо бы больше!» Выпроводив поскорее Берлина, чтобы переговоры о гонораре вести без С. А., возвращаюсь в комнату. «Спасибо вам, Галя! Вы всегда выручаете! А я бы не сумел и, конечно, отдал бы ему за шестьсот. Вы сами видите – не гожусь я, не умею говорить. А вы думаете, не обманывали меня? Вот именно, когда нельзя – я растеряюсь. Мне это очень трудно, особенно сейчас. Я не могу думать об этом. Потому и взваливаю все на вас, а теперь Катя подросла, пусть она занимается этим! Я буду писать, а вы с Катей разговаривайте с редакциями, с издателями!»
Одно он знал и понимал: за стихи он должен получать деньги. Заниматься же изучением бухгалтеров и редакторов – с кем и как разговаривать, чтобы не водили за нос, а выдали, когда полагается, деньги, – ему было очень тяжело, очень много сил отнимало. И кто знает, кто высчитает – сколько стихотворений могло родиться за счет энергии, потраченной на это добывание. Ведь когда он добивался чего-либо в этом плане, то, вероятно, один он до конца знал, чего это ему стоило, какого нервного напряжения, тем более что в добывании этом он видел что-то унизительное для себя, для своей независимости.
При всем этом надо сказать, что С. А. любил деньги; не раз говорил: «Я хочу быть богатым!» или: «Буду богатым, ни от кого не буду зависеть – тогда пусть покланяются!» Богатый для него было синонимом: «сильный», «независимый», «свободный». Так понимают богатство дети – богатый все может. Так же смотрят на богатство крестьяне: он богатый, ему все можно! Во-первых, ему важно было всегда иметь в кармане деньги, т. е. всегда иметь возможность пользоваться всеми благами и неблагами «культуры и техники» (а он очень ценил и любил в своем личном быту всякие удобства, этой «техникой» предоставляемые!).
Во-вторых, важно было иметь возможность не отказывать назойливой «меньшой братии», которые всякий отказ объясняли скаредностью, да и вообще уважали и уважают кого-либо главным образом за подачки (безразлично – деньгами или натурой!). Правда, и уважение их часто слова доброго не стоит, но, к сожалению, в литературных кругах часто именно они делают погоду.
В-третьих, важно было иметь возможность помочь близким и родным, к нуждам которых С. А. всегда был очень отзывчив.
Тогда он мог быть спокойным и радостным. Имея при себе деньги, С. А. поил и угощал других, но сам пил меньше, вернее, меньше пьянел. Кроме того, по дороге в какой-либо ресторан он всегда мог отвлечься и попасть вместо ресторана в театр или кино, поехать за город. Как часто бывали дни, когда он хотел не пить, провести их спокойно в кругу настоящих друзей и близких. Но, просидев полдня дома, не имея денег даже на кино, не раз в конце вечера сбегал и уж, конечно, трезвым домой не возвращался. Приходил или совершенно без сил, или буйным и раздраженным. Ни в театр, ни в кино, ни на концерт один он никогда не ходил. Любил пойти компанией в несколько человек. Платить приходилось за всех – ясно, что в таком положении на это не было денег.
Необходимость урезывать себя будила в нем какую-то своеобразную жадность. Именно своеобразную, т. к. деньги он все равно тратил и раздавал, а потом, когда они приходили к концу, начинал вспоминать, кому и сколько он поотдавал. Главное – он имел право на эти деньги, на эти возможности. Ведь то, что дал человечеству С. А., не дали, не дают и не дадут те сотни и тысячи людей, которые безбедно существуют, имеют свой дом, семью, авто и пр<очие> удобства. Я это говорю не с обывательской точки зрения, не из обывательской зависти, а просто здраво учитывая ценность труда С. А. по сравнению с ценностью труда тех, благополучно существующих. И при этом никто из восхищавшихся и восхищающихся им палец о палец не ударил, чтобы помочь ему устроить хотя бы квартиру!
Нет! Неверно! Грандов, редактор «Бедноты», в период своего увлечения Есениным (осень 1923 г.) подал заявление в Президиум ВЦИК, копии направив Троцкому и Воронскому. Ну а ВЦИК, переслав автоматически «в соответствующую инстанцию», даже не поинтересовался, дошла ли бумага до этой «инстанции». Только, как и надо ожидать, секретариат Троцкого не отнесся к этому вопросу по-канцелярски, а созвонился через некоторое время с редакцией «Бедноты» (ходатайство Грандова было написано на беднотовском бланке) и по возможности помогал если не в получении квартиры (это оказалось неосуществимым), то хотя бы в получении ответа из жилотдела о результатах ходатайства. А результаты были таковы: «Мы сейчас в первую очередь удовлетворяем рабочих, потом ответственных работников, а частных лиц – в последнюю. Поэтому ничего обещать вам не можем. Придите через месяц!». И даже этот ответ удалось получить только после того, как после неоднократных бесплодных посещений Краснопресненского жилотдела лицо, наводившее справки, силой, вне очереди, ворвалось в кабинет зава. Плакать надо – ведь С. А. так и умер бездомным, а я и А. Н<азарова> знаем двух человек, которые, не будучи рабочими или ответственными работниками, в эту самую осень и в этом самом районе получили себе помещения (Марцел Рабинович получил две комнаты, будучи одиноким). Я знаю, много необходимых и неизбежных жертв можно и должно принести в переходный период, и нельзя, конечно, требовать, чтобы зав. районным жилотделом знал цену Е. Но то, что в Президиуме ВЦИК, очевидно, лишь после смерти узнали ему цену, – иначе нельзя объяснить отписку в виде краткой, ничего не говорящей резолюции, с которой заявление Грандова было переслано в МУНИ[40]. Цену ему узнали, к сожалению, только после смерти; недаром Коган на одном из первых вечеров памяти Е. сказал:
«Со дня его смерти началось его бессмертие».
Но если мы виним Николая I в гибели Пушкина, а Пушкин с точки зрения Николая был вредным явлением и, следовательно, Николай не знал, «на что он руку поднимал», то что же надо сказать про наше правительство, которому равняться по Николаю не приходится и которое не имело права не понимать, какая ценность находится на его попечении, и которое все же не только не способствовало возможности расти дальше дарованию Е., но даже не сумело сохранить его; пусть даже не сохранить, а хотя бы мало-мальски обеспечить бытовые возможности. Ах, Собинову, Гельцер, Неждановой обеспечивают эти возможности, хотя их вклады в духовную культуру неизмеримо меньше, хотя бы уж потому, что их творчество с ними же умирает, а созданное Есениным переживет много поколений. Так хотя бы для этих поколений. Неужели же заботы о хлебе поглотили все внимание и нет места заботам о духовных ценностях? Конечная цель – не хлеб же. Старая история: «Дом горит, а в доме-то ребенок». – «Мы пожар гасили». – «Загасили?» – «А то как же. Конечно загасили». – «А ребенок-то где?» – «Да сгорел, видно». Ох, и взгреет же за это история, вернее, память человеческая. Человечество злопамятно и такие вещи через сто – двести лет припомнит.
Ну так вот, на ходатайстве Грандова кончаются (как на нем же и нчались) все заботы об Е. со стороны стоящих у кормила. Единственный – Грандов. Да и тот через несколько месяцев потребовал от меня, чтобы С. А. в нашей квартире не было, т. к. его присутствие нарушает покой квартиры. На мои доводы и возражения, что даже если бы и хотела, я не в силах этого сделать, т. к. С. А. буквально негде жить, и не могу ж я больного человека, да еще в таком состоянии, под забором оставить, Грандов на эти доводы сказал: «Ну, вот что: я вас предупреждаю, что если Есенин будет у вас и дальше, то я подаю заявление в ЦК, чтобы его выслали за пределы РСФСР как вредный элемент. Я его таковым считаю, и если подам такое заявление, то его вышлют». Первый раз в жизни я реально почувствовала потребность ударить человека; сдержалась, верно потому, что очень не в моих привычках такие способы воздействия. Предложила Грандову действовать как знает, но не забывать, что я со своей стороны (как это сделал бы и Грандов сам на моем месте) не остановлюсь ни перед чем и не постесняюсь раскрыть все карты (скрытой пружиной всему этому были личные отношения: Грандов любил девушку, которая уже несколько лет очень сильно увлекалась С. А.; она и Грандов жили в одной квартире с нами, и потому присутствие С. А. нарушало не только покой вообще, т. к., возвращаясь часто пьяным, он шумел, иногда скандалил, но в особенности – покой этой пары), не пощажу и таким образом дискредитирую его и его заявление в должной мере. Грандов был в бешенстве от моей, как он сам выразился, дерзости. Пришел и потребовал от Яны и Сони В<иноградской>, чтобы они подписали вместе с ним заявление в комендатуру о выселении Е. Они обе отказались, предложив переговорить со мной. На следующий день я доложила Грандову, что С. А. выписан из нашей квартиры (на самом деле С. А. лежал в это время в Шереметевской больнице). На время эта история затихла. Через некоторое время Грандов опять начал поход – хотел уволить меня из «Бедноты», получив таким образом возможность выселить меня, а следовательно, и С. А. из квартиры; от этого шага его удержала Яна.
Вскоре С. А. уехал к Вардину, потом на время в Петроград, и Грандов успокоился.
А в результате всего нам пришлось жить втроем (я, Катя и С. А.) в одной маленькой комнате, а с осени 1924 г. прибавилась четвертая – Шурка[41]. А ночевки у нас в квартире – это вообще нечто непередаваемое. В моей комнате – я, С. А., Клюев, Ганин и еще кто-нибудь, в соседней маленькой холодной комнатушке на разломанной походной кровати – кто-либо еще из спутников С. А. или Катя. Позже, в 1925 г., картина несколько изменилась: в одной комнате – С. А., Сахаров, Муран и Болдовкин, рядом в той же комнатушке, в которой к этому времени жила ее хозяйка, – на кровати сама владелица комнаты, а на полу, у окна – ее сестра, все пространство между стенкой и кроватью отводилось нам – мне, Шуре и Кате, причем крайняя из нас спала наполовину под кроватью.
Ну а как С. А. трудно было с деньгами – этого словами не описать. Скажут – Е. получал больше других поэтов, у него были слишком большие потребности. Но он ведь и давал неизмеримо больше других поэтов, всех вместе взятых, и ему без этих потребностей нельзя было жить. Неужели ж Демьян Бедный стоит, а Е. не стоил того, чтобы эти потребности удовлетворить? Неужели ж можно было посадить Е. на построчную плату, и больше никаких? Так он долго выдержать не мог. Не раз приходилось спорить с С. А., когда он вопил, что его у себя дома (в России) обижают, что Демьян Бедный получил в Госиздате 35 000 рублей, а он, Есенин, сидит без денег. Когда после этого он буквально благим матом орал: «Отдай, отдай мои деньги!» – всегда приходилось его успокаивать и убеждать, что гонорары Демьяна Бедного его не касаются, что, вероятно, это враки и т. п. Но честно, без всякой педагогики, оценивая это соотношение гонораров Есенина и Бедного, трудно не возмутиться. Демьяна, как в хозяйстве дойную корову, держат в тепле и холе, а Е. – хоть под забором живи. И, конечно, был прав С. А., когда вопил: «Отдай, отдай мои деньги».
Благодаря такому положению он озлобился и стал бесцеремонным, ему стало все равно, где и как получать деньги, он чувствовал свое право на них: раз это право не признают, раз в этой области царит несправедливость – значит, нечего играть в благородство. Очень чуткий ко всякой несправедливости, порывистый как в увлечении, так и в разочаровании, он и здесь быстро пришел к крайности. Раз обижают, обманывают – значит, надо бороться и защищаться. И не случайно высказал он эту философию в «Стране негодяев»: