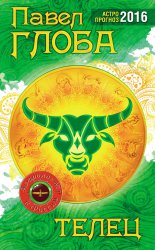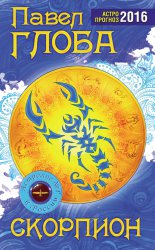Писатели-«деревенщики»: литература и консервативная идеология 1970-х годов Разувалова Анна
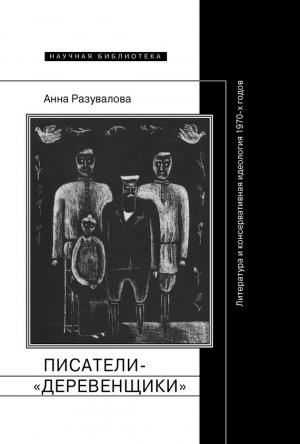
Во втором и третьем романах трилогии Белов вернется к мысли о тайных механизмах «русской смуты». В фокус повествования, помимо деревни, он поместит город, откуда исходили губительные проекты по «переустройству» крестьянской жизни. Уже в зачине «Года великого перелома», стилизованном под древнерусскую летопись, художник вводит указания, во-первых, на религиозную подоплеку происходящего[1650], во-вторых, на этническую природу разворачивающейся «классовой борьбы»:
После величайшей смуты, унесшей в своем знобящем вихре миллионы жизней, не прошло и десяти лет, а Россия и Украина уже стояли вблизи очередной, не менее страшной трагедии. Казалось, все силы зла снова ополчились на эту землю. <…> И когда б в стране имелся хотя бы один-единственный не униженный монах-летописец, может, появилась бы в летописном свитке такая запись: «В лето одна тысяча девятьсот двадцать девятого года в Филиппов пост попущением Господним сын гродненского аптекаря Яков Аркадьевич Эпштейн (Яковлев) поставлен бысть в Московском Кремле комиссаром над всеми христианы и землепашцы».
Таких летописцев не было[1651].
Задачи хроникера-летописца Белов берет на себя и буквально по дням документально прослеживает подготовку коллективизации и раскулачивания в декабре 1929 – январе 1930 года, однако при этом он описывает происходящее как часть не только политической, но и Священной истории, отыскивает потаенный смысл в датах и сроках акций, задуманных Кагановичем и Яковлевым и поддержанных Сталиным. Евреи – в духе религиозного антисемитизма – ассоциируются автором и некоторыми героями романа с «силами зла»[1652], «апостолами сатаны»[1653], «клевретами лжеца»[1654]. Крестьянство же – последний оплот подлинно христианских ценностей, прежде всего милосердия и смирения. Атака власти на него, по убеждению писателя, была частью продуманного плана.
В понедельник и вторник, 16–17 декабря, шабаш продолжился с новой силой, а в среду, 18 декабря, комиссия уже утвердила проект постановления. В портфель Якова Аркадьевича легла уютная папка с листами, испещренными теми сатанинскими знаками, которые программировали жизнь, а вернее смерть миллионов людей. Они, эти знаки, предрекали гибельный путь для великой страны, в значительной мере определявшей будущее целого мира[1655];
В воскресенье 22 декабря бумаги Яковлева обсуждались в Политбюро и были раскритикованы. Сталин неожиданно оказался левее самых левых. <…> Это поистине сатанинское превращение произошло в пятницу, 3 января нового, 1930 года, а 5 января (опять воскресенье!) родилось знаменитое решение ЦК «О темпах коллективизации». Бесы все больше и больше входили в раж. Через десять дней, 15 января, они учинили вторую яковлевскую комиссию – зловещий синклит по выработке методов уничтожения и разорения[1656].
Мысль о том, что непримиримый классовый антагонизм – лишь удобная, затемняющая суть событий формула для одурачивания масс, развивает главный резонер «Года великого перелома» доктор Преображенский, чьи сюжетные функции ограничены изложением теории, рассматривающей происходящее в России как звено целенаправленной деятельности мирового еврейства и масонства:
О нет, <…> эта борьба отнюдь не классовая. Скорее национальная, а может, и религиозная. Нас разделяют и властвуют… И всех, всех, кто знает об этом, поверьте мне, опять будут расстреливать! Как десять лет назад, знающих просто сотрут с лица земли![1657]
Белов обращается к очевидному для него «еврейскому следу» в создании репрессивной лагерной системы и операциях по раскулачиванию. Рост стихийного антисемитизма среди населения в конце 1920-х – начале 1930-х годов видится ему вполне оправданной реакцией на творимые евреями жестокости[1658]:
Сексоты заносили антисемитчиков в специальные ведомости с пометкой «контра». Это по конторам и учреждениям. В очередях же и в питейных местах, на шумном базарном торжище крикливые женки в открытую ругали евреев. Иногда милиция тут же хватала самых горластых[1659].
«Антисемитским духом» заражается правоверный коммунист Лузин, с удивлением открывающий в себе неприязнь к евреям, но ему не хватает интеллектуальной смелости для совершения последнего шага, дающего о прозрение. Именно через семантику прозрения, обретения нового знания, помогающего видеть сокрытую от прочих суть исторических событий, литераторами национально-консервативного плана обычно раскрывался эффект от знакомства с теорией мирового еврейского заговора[1660]. И Белов тут не исключение. Один из героев трилогии дворянин Прозоров, подвергшийся репрессиям по социальному признаку и вынужденный в качестве «спеца» сотрудничать с новой властью, предполагает, что фамилия его нового знакомого Преображенского имеет почти мистическое значение, так как «перемена ума», пережитая Прозоровым после длительных бесед с доктором, влечет за собой полное перерождение[1661]. Сначала Прозорова удивляет «необычная ясность докторских суждений»[1662] и знакомство собеседника со многими фактами, которых он «либо не знал, либо по каким-то причинам не считал важными»[1663]:
– Почему победили большевики? – сердился Преображенский, хотя Прозоров не противоречил ему в такие минуты. – Отнюдь, государь мой, не потому, что с помощью классической демагогии обманули мужиков и солдат, то есть пообещали народу златые горы. Все было намного проще: англичане не прислали Колчаку обещанные патроны. Солдатам нечем было стрелять… Англичанам в ту пору красные были нужнее белых.
– Позвольте, позвольте! – Прозоров не успевал за мыслью доктора. – А интервенты? А захват Архангельска теми же англичанами?
– Противоречие чисто внешнее! Кровь пускают друг другу простые люди. Вдохновители революций и вдохновители контрреволюций сидят не в окопах. Они, эти люди, одной и совсем иной породы. Если, конечно, люди, а не дьяволы. Да, да! Государь мой, они превосходно понимают друг друга. Мировому злу абсолютно все равно, каким флагом потчевать обманутых[1664].
Теория заговора враждебных России сил помогает дискурсивно упорядочить разнообразие наблюдаемых фактов, благодаря чему оказывается своего рода терапией для героя, подавленного абсурдом случившегося. После того как Прозоров усваивает идеи Преображенского, у него появляется возможность компенсировать роль «статиста необъятного по масштабам спектакля, проводимого на просторах России»[1665] осознанием тайных пружин грандиозного исторического действа:
Но кто дирижирует всей этой свистопляской? Кто покорил страну? И самое главное, надолго ли? Неужто опять, неужто новое иго?[1666]
Кажется, он начинал понимать, что происходит. И хотя он не знал еще, как ему жить в этом мире, сошедшем с ума, что делать среди абсурдных явлений, среди катавасии, лишенной всякого смысла, он знал уже, что узнает и это[1667].
После ареста Преображенского уже сам Прозоров начинает «смущать умы» собеседников экстравагантными догадками об истинных целях экспедиции Отто Шмидта к Северному полюсу на ледокольном пароходе «Седов» в 1930 году. В отличие от Лузина, который довольствуется официальной версией события, Прозоров ищет политико-экономические подтексты стремления Шмидта к Северному полюсу и находит их. Согласно его доводам, Шмидт, а также его коллеги Визе и Самойлович подготавливают почву для дальнейшей колонизации России мировым капиталом:
Все трое сознательно или бессознательно выполняют поручения европейских банкиров. Нужна срочная колонизация Русского Севера? Пожалуйста! И газеты тотчас подхватывают гнусную мысль о якобы перенаселенной России… Ну, а денежки на полярные экспедиции можно спокойно взять хотя бы и с тех же кооперативных счетов. Помяните мое слово, следом за ледоколами пойдут целые караваны. Грабеж лесных ресурсов уже начался, на очереди пушнина и недра. <…>
…разница между большевиком Шмидтом и банкиром Ротшильдом чисто внешняя. Оба делают одно дело[1668].
Кроме Прозорова, в трилогии есть еще один прозревший герой – Сталин. Его политические решения автор склонен объяснять все более глубоким погружением в существо «еврейского вопроса». Сталин сознательно «образовывает» себя в нем. Он, например, не удовлетворен книгой Александра Пыпина «Русское масонство. XVIII и первая четверть XIX века» (1916): «Текст был совершенно тупой, нудный, как речи вождей. И эти масонские атрибуты, вся эта романтическая заумь со шпагами и свечами… <…> Но все это ему придется читать!»[1669] Сталин просит Поскребышева найти для него работу «Еврейский вопрос на сцене мировой истории» (1912) А. Шмакова, а потом в течение нескольких дней читает его же книгу «Свобода и евреи» (1906), где причины неудачи России в Русско-японской войне, события революции 1905 года, рост экстремизма, различные проявления «освободительного» движения истолкованы как результат многоуровневой политической деятельности еврейско-масонских организаций. По версии Белова, Сталин захвачен сочинением Шмакова («он ощутил желание подчеркивать едва ли не все подряд»[1670]), чью главную идею о всепроникновении еврейства он без труда проецирует на большевистскую революцию 1917 года («Масоны и евреи во главе с Лениным облепили революцию как мухи»[1671]). Однако его возмущает убеждение Шмакова в том, что творцы революций неизбежно оказываются марионетками в руках мирового правительства:
«…разве обошлась без масонов наша революция? Разве не они прибирают к рукам все революции в мире и все движения? А если это так, то действительно вся жизнь, вся борьба оказались напрасны. Он, Сталин, оказался не более чем марионеткой…»
Эта мысль возвращалась к нему снова и снова.
<…> Нет! Все будет по-иному… Он бросил под ноги ленинским апостолам миллионы мужицких душ. Иначе его давно бы отстранили от руля великой страны. И здесь, в России, все будет не так, как было задумано у Вейсгаупта и его русских последователей типа Гучкова и Бройдо.
Он овладел собой. Не будет этого! Что надо? Надо действовать теми же методами[1672].
Белов лишь отчасти разделяет популярную среди «красных» национал-консерваторов позитивную оценку деятельности Сталина в 1930-е и первые послевоенные годы, когда вождь осуществил политически необходимую «очистку» партии от евреев и сделал ставку на реставрацию национальной России. В отличие от многих русских националистов, Белову было мало этого обстоятельства, чтобы «извинить» Сталина за репрессивную политику в отношении крестьянства[1673]. В трилогии Сталин платит еврейству, владеющему информацией о его сотрудничестве с царской охранкой, коллективизацией – гибелью «миллионов лапотных мужиков»[1674], но и впоследствии, делая «благое дело», расправляясь «с осиным гнездом сионистов»[1675], он не может избавиться от ненависти к «мужицкой стихии»[1676]. Белов рисует Сталина воплощением болезненной невротичности и разного рода комплексов[1677] – его мучают некогда пережитые унижения, ему хочется за них отомстить, он маниакально подозрителен и убежден, что окружен врагами. Но захватившая его концепция жидомасонского заговора удивительным образом исключается автором из числа факторов, усугубляющих подобные комплексы. Иными словами, Сталин жесток, ограничен и слеп, когда вымещает свои комплексы на русском мужике, которому приписывает роль «внутреннего врага», но он же проницателен, смел и последователен, когда делает то же по отношению к инородным национальному миру элементам – евреям. Это противоречие автор трилогии, вероятно, не замечает, что позволяет современному исследователю констатировать уже знакомое по роману «Все впереди» рассогласование между идеологически-историософским планом повествования и внутренней логикой сюжета:
…парадоксальным образом все злодеяния масонов остаются преимущественно в сфере идеологической риторики повествователя и героев-резонеров. Когда же Белов переходит от идеологем непосредственно к художественному изображению реалий крестьянской жизни, он показывает, что насилие над мужиками творят, как и в «Канунах», Игнаха Сопронов, Скачков, Ерохин и прочие доморощенные «активисты»…[1678]
Очевидно, что антиеврейская риторика Белова, если рассматривать ее хронологию – с середины 1980-х к началу 2000-х, становится несколько более откровенной. Продиктованная обстоятельствами межгрупповой борьбы перестроечных и первых постперестроечных лет готовность писателя высказываться о «еврейском вопросе» повлекла за собой изменения жанрового и повествовательного формата – от fiction к non-fiction. В мемуарной книге «Тяжесть креста», которая представляет собой «двойной портрет» Шукшина и Белова, главной становится коллизия противостояния русских писателей из крестьян еврейской городской среде. Интересно, что актуализация еврейской темы в этом тексте влечет за собой и большую откровенность в обсуждении эмоций рессентиментного происхождения. Белов строит повествование структурно и эмоционально вокруг мотивов изгойства, обиды, униженности, культурной и материальной обездоленности. Писатель упоминает «изгойское чувство» у Шукшина, которого тому не удалось избежать «ни в детстве, ни в юности, ни в зрелую пору»[1679], он рассказывает, как его захлестнула «удушливая горечь»[1680], когда Лев Ошанин назвал его стихотворение «кулацким». В изображении Белова эти чувства социально мотивированы и, как свидетельствует автор, определяют самоощущение выходцев из крестьянской среды. Показательно, что трудности социализации и карьерного восхождения в своем и шукшинском случае писатель передает метафорами, связанными с проникновением в чужое, опасное пространство.
Предстояло самому (речь идет о Шукшине. – А.Р.) преодолевать московские льды, карабкаться по холодным скалам на пути к диплому. Сколько снега и льда, сколько неверных осыпей и предательских острых камней! <…>
Осенью 1954 года насмешники тиражировали анекдоты про алтайского парня, вознамерившегося проникнуть в ту среду, где, по их мнению, никому, кроме них, быть не положено, взобраться на тот Олимп, где нечего делать вчерашним колхозникам. Отчуждение было полным, опасным, непредсказуемым. Приходилось Макарычу туго среди полурусской, а то вовсе не русской публики. Часто, очень часто он рисковал, без оглядки ступал в непроходимые дебри. Вспоминалась иллюстрация в детской книге «Тысяча и одна ночь». Синдбад-мореход попадает в долину змей. Долина кишит разнообразными рептилиями, шипящими, свивающимися в клубки и кольца. Как уцелеть среди этого ужаса?
<…> Даже будучи признанным всею страной, он шел по долине и озирался каждую секунду, ожидая ядовитого укуса, змеиного броска. Как ему еще удалось так далеко пройти по этой змеиной долине?[1681]
Близкую по структуре метафору Белов использует и по отношению к себе:
Членство в КПСС в какой-то мере подсобило мне выпрыгнуть за частокол, отгороженный крестьянину-колхознику, общественному изгою, бесправному и даже беспаспортному. И я, подобно Шукшину, выпрыгнул на другую территорию, предназначенную избранным[1682].
В обоих случаях Москва, где учатся герои «Тяжести креста», – гиперболизированно враждебное пространство, чьи обитатели социально и этнически чужды «деревенщикам» (не случайно Шукшин, начав работать в столице, делает настойчивые попытки сформировать команду из «своих», преданных ему коллег-единомышленников). Отождествление еврея с городской культурой, его привилегированность по отношению к деревенским жителям, как уже отмечалось, постоянно обыгрываются «неопочвенниками» (В. Астафьевым, Ф. Абрамовым), но, пожалуй, только Белов ретроспективно утверждает в качестве принципиального фактора культурного самоопределения конфликт с евреями-горожанами. По сути, главное достижение национально-ориентированной литературы, к каковой он причисляет себя и Шукшина, Белов видит в ее попытках растопить «коммуно-еврейский айсберг»[1683] советской культуры.
Писатель во множестве приводит доказательства противодействия русским со стороны евреев как на уровне государственных институций (особо Белова занимают возглавлявшееся Андроповым ведомство, борьба с «русистами» и национальность шефа КГБ), так и личных отношений. «Мы натыкались на какую-то невидимую паутину, сплетенную хитро, давно и основательно»[1684], – заявляет он, разворачивая излюбленный мотив еврейской злокозненности. Сказанное верно и по отношению к Шукшину, точнее, к той интерпретации творческой биографии художника, которую создает Белов. Шукшина и его творчество (кинематографическое и литературное) автор «Тяжести креста» помещает в самый центр «борьбы за национальную, а не интернационально-еврейскую Россию»[1685]. Уязвимость подхода Белова, задумавшего опровергнуть вольную и невольную ложь о друге, заключается в том, что он повторяет практиковавшееся «правой» и «левой» критикой редуцирующее чтение прозы «деревенщиков», при котором последняя превращается в иллюстрацию к национально-консервативной идеологической доктрине. Белову важен Шукшин-идеолог, который провидел опасности, подстерегающие русского человека, и предупреждал о них читателя, но он игнорирует специфику шукшинской поэтики, нацеленной на проблематизацию «традиционных ценностей», точнее, сложившихся механизмов их передачи. Не удивительно, что «главным событием для русской культуры» Белов называет сказку Шукшина «До третьих петухов», иносказательно повествующую о ловкости еврейских манипуляторов русским человеком:
Шукшин своей сказкой мужественно ударил по театральному столу кулаком. Трехголового Змея Горыныча в литературе до него не было. В своем Иване, посланном за справкой, что он не дурак, Макарыч с горечью отразил судьбу миллионов русских, бесстрашно содрал с русского человека ярлык дурака и антисемита, терпимый нами только страха ради иудейска. После Гоголя и Достоевского не так уж многие осмеливались на такой шаг! Быть может, за этот шаг Макарыч и поплатился жизнью – кто знает? Знал, может, один Жора Бурков, но ведь и Жоры вскоре не стало…[1686]
Прозрачный намек Белова на возможный насильственный характер смерти Шукшина предсказуем. В национально-консервативной публицистике и критике многие трагические страницы в истории русской культуры (смерть на дуэли Пушкина и Лермонтова) объяснялись сходным образом[1687] – тщательно скрытой от посторонних глаз деятельностью всесильных структур, масонских прежде всего, которая была направлена на расшатывание духовных основ нации. Белов, уверенный, кстати, и в насильственной смерти С. Есенина[1688], включает еще одну жертву в пантеон павших в борьбе с антирусскими силами, повышая тем самым статус Шукшина до классика отечественной литературы, «основным вопросом» которой становится борьба с евреем – олицетворением «мирового зла».
Эволюция Белова, если попытаться проследить только один ее один аспект – трактовку «еврейского вопроса», наводит на мысль о высокой «внушаемости» писателя. Чуждавшийся в конце 1960-х годов «правых» (националистов-консерваторов) и «левых» (прогрессистов-евреев) Белов, судя по всему, какое-то время тешил себя ллюзией сохранить независимость и равную дистанцированность от обоих лагерей, тем более что он мог наблюдать за деятельностью двух близких ему литераторов – А. Твардовского и Александра Яшина, чья позиция казалась образцовым утверждением творческой свободы[1689]. Однако оживленные контакты с националистами-интеллектуалами не прошли даром: еврейская тема постепенно проникает в прозу Белова (что само по себе факт нейтральный), однако ее интерпретация отражает усиливавшееся убеждение художника в наличии мирового жидомасонского заговора против православной России и других славянских стран[1690]. Еврейство целенаправленно демонизировалось (пика эта стратегия достигла в трилогии «Час шестый»), так что тиражирование в текстах антиеврейских клише невольно наталкивает исследователя на мысль об оправданности психоаналитического прочтения[1691]. Еврей здесь – классический негативный Другой, на которого проецируются отрицаемые в себе и «своем» сообществе качества, причем проза Белова (как и Солоухина) демонстрирует прямую зависимость между стремлением к воссозданию эстетизированной ретроутопии «своего» мира и демонизацией чужой этнической группы. В целом поэтика образа еврея и еврейской темы в прозе Белова имеет довольно широкий диапазон – от загадочных недомолвок до гневных обличений, от автобиографических подробностей до символов. В рамках такой поэтики писателю удавалось вполне отчетливо обозначать свою позицию. Напротив, в публичных выступлениях Белов старался минимизировать употребление слов «еврей», «еврейский». Он говорил о «тайных и явных мировых правителях»[1692], «врагах Родины нашей»[1693], «интернациональной власти и ее троцкистском окружении»[1694], то есть часто использовал перифразы там, где, казалось бы, в силу жанрово-коммуникативных условностей ожидается и допускается прямое обозначение. Возможно, он не мог избавиться от ощущения опасности, таившейся в поднимаемой теме[1695]. На вопрос журналистки Натальи Белоцерковской, чем объясняет Белов отсутствие для него доступа на телевидение – его национальной принадлежностью или политическими воззрениями, писатель отвечал:
Это очень тесно взаимосвязано. А вообще вы подкрадываетесь к очень щепетильной теме, которой я избегаю, потому что не хочу обострять. У меня слишком много фактов, я слишком много знаю, и слишком много сам пережил в этом плане. Представьте себе, если бы я стал откровенным, что бы получилось? Правда, я не боюсь, я готов умереть хоть сегодня[1696].
Самоощущение автора, переживающего близость тайной угрозы, и самоощущение его героев с автопсихологическими чертами, которым необходимо существование рядом демонизированного Бриша[1697], во многом идентичны. Конституирующим фактором в обоих случаях является наличие рядом негативного Другого, от которого исходит опасность. И оптимальным для Белова вариантом оказалась не публицистическая прямолинейность, а поэтика, сочетавшая памфлет и намек (подобная той, что была выработана в романе «Все впереди»). Она давала автору и большую свободу, и большую безопасность в трактовке драматичной еврейской темы.
«Грузинская эпопея» и «еврейская напасть»[1698]: Образ этнического Чужого в творчестве Виктора Астафьева
В декабре 2012 года поэт Борис Херсонский в своем ЖЖ поделился размышлениями о «филологическом антисемитизме»[1699] и пояснил сущность этого явления цитатой из письма В. Астафьева Н. Эйдельману:
У всякого национального возрождения, тем более у русского, должны быть противники и враги. Возрождаясь, мы можем дойти до того, что станем петь свои песни, танцевать свои танцы, писать на родном языке, а не на навязанном нам «эсперанто», «тонко» названном «литературным языком». В своих шовинистических устремлениях мы можем дойти до того, что пушкиноведы и лермонтоведы у нас будут тоже русские, и, жутко подумать, – собрания сочинений отечественных классиков будем составлять сами, энциклопедиии всякого рода редакции, театры, кино тоже «приберем к рукам» и, о ужас! о кошмар! сами прокомментируем «Дневники» Достоевского[1700].
Херсонский предположил, что в данном случае мы имеем дело с обостренным неприятием вторжения Чужого в пространство национального языка, которое воспринимается как «своя» территория. Но тогда, заявлял один из участников обсуждения проблемы, филологический антисемитизм – метафора антисемитизма в целом[1701].
В позднесоветской культуре (а высказывание Астафьева идеологически связано именно с ней) антисемитский дискурс не имел «доктринальной легитимности»[1702] и в качестве неартикулированного основания обычно вводился в иные типы дискурсов. Вариация националистического дискурса «долгих 1970-х», адаптированная к идеологическим ограничениям публичного поля, нередко содержала связанную с ролью евреев в становлении советского государства метафору противозаконного захвата власти, «оккупации», говоря словами В. Солоухина[1703]. Например, во время дискуссии «Классика и мы» П. Палиевский рассуждал о «представителях левых авангардных течений, попытавшихся занять (в 1920-е годы. – А.Р.) руководящее положение в культуре и в нашей стране»[1704], но в два следующих десятилетия потесненных могучим классическим искусством, которое стало возрождаться советским государством. Антиавангардистская риторика, использованная Палиевским, была по-своему артистична: с одной стороны, она активно разрабатывала ресурс, предоставленный неодобрительной официальной культурной политикой в отношении модернистских / авангардистских новаций – и в этом смысле была идеологически безупречна, с другой стороны, известный «посвященным» этнический состав сторонников авангарда[1705] делал определение «авангардист» еще одним субститутом «еврея» (наряду с «троцкистами», «интернационалистами», «космополитами»[1706]), и тут антиавангардизм в националистической аранжировке обретал политизированные и ксенофобские подтексты, простирающиеся в области, о которых официальная идеология предпочитала умалчивать. С этой точки зрения, дискуссия «Классика и мы» была как раз выражением специфичного для 1970-х «филологического» антисемитизма. В ходе полемики представители национально-консервативного лагеря, обозначив позицию по «еврейскому вопросу», пытались предельно обострить ситуацию, но избежать возможных репрессий со стороны власти за нарушение правил игры. Их немногочисленные оппоненты, напротив, стремились сделать отступление противоположной стороны от правил явным и, как следствие, подлежащим наказанию. Если Станислав Куняев во время дискуссии, развенчивая миф о «советском классике» Эдуарде Багрицком, обильно цитировал фрагменты из статей создателей этого мифа (критиков, сплошь носивших еврейские фамилии), то Анатолий Эфрос, живо откликнувшись на подтекст речей Палиевского и Куняева, предостерегал: «опасно играть такими вещами!»[1707]. Реплика Эфроса в ответ на полученную им записку («Вы ничего не можете интерпретировать в русской классике. Организуйте свой национальный театр – и валяйте!»[1708]): «Я хочу товарища спросить, какой он хочет, чтобы я организовал национальый театр?»[1709] в очередной раз подталкивала националистов к откровенному обнаружению этнополитического характера своих выпадов. В итоге наличие антиеврейского подтекста в выступлениях некоторых участников дискуссии было признано: Евгений Сидоров извинился за антисемитскую записку[1710], однако Кожинов тут же энергично опроверг адресованные его единомышленникам упреки в антисемитизме[1711]. Так что Астафьев, увидевший в 1986 году в возможной скорой «русификации» отечественной филологии один из признаков национального возрождения, всего лишь дал в формате частного письма конденсат идей, которые в свернутом виде уже содержались в правой публицистике. В отличие от 1970-х годов, когда антимодернизационные настроения достраивались в рамках антисемитского, публично не проговариваемого дискурса, и напротив, антиеврейские смыслы можно было обнаружить в «идеологически верных» рассуждениях о порочности элитаризма, вскоре после публикации переписки Астафьева с Эйдельманом в журнале «Даугава»[1712] антисемитский дискурс получил легальную прописку в СМИ. Как следствие, некоторые читатели и комментаторы переписки, поясняя позицию Астафьева, проделывали операцию, прямо противоположную той, что была описана выше в связи с дискуссией «Классика и мы», и рассматривали антисемитский дискурс как разновидность антиэлитарного (Виктор Сокирко, например, в ответе Астафьева Эйдельману увидел «народное недовольство социально выделенными слоями»[1713]).
Тем не менее, воспроизведение Астафьевым в переписке с Эйдельманом характерных для позднесоветского варианта русского национализма дискурсивно-риторических ходов не объясняет мотивов, продиктовавших тип ответной аргументации, который писатель в свойственной ему прямодушно-грубоватой манере назвал «плюхой»[1714]. Предположение, что психологически подобная реакция вызвана «ощущением преследования», «проекцией источника этой ущемленности вовне»[1715], вряд ли можно считать исчерпывающим объяснением. Откликнувшиеся на переписку не раз замечали гневливую спонтанность астафьевского выпада, который слабо координировал с выдвинутыми Эйдельманом обвинениями[1716]. Своим ответом Астафьев демонстрировал характерную для некоторых «деревенщиков» болезненную реакцию на знаки культурного превосходства или на то, что расценивалось как таковые. В данном случае – на обвинительно-наставительную тональность разъяснений, адресованных писателю, на подчеркнутый Эйдельманом при самоаттестации высокий культурно-образовательный статус – «окончил МГУ», «работал много лет в музеях, в школе; специалист по русской истории XVIII–XIX веков»[1717]. Позднее Астафьев язвительно заметил, что послание Эйдельмана было выдержано в стилистике «письма ученого человека к варвару сибирскому, смеющему именовать себя литератором»[1718]. В самом деле, Эйдельман предельно ярко персонифицировал характеристики, которые «деревенщики» еще с 1960-х годов закрепили за своими оппонентами – столичной интеллектуальной элитой. Последняя, с их точки зрения, получила незаслуженно легкий доступ к культурным благам, узурпировала доступ к каналам профессиональной реализации и впоследствии не упускала случая указать провинциалам на их «отсталость», контрастировавшую с собственной рафинированностью. В. Шукшин писал В. Белову:
Про нас с тобой говорят, что у нас это эпизод, что мы взлетели на волне, а дальше у нас не хватит культуры, что мы так и останемся – свидетелями, в рамках прожитой нами жизни, не больше. Неужели так? Неужели они правы? Нет, надо их как-то опружить…[1719]
В «неопочвеннической» среде было распространено мнение о том, что «избранные», в этнической основе своей – евреи, стараются во что бы то ни стало сохранить за собой монополию на доминирование в творческой сфере и используют для лоббирования своих интересов тайные механизмы. Типичному представителю еврейской интеллектуальной среды, которому привилегированное положение было передано «по наследству», Белов присвоил имя прозаика Фридриха Горенштейна и сделал его нарицательным:
А кто бы работал на поле и стройке, кто бы служил на кораблях? Фридрихи, что ли? Они бы ничего этого делать не стали. Они еще до своего рождения отгородились от кораблей и колхозных полей дипломами своих родителей. <…> С помощью дипломов вручались в их ведение художественные и технические институты, академические театры, киностудии, важные должности в областях и столицах. Для крестьянских детей после этого уже не было зеленого света в искусство, в литературу[1720].
Возвращаясь к враждебной реакции Астафьева на письмо Эйдельмана, которое выдающийся «деревенщик» трактовал как привычное проявление «еврейского высокоинтеллектуального высокомерия»[1721], мне кажется обоснованным связывать ее именно со спецификой социализации «деревенщиков» в городе, длительной фрустрацией, порожденной столкновением со столичной элитой и последующей реинтерпретацией конфликта в этнофобском ключе. Это объясняет внутреннюю готовность писателя ответить на как бы предвосхищаемые упреки (в «недообразованности», «некомпетентности», «некультурности») и противопоставить снобистской, по его мнению, позе интеллектуала эпатирующую грубость бывшего детдомовца. Впоследствии Астафьев сбивчиво объяснял свою позицию журналисту Дмитрию Савицкому:
Я подумал, можно, значит, с ним вступить в какую-то полемику, но, во-первых, мне не хотелось, во-вторых, много чести. И тогда я по-детдомовски, по-нашему так, по-деревенски. <…> И я ему, очень не мудря, сел и от ручки, я даже не печатал на машинке… за десять минут написал это письмо. Что там есть, как, но я ему дал просто между глаз[1722].
Шансы на настоящую полемику – отчасти в силу тональности письма Эйдельмана[1723] – были изначально невысоки, но и Астафьев избрал тактику, утрированно отрицавшую наличие общей плоскости для коммуникации. Искусной, как он полагал, интеллектуальной провокации (с «цитатками, конечно… как же еврей и без цитаток»[1724]) он противопоставил текст, которому надлежало стать перформативом, заменой жеста – ударом[1725]. Если главный посыл письма одного из представителей «московских евреев»[1726] – поставить на место русского писателя-провинциала и навязать нормы суждений об этнически Чужом, то ответить на это, по мнению Астафьева, следовало именно так. Характерно, что спустя несколько лет он вспомнил о статье в журнале «Континент», где критиковался рассказ «Людочка», и вычитал из нее все то же «желание унизить во что бы то ни стало русского лапотника, смеющего чего-то еще и писать»[1727].
Итак, процессы самоопознания и групповой консолидации протекали у «деревенщиков» в противостоянии горожанину, интеллектуалу, еврею. Наложение этих понятий давало завершенную негативную конструкцию чуждости – пространственной, социальной, культурной, этнической. Перемещение в пространство города, где царили искусственность, разобщенность и торжествовало мещанство, делало столкновение с Чужим во всех его разновидностях неизбежным и побуждало к выработке определенного типа реагирования. Если судить по эпистолярию и публицистике Астафьева, писатель размещал негативного воображаемого Другого преимущественно в городе, который тем самым еще больше «очуждался»: его пространство контролировалось «чужаками», в том числе этническими (например, представителями кавказских и закавказских республик, евреями). В обширной переписке Астафьева одно из первых высказываний, фиксирующих этническую неприязнь, относится, судя по всему, к пребыванию писателя в Москве в 1965 году: «Ходил в прачечную, хотел сдать пару белья в разовую стирку да постеснялся, больно уж черномазые грузины и иже с ними держатся по-хозяйски. А вокруг лебезят банщики. Противно смотреть»[1728]. Этнофобия в таком контексте – явный эффект социальной дезадаптации, переживаемой в городском пространстве, и одновременно элемент стратегии приспособления к новым реалиям.
Параллельно с этим бытовым замечанием, в том же 1965 году Астафьев в письме критику А. Макарову иронизировал над антисемитскими клише, при помощи которых писатели-провинциалы объясняли ситуацию вокруг «Нового мира» и А. Твардовского:
Глубинка наша писательская, пользующаяся ошметками московских сплетен, клянет мужика, ничего не понимая: «Объевреился!», «Интеллигентщину и снобизм в журнале развел!», «Россию затирает поэтическую, чтобы самому первым быть» и т. д., и т. п. Слушаешь такое, индо и печаль возьмет и злость на дубовость нашу и графоманскую периферийную озлобленность…[1729]
Еще через два года он манифестировал принципиальное нежелание участвовать в идеологическом размежевании и примыкать к писательским лагерям – «правому», русскому либо «левому», еврейскому:
У меня их было немало, друзей-то, но одни из них исторговались на лит[ературной] барахолке, другие все норовят горланить о «левых» и «правых», извлекая из этого выгоду или поддакивая кому-то, и все время щупают – а ты за кого? За нас или за них?
А мне ни за кого не хочется. Писателей я делю только на хороших и плохих, а не на евреев и русских. Еврей Казакевич мне куда как ближе, нежели ублюдок литературный С. Бабаевский, хотя он и русский[1730].
Любопытно, что такого же рода признание в 1969 году сделал В. Белов в письме к критику и редактору В. Петелину в ответ на просьбу подписать «анти-новомирскую» статью, впоследствии ставшую известной как «Письмо одиннадцати». Белов отказался ставить свою подпись и предположил, что Астафьев направленное против А. Твардовского письмо тоже не подпишет: «И правые, и левые смыкаются против меня и Астафьева, хотя одни шумят за Россию, а другие шумят против лжепатриотов (Дементьев, к примеру). Те и другие стоят друг дружки»[1731]. Тем не менее, вторая половина 1960-х в опубликованных позднее Беловым воспоминаниях о В. Шукшине предстает временем горячего обсуждения «еврейского вопроса» («Разговор о них, о “французах”, как тогда говорилось, продолжался уже в моем обширном доме…»; «…мы долго еще говорили с ним (Шукшиным. – А.Р.) о крестьянстве, о диссидентах, о политике и евреях»[1732]) и, судя по некоторым свидетельствам, усиленной «просветительской» работы представителей национально-консервативного лагеря по отношению к «деревенщикам». С. Семанов утверждал, что привлечение отдельных «деревенщиков» в конце 1960-х годов к деятельности Советско-Болгарского клуба творческой молодежи, контролируемого правыми националистически ориентированными гуманитариями, способствовало коррекции их относительно нейтральных взглядов на «еврейский вопрос»:
…молодые, но уже очень известные у нас и за рубежом писатели Распутин и особенно Белов находились под некоторым воздействием либерально-еврейской критики, общение с убежденными патриотами и благожелательные беседы в русском кругу, несомненно, помогли обоим и сказались в их дальнейшем творчестве и общественной деятельности[1733].
Индоктринация антисемитскими идеями, как уже отмечалось, усилилась в 1970-е годы по мере вхождения Белова, Распутина и Астафьева в круг журнала «Наш современник»[1734], но и в 1960-е и позднее этнофобские реакции часто локализовались в бытовой сфере, в которой фрустрированные столичной жизнью выходцы из крестьян чувствовали себя не очень уверенно.
В 1970 – 1980-е годы властью было продекларировано полное решение «национального вопроса» в СССР. Тем не менее, симптомы кризиса советской системы в этой сфере проявлялись с очевидностью, бесспорной для заинтересованного наблюдателя. Официальная антисионистская позиция СССР, негласно поощрявшая затрудненный доступ евреев к высоким социальным позициям и, как следствие, стимулировавшая все большее их отчуждение от государства, растущие притязания республиканских этнических элит, двойственное положение русского населения, одновременно привилегированного и пораженного в правах[1735], фоновая этнофобия, сопровождавшая повседневные отношения между разными этническими сообществами (например, между населением российских городов и торговцами, «шабашниками» из кавказских и закавказских республик[1736]), были индикаторами проблем, не разрешимых в рамках официальной национальной политики. Государственные институции искали социальные, административные и иные способы соблюдения баланса интересов разных этнических групп и сообществ, однако предложенный вариант советской «имперской» идеологии далеко не всегда успешно конкурировал с растущим влиянием этнонационализмов в республиках. В 1982 году Ф. Абрамов сообщал о своем выступлении в студии Останкино:
Увы, мое выступление было далеко несовершенным. И знаете, какой его главный просчет? Слишком много о России, о ее бедах и ни слова о других братских народах. А ведь это может быть воспринято как проявление национализма. Да если говорить откровенно, кое-кто так именно и воспринял[1737].
Очевидно, «деревенщики» понимали, что их рефлексия о «русском» находится в противоречии с официально продекларированной «дружбой народов». При случае они пренебрегали дискурсивно-риторическими ограничениями, которые налагала эта идеологема (вроде необходимости постоянных упоминаний о «братстве», «союзе народов» и т. п.). «Наш народ предельно истощен и измучен. Мне кажется, что русским в нашей стране живется не лучше, а может быть, даже хуже, чем другим народам»[1738], – позволял себе редкую откровенность в интервью шведской журналистке Д. Хостад В. Распутин. Абрамов сетовал на невозможность в СССР публично объясниться в любви к своему народу[1739], без риска быть обвиненным в национализме / шовинизме. (Ирония ситуации заключается в том, что это признание он сделал в письме к грузинскому партийному деятелю Павлу Гилашвили, разделявшему, судя по всему, националистический пафос.)
В переписке Астафьева также сохранилось выразительное свидетельство об имевшем место в ноябре 1976 года конфликте на почве этнической неприязни. Адресованное в советские инстанции (Секретариат Союза писателей СССР и главному редактору «Литературной газеты») письмо интересно не только авторской версией произошедшего, но стремлением изложить ее, приноравливаясь к конвенциям, действовавшим в поле официальной идеологии при обсуждении межнациональных отношений. Осмысление этнической «чуждости» воплотилось здесь в комбинации намеков и клише. Астафьев описывает случай в Доме творчества в Гаграх во время телепросмотра матча «Зенит» – «Арарат». На основании «болельщицкой <…> может быть, и неуместной», по собственному признанию Астафьева, реплики сосед по Дому творчества Константин Богратович Серебряков, сотрудник «Литературной газеты», обвинил писателя в русском национализме («Тебя судить надо за такой подлый душок!»[1740]) и потребовал извинений. Астафьев в письме выдвинул контробвинения. Во-первых, в неэтичном поведении по отношению к нему и его жене. Во-вторых, в забвении Серебряковым «святой для советского журналиста морали»[1741], заключающейся в необходимости «вести себя достойно как в редакции газеты, так и вне ее»[1742]. И, наконец, – в национализме, на этот раз – армянском. Хотя слово «национализм» при характеристике случившегося не фигурировало (ни по отношению к Астафьеву, ни по отношению к Серебрякову), писатель упомянул, что речь Серебрякова склонялась «в шовинистские направления»[1743], а его приятель, один из секретарей Союза писателей Армении, бросил двусмысленную фразу: «Успокойся, дорогой! Их не перевоспитать!»[1744], которую, по мнению Астафьева, следует истолковывать как относящуюся не к нему лично, а к русским вообще. Таким образом, он сохранил внятные намеки на межэтническую подоплеку конфликта, но изменил его ракурс – с этнического на этический. В этом случае, памятуя о порицании официальной идеологией любой разновидности национализма, он получал возможность требовать от оппонента извинений за неэтичное поведение, прежде всего в отношении жены. Замечу также, что источником внутреннего дискомфорта стало для писателя в данном случае и его пребывание среди этнических «чужих» – «собратьев» Серебрякова, который, как предположил прозаик, выступал столь разнузданно именно потому, что чувствовал «себя “дома” и в окружении “своих” людей»[1745]. Иначе говоря, в основе публичного, с вызывающей апелляцией к «своим», унижения, о котором сообщал Астафьев, лежало акцентирование его собственной этнокультурной чуждости присутствовавшим.
Коллизии неравенства в прозе и эпистолярии Астафьева вообще нередко разворачиваются именно в пространстве Дома творчества – важной для организации писательского труда в СССР институции. В советский период развитием сети домов творчества и ее поддержанием в функциональном состоянии целенаправленно занимался созданный в 1935 году Литературный фонд[1746]. Возникновение домов творчества само по себе подтверждало принадлежность писателей к элите, их выделение в особый разряд населения с последующим предоставлением льгот. Однако в период с середины 1930-х до середины 1950-х обустройство домов творчества оставляло желать лучшего[1747]. Потом, по мере улучшения экономического положения в стране, многие из них реконструировались, рядом со старыми зданиями появлялись новые современные корпуса. В отдельных домах творчества (например, в Малеевке, Ялте и др.) предоставлялись санаторно-курортные услуги, что, конечно, повышало их популярность. В астафьевском рассказе «Ловля пескарей в Грузии» (1986) Дом творчества, точнее номер, куда поселили повествователя, выглядит непрезентабельно (по словам одного из песонажей, Отара, это «поганый бардак»[1748]), но существовали куда более комфортные варианты размещения (например, многоэтажный корпус в Дубултах[1749]). Несмотря на то, что путевки в дома творчества часто предоставлялись по льготным тарифам, возможность отдохнуть и поработать с максимальным комфортом требовала от постояльцев определенных навыков, тем более что практика заселения была ориентирована на статусные характеристики литераторов. По словам Гарри Гайлита, принцип предоставления номеров в соответствии с литературной иерархией окружающим был понятен. В привязке писательской известности и высоких тиражей к возможности получить более престижный номер на высоком этаже можно даже усмотреть невольную иронию ситуации:
В дни заезда каждый стремился успеть оформить свою прописку как можно раньше, чтобы получить именно тот номер, а верней – этаж, который хотелось. Уже с утра в вестибюле выстраивалась огромная очередь, и смешно было смотреть на такое количество инженеров человеческих душ и прочих душегубов.
Писателям, отмеченным особыми регалиями и стотысячными тиражами, доставались самые престижные – высокие этажи. Там из окна, как на ладони, видны были море, верхушки сосен и закат по вечерам. Интерьер в верхних номерах тоже был поновей и подороже. Переводчиков, критиков и прочий литературный люд помельче селили на этажах со второго по шестой[1750].
В общем, система распределения номеров и других причитавшихся писателям благ эксплицировала неравенство, которое при отсутствии четких критериев оценки писательской «значимости» и с учетом иных факторов, влияющих на дифференциацию клиентуры персоналом домов творчества, раздражало многих. Лидия Гинзбург, обобщившая свой опыт посещения санаториев и домов творчества в понятии Антисервиса, отмечала, что возникает Антисервис там, где реально существующему неравенству отказано в признании[1751]: «наше обслуживание, со всеми его особенностями, неотделимо от противоречивой и смутной природы социальной дифференциации в современном некапиталистическом обществе»[1752]. С точки зрения Гинзбург, источник потенциального переживания депривации кроется в устройстве советского социума:
Практика неравенства в какой-то мере уцелела, но органическое его переживание как непреложной (пусть ненавистной) реальности уничтожено социальной революцией. Процесс, оказавшийся необратимым, – обстоятельство очень важное и недооцениваемое[1753].
Забегая вперед, замечу, что процитированное наблюдение Гинзбург отчасти объясняет комплекс переживаний и позицию Астафьева в вызвавшем широкий резонанс рассказе «Ловля пескарей в Грузии». Кажется, создавая его, писатель был ведом желанием раскрыть «секрет Полишинеля» – существование неравенства в государстве, где все равны. При этом внутренне неравенство он, конечно, считал изъяном и потому возмущался сложившимся порядком вещей, при котором раз за разом оставался обойденным. Неудивительно, что его интерес переключался на фигуру Чужого, блокировавшего доступ к обещанным благам (вспомним реплику о «черномазых грузинах»). В некоторых контекстах у символического Чужого появлялись этнические характеристики.
В известном смысле пребывание в Доме творчества стимулировало интерес к этническим параметрам Чужого буквальным образом – «географически»: часть этих заведений находилась в советских республиках на «окраинах империи» – в Грузии, Латвии, Армении, таким образом, антитеза привилегированных и подчиненных сложным, иногда инверсивным, способом соотносилась не только с социальными, но и с этнополитическими обстоятельствами. Любопытно, что в описании Астафьевым первого посещения Дома творчества[1754] – это были Дубулты, 1961 год – межнациональная солидарность как бы компенсировала социальную ущемленность автора. Опыт первой поездки вообще оказался для писателя травматичным и, на мой взгляд, стал одной из модельных ситуаций для осмысления столкновений с привилегированными группами. Плохо знакомый со сложившимися в Доме творчества практиками, направленными на поддержание иерархической структуры писательского сообщества, прозаик с периферии (Астафьев в начале 1960-х только начинал печататься в московских журналах) поначалу не придает особого значения явным странностям в распределении номеров. Его с женой и детьми вчетвером селят в одной комнате, а рядом супруга драматурга А. распекает администрацию за низкий уровень сервиса, требует для себя более удобную комнату и, в конце концов, получает ее. Затем ему в глаза бросается явный контраст гардероба его детей и отпрысков писательской элиты:
Мои чада, наряженные в Чусовом и на чусовской манер, тут же и померкли, ибо те дети, скорее, главные среди «тех», меняли костюмы и платья по три раза на день. Никита Михалков, красивый, уркломордый парнишка с лучисто мерцающим взглядом – так и по четыре[1755].
В общем, постепенно Астафьев осознает, как устроена многоуровневая иерархия (около)писательского коллектива, где новички тестируются на предмет их соответствия статусным требованиям, постоянно демонстрируется собственная успешность и т. п. Тем не менее, новое знание о структурах неравенства он игнорирует, ориентируясь на собственные представления о «демократичной» коммуникации. В итоге его и его семью демонстративно дистанцируют от элиты, когда не приглашают на совместное празднование Нового года. «Унижение»[1756], пережитое писателем, трактуется им как результат неискоренимого конфликта провинциала и столичной публики, «оккупировавшей» Дом творчества. В «Зрячем посохе» фабульным разрешением конфликта «москвичей»[1757] с теми, кого они обрекли на роль «изгоев», становится выход героя за пределы структурированного соображениями статусности и престижности Дома творчества и налаживание связей с «простыми» людьми – русскими и латышами[1758].
Кстати, взгляд на Дом творчества как на метафору социокультурного и национального размежевания не был открытием Астафьева. Дезинтеграция писательского сообщества к концу 1970-х годов становилась все более заметной: общение разных писательских групп напоминало ритуал, приуроченный к мероприятиям, проводимым администрацией (вроде экскурсий, совместных поездок, собраний, посвященных праздничным датам), в то время как повседневное общение ограничивалось кругом «своих». Рауль Мир-Хайдаров вспоминает речь, произнесенную Мустаем Каримом, вероятно, в конце 1970-х годов в Доме творчества в Малеевке. В ожиданиии киносеанса, как бы между делом, башкирский поэт вдруг стал размышлять вслух:
– Как расцвела дружба народов! Слов не нахожу, душу радость заливает, – сказал вдруг проникновенно Мустай Карим и сделал неожиданно большую паузу. <…>
И тут же, мгновенно, в эту паузу ворвались восторженные голоса наиболее шустрых, державших нос по ветру, коллег и, перебивая друг друга, словно шла запись для Центрального телевидения, затараторили:…золотые слова… мудрые слова… как верно сказано… это наше главное достояние… только дружбой народов сильна страна и т. д.[1759]
Далее Мустай Карим говорит о различных писательских группах – украинцах, предпочитающих пить горилку и закусывать салом под руководством Павло Мовчана, не приглашая чужих, молдаванах, которые делают вид, что плохо понимают по-русски и полагают, что «мироздание пошло из Бухареста»[1760], прибалтах, которые упорно держатся особняком, русских «неопочвенниках», поднимающих тосты в своей компании за очередную «новую надежду русской поэзии»[1761] и считающих Тарковского недостаточно национальным художником, московских писателях-либералах, старательно выдерживающих дистанцию между собой и прочими, и, наконец, «татарах, башкирах, чувашах, мордве, узбеках, казахах, таджиках, киргизах и выходцах с Кавказа»[1762], группирующихся вокруг самого Мустая Карима, – как обобособленно существующих фракциях, где этническая близость – едва ли не главный фактор идентификации «своих». Признаки «особого положения», попросту говоря – привилегированности, Мустай Карим, как и Астафьев, обнаруживал прежде всего у москвичей – интеллектуалов, эстетов, западников, замкнутого сообщества, продвигающего, как он полагает, только «своих», «отчего их не любят ни “деревенщики“, ни писатели из республик»[1763].
С ядовитого описания Дома творчества и констатации прочно связанного с этим типом пространства чувства ущемленности начинался ставший причиной громкого общественно-литературного скандала рассказ «Ловля пескарей в Грузии»[1764]:
Было время, когда я ездил с женою и без нее в писательские дома творчества и всякий раз, как бы нечаянно, попадал в худшую комнату, на худшее, проходное место в столовой. Все вроде бы делалось нечаянно, но так, чтобы я себя чувствовал неполноценным, второстепенным человеком, тогда как плешивый одесский мыслитель, боксер, любимец женщин, друг всех талантливых мужчин, в любом доме, но в особенности в модном, был нештатным распорядителем, законодателем морали, громко, непрекословно внушал всем, что сочиненное им, снятое в кино, поставленное на театре – он подчеркнуто это выделял: «на театре», а не в театре! – создания ума недюжинного, таланта исключительного, и, если перепивал или входил в раж, хвастливо называл себя гением[1765].
В процитированном зачине рассказа удивительно не только желчное описание конкурента – обладателя литфондовских благ, «хозяина жизни» (вероятно, еврея, о чем свидетельствует упоминание о «еврейском городе» Одессе), но на редкость откровенное, даже с учетом склонности Астафьева к прямым, без околичностей, высказываниям, предъявление культурно не одобряемых чувств ущемленности и обиды[1766]. Подобные чувства не просто знак неудовлетворенных амбиций (групповых или частных), они проблематизируют саму идею общественного согласия и благополучного разрешения противоречий между социальными группами в условиях развитого социализма. Возможно, поэтому репрезентация их была довольно редким явлением в советском публичном дискурсе. Астафьевский рассказ стал, по сути, первой публицистически-открытой экспликацией рессентиментных эмоций[1767], что повлияло, хотел того автор или нет, на дальнейшее истолкование текста читателями. Экспозиция рассказа, где откровенно игнорировались этикетно-идеологические приличия, как бы задала принцип повествования в целом: сначала писатель отверг общепринятую риторическую кодификацию эмоций, а затем попытался опровергнуть (видимо, во многом спонтанно) сложившиеся нормы изображения иноэтнического в советской литературе.
Данные, приведенные Н. Митрохиным при анализе каталога «58–10. Надзорные производства прокуратуры СССР по делам об антисоветской агитации и пропаганде», свидетельствуют, что в позднесоветский период евреи и грузины абсолютно лидировали «в качестве объектов ненависти»[1768]. С 1920-х до середины 1950-х годов антипатия к представителям этих этнических групп, в основном, поддерживалась убеждением, что они захватили политическую власть в стране и притесняют русский народ[1769]. В последующие десятилетия, если говорить о кавказцах, на первый план вышла неприязнь к торгово-экономической составляющей их деятельности – считалось, что, пользуясь недостатками в государственном обеспечении продовольствием и отсутствием конкуренции, они «обирают» русское население[1770]. Такого рода претензии к выходцам с Кавказа можно обнаружить в дневнике искусствоведа В. Десятникова, близкого Л. Леонову и П. Барановскому. Десятников вспоминал, как в 1967 году при перелете из Тюмени в Тобольск кавказцы загрузили весь самолет ящиками с фруктами и зеленью, и делал далекоидущие выводы:
Фрукты и овощи кавказцы покупают за бесценок в близлежащих областях Казахстана и Узбекистана, а потом с выгодой для себя реализуют в Тюмени, Тобольске, Сургуте, Ханты-Мансийске и в иных местах, где люди на новостройках последнее отдадут, лишь бы детям купить витамины. <…> Поскольку это не кооперативная торговля, а именно частное предпринимательство под прикрытием различных фиговых листков, то в руках торговцев сосредоточиваются большие деньги, не облагаемые никакими налогами. Торговля поставлена на широкую ногу. На Север – самолет с овощами и фруктами, а оттуда – чемодан с деньгами. <…> После революции государство полностью задавило русский частный сектор, но оказалось не в состоянии одолеть торговый инстинкт южан. <…> Купить-продать – это у них акт жизнеобеспечения, деяния и даже подвига, освященного полуторатысячелетней историей Корана и тысячелетиями торгового язычества[1771].
Астафьев в «Ловле пескарей в Грузии» упрекает грузин в предательстве высоких романтических идеалов, символизируемых «Витязем в тигровой шкуре» Руставели[1772], ради постыдного, как ему кажется, стремления к обогащению и вульгарной демонстрации собственной успешности. Об этом один из пассажей рассказа, вызвавший наибольшее возмущение оппонентов писателя:
Как обломанный, занозистый сучок на дереве человеческом, торчит он по всем российским базарам, вплоть до Мурманска и Норильска, с пренебрежением обдирая доверчивый северный народ подгнившим фруктом или мятыми, полумертвыми цветами. Жадный, безграмотный, из тех, кого в России уничижительно зовут «копеечная душа», везде он распоясан, везде с растопыренными карманами, от немытых рук залоснившимися, везде он швыряет деньги, но дома усчитывает жену, детей, родителей в медяках, развел он автомобилеманию, пресмыкание перед импортом, зачем-то, видать, для соблюдения моды, возит за собой жирных детей, и в гостиницах можно увидеть четырехпудового одышливого Гогию, восьми лет от роду, всунутого в джинсы, с сонными глазами, утонувшими среди лоснящихся щек[1773].
Тем не менее, представление о преимущественном тяготении кавказцев к торгово-экономическим операциям, иногда криминального толка, не стоит связывать с какой-либо определенной средой или группой (другое дело, что национал-консерваторы стремились получить от его эксплуатации политико-культурные дивиденды). Н. Эйдельман в дневнике приводит четверостишие, написанное Давидом Самойловым: «Не спешите в магазины, / как узбеки и грузины, / Ведь грузины и узбеки / не спешат в библиотеки»[1774]. И хотя цитирование предварено ремаркой Эйдельмана «споры о Самойлове, евреях»[1775] (а это может косвенно свидетельствовать о неоднозначном восприятии услышанного аудиторией), понятно, что противопоставление условно кавказских торговых навыков образованию и знанию, традиционно ценимым в еврейской среде, так или иначе влияло на конструкцию образа грузина в кругу советских интеллектуалов еврейского происхождения и либеральных убеждений.
В мифологию же национально-консервативного лагеря комплекс антикавказских мотивов в качестве своеобразной разновидности языка для «своих» вошел довольно прочно. Те из националистов, кто имел доступ к административным рычагам, в 1970-е годы даже пытались вывести проблематику межэтнического напряжения и унижения русских на Кавказе в публичное поле (в контексте более широкого круга вопросов, в частности, процветавшего в регионе кумовства), хотя делали они это, естественно, применяясь к существующим риторико-идеологическим ограничениям (например, в «Комсомольской правде» от 26 января 1979 года был опубликован фельетон Владимира Цекова «Следствие ведут кунаки» о русском парне, пострадавшем в Северной Осетии в результате недобросовестности следствия[1776]).
Понятно, что в подцензурной позднесоветской литературе репрезентация этнического и межэтнических отношений была довольно формализованной и предопределялась идеологическим догматом «братства советских народов» («отрицательный» герой с выраженными этническими характеристиками, как правило, уравновешивался «положительным» персонажем с теми же характеристиками). На пути любого рода этнического негативизма стояли мощные фильтры, миновать которые обычно удавалось в силу стечения обстоятельств либо благоприятной политико-идеологической конъюнктуры, заставлявшей редакторов идти на риск, публикуя текст с «национальным выпадом»[1777]. Тут стоит вспомнить о прецеденте – появлении в начале 1957 года романа Валентина Иванова «Желтый металл», где криминальные явления (незаконная торговля золотом) обрели этнически выразительное лицо. По сведениям Н. Митрохина, через четыре месяца после издания романа он был изъят Главлитом из оборота «за “хулиганские выпады в адрес грузин и других советских народов”»[1778]. Именно Иванову, считает Митрохин, принадлежит не самое почетное первенство в создании и публикации «литературного произведения на русском языке, проникнутого ксенофобией в отношении целого ряда этнических групп и еще три десятка лет не имевшего в этом деле публично заявлявших о себе последователей»[1779]. Нетрудно догадаться, что, когда Митрохин отсчитывает дистанцию в три десятка лет от появления «Желтого металла» до публикации следующего произведения в этнофобском ключе, в роли продолжателя он видит Астафьева с его рассказом «Ловля пескарей в Грузии».
Как уже говорилось, в этом рассказе обычные для астафьевской прозы конца 1970-х – первой половины 1980-х годов темы и мотивы («порча» народного организма под воздействием стремления к обогащению, забвение традиций прошлого, экологизм, столкновение «торгашеско-потребительской» и «труженической» морали и т. п.) были развернуты на необычном – иноэтническом и инокультурном – материале. Пространственные, темпоральные и социальные антитезы, в которых воплотилось традиционное «неопочвенническое» возмущение неблагообразием современности, автор на этот раз находил в «чужом» пространстве. «Свой» для повествователя мир в рассказе не изображался, но был символически «внеположен» Грузии и, как вытекало из некоторых фрагментов текста, ценностно ей противопоставлен. Подобное противопоставление было одним из вариантов фундаментальной для астафьевской прозы геокультурной оппозиции Юга и Севера, внутри которой климатические характеристики легко конвертировались в социальные: Юг (будь это Грузия, Украина или Кубань[1780]) – пространство тепла, изобилия и соотносимых с ними сытости, самодовольства, Север – зона холода, аскезы и непритязательной скромности. В общем, образно-риторическая стратегия рассказа Астафьева сама по себе, безотносительно к внелитературным обстоятельствам, содержала вызов романтическому канону, воспевавшему «солнечную Грузию». Столь резкое отступление от почти нормативного восхищения южными красотами, предполагал впоследствии автор, многими было принято в штыки.
Позднее Астафьев рассуждал о причинах неприятия «Ловли пескарей…» и с подлинным или мнимым простодушием отказывался делать различия между материалом рассказов, опубликованных в «Нашем современнике»:
В первых двух рассказах действие происходит на Вологодчине, где я тогда жил… В рассказах этих изображены русские люди такими, какие они есть в жизни, и ничего, никаких претензий с их стороны не последовало. Другое дело грузины, приученные читать о себе сказочки, к лести привыкшие как в жизни, так и в литературе[1781].
Дополнительным раздражающим фактором для грузинской элиты, по мнению Астафьева, было то, что публикация рассказа и его бурное обсуждение совпали с проходившим в республике крупным уголовным процессом «о злоупотреблениях власти, о невероятно расхищаемых богатствах республики, о крушении нравов, в том числе и попрании национальных обычаев и традиций»[1782].
В итоге в обстановке первых лет перестройки, когда «любое экспрессивно окрашенное слово по поводу той или иной нации становилось детонатором бурных перепалок»[1783], астафьевские обличительный пафос и литературные «новации» грузинские коллеги-писатели не оценили[1784] и сочли «грубым, беспардонным» высказыванием[1785], а Н. Эйдельман предъявил Астафьеву обвинения в расизме[1786]. М. Шнеерсон, полемизируя с Эйдельманом[1787], обратила внимание на фразу, предварявшую в рассказе саркастический портрет: Отар похож «на того всем надоевшего типа, которого и грузином-то не поворачивается язык назвать»[1788]. Действительно, романтический национализм в «неопочвеннической» версии предпочитал культурно архаичные национальные типы, своего рода «уходящую натуру» – крестьян-бессребреников, воплощавших безграничное терпение женщин-тружениц, «святых людей» – монахов, в астафьевском же рассказе возникал «антиромантический» и сравнительно новый, хоть и «всем надоевший тип» грузина-торговца. Ненавистное «деревенщикам» «торгашество», стремление к обогащению и демонстрация социальной успешности («форсуны и хвастуны»[1789]) в данном случае изображались с памфлетной резкостью (что новостью не было), но этнически конкретизировались (что было скандалом). В спорах вокруг рассказа сдетонировало именно это расхождение между этнической характерностью героя-торговца – неконвенциональной и, пользуясь современной терминологией, неполиткорректной, и «современностью» описанного типа. На первую обратили внимание все, на вторую – немногие. Интересно, однако, что в опубликованном в 1988 году «Зрячем посохе» схематика портрета современного российского мещанина была практически полностью идентична схематике портрета грузина-торговца:
Посмотрели бы хоть раз пристально сами на себя некоторые мои земляки, на собственных «Жигулях» прибывающие в деревню на выходной или на «лоно природы». Боже мой! <…> Качается искусственная обезьянка на резинке; зад машины в радуге ниток, на стекле что «по-гишпански аль по-аглицки» написано! За рулем не хозяин, а владыка! Рядом – владычица, надменно-презрительная ко всему идущему и ползущему, хозяйка, сзади – предки владык: теща или тесть с непримиримо горящим взглядом, выражающим непреклонность: «Да! Добыл! Сам! Вот этим горбом! Вот этими руками! Да! Драл с вас на рынке шкуру! И буду драть! И с меня драли и дерут!»[1790]
В одном и другом случае Астафьев направлял инвективы против «хозяев жизни» и проявлений социального превосходства – спеси, высокомерия, «фанаберии», то есть качеств, которые у «деревенщиков» помечали социально успешные урбанизированные сообщества, но в «Зрячем посохе» он делал это на «своем» материале (что изначально нейтрализовало остроту вопроса об этнической принадлежности объекта обличений), а в «Ловле пескарей…» – на «чужом». Правда, в рассказе речь шла не об интеллектуальном снобизме городской элиты, но о спеси нуворишей-мещан и торговцев, на чьем фоне «бедный, но честный» повествователь ощущал свое превосходство. Потому, помимо яростного разоблачения низких нравов и дурного вкуса грузинской элиты, он брал на себя задачу предъявить собственным поведением более цивилизованные, нежели те, которых придерживается Отар, культурные и поведенческие нормы. Так, он пеняет приятелю на несоблюдение «дресс-кода» в публичном месте, намекает на необходимость менее феодального обращения с женой и дочерью, к которому Отара обязывает факт учебы в Москве. Когда Кита Буачидзе в возмутившей Астафьева книге сравнил его с «английским вице-губернатором», который «после некоторого отсутствия прибыл… не скажу, что в колонию, нет, в доминион»[1791], он существенно утрировал ситуацию, дабы поиграть с ее политическими смыслами (колонизация, русификация и т. п.), но знаки авторского культурного превосходства, причем в крайне редком для Астафьева «цивилизационном» контексте, в рассказе, действительно, были.
Морализаторско-обличительный пафос астафьевского рассказа, адресованный представителям «братского народа», оказался столь шокирующим, что традиционная для «неопочвеннической» прозы «спецификация» героев по «сословному» признаку и сентиментальное астафьевское любование «простым» грузинским людом отошли на второй план. На VIII съезде советских писателей противники и сторонники Астафьева согласно апеллировали к идеологеме «дружбы народов»[1792]. Грузинские писатели утверждали, что Астафьев вместо изображения подлинной Грузии дал набор «архисубъективных оценок»[1793] и свой «духовный автопортрет»[1794]. В. Распутин, напротив, доказывал, что Астафьев в силу исключительно ответственного понимания межнациональной дружбы обнажил язвы «братского народа». В его логике этнически чужое оказывалось политически если не «своим», то во всяком случае интегрированным в некую общую культурную и этическую область и на этом основании легитимным объектом критической рефлексии. Характерную для поздней «деревенской прозы» метафору болезни народного организма Распутин объединил с характерным для официальной риторики клише Советского Союза как «общего дома»:
Мне казалось, что все мы, представители разных народов и национальностей, живем все вместе в одном, хоть и просторном, но общем доме. <…> Все хорошее и плохое у нас на виду, ничего не скрыть, и любая болезнь, любой недостаток не есть его личное дело и личное достояние, от него страдают все. Мне казалось, что по долгу и совести своей и службы литература несет ответственность за все, что происходит с ее народом. <…> Именно потому, что живем в одном доме и одной семьей и от недостатков любого из нас страдаем сообща. И что же получается: об американском народе говори все, что заблагорассудится, а о своем соседе не смей[1795].
Метафора распространяющейся болезни, использованная Распутиным, была по-своему продуктивна в разговоре об Астафьеве. Она выражала крайний скептицизм автора в отношении советской системы и предвосхищала тотальное отчаяние в вырождающемся человечестве, которое периодически будет его охватывать в 1990-е годы. Так или иначе, попытки сочувствующих Астафьеву критиков и многих коллег-писателей в 1986 году показать надуманность обвинений в этнофобии и истолковать «Ловлю пескарей…» в традиционном ключе «общечеловеческого» социального и морального критицизма не увенчались успехом. В семиотический ландшафт культуры перестройки был вписан экспрессивный и негативный образ «инородца» из астафьевского текста, предвосхитивший медийный стереотип «лицо кавказской национальности». Астафьев же искренне недоумевал по поводу обид грузинской стороны и оперировал неотразимым, как ему казалось, аргументом художнической объективности:
устроили мне травлю на съезде, значит, товарищи-грузины, потом еще <…> за «Ловлю пескарей», так сказать, произведение совершенно, по-моему, честное, объективное, с уважением к Грузии написано и к грузинам, хорошим грузинам, а к плохим – я и к русским так же пишу, так сказать, никаких разделений не делаю[1796].
Ирония последующего развития событий заключалась в том, что актуальный в 1986 году этнофобский код прочтения собственного рассказа Астафьев в итоге принял. Созданный почти через десять лет второй вариант «Ловли пескарей в Грузии» (1997) автор снабдил фактографией и комментариями, которые, казалось бы, полностью подтверждали сложившуюся в глазах многих критиков и читателей репутацию этнофоба.
Если пойти по пути подсчета высказываний, которые можно квалифицировать как выражение неприязни к различным этническим сообществам, то в эпистолярии Астафьева легко будет установить их рост с конца 1986 года. В 1988 году в интервью французской газете «Либерасьон» писатель запальчиво заявил, что это Эйдельман в нем «взбунтил <…> какую-то <…> ноту зла… антисемитом большим он меня сделал»[1797]. Астафьев полагал, что причина его злоключений и остракизма со стороны некоторых критиков – нарушение табу, повсеместно регулировавших публичный разговор о евреях. Аргументы в свою пользу он успешно отыскивал в творчестве любимого им Николая Гоголя, чей «Тарас Бульба», утверждал он, не ставится на сцене и в кино потому, что «товарищи жиды там оказываются написанными такими, какие они есть на самом деле. А такие, какие они есть, они никому и даже самим себе не нравятся»[1798]. В письмах рационализация ситуации, связанной с перепиской с Эйдельманом, также протекала через постоянную апелляцию к стандартным мифологемам о присущем евреям коварстве и злонамеренной дискредитации ими национальных движений других народов. Политическая теория «еврейского заговора», которая и ранее не воодушевляла писателя[1799], по-прежнему не находит у него отклика, но факт противодействия евреев, навязывающих окружающим идею своего «избранничества» и с этой целью замалчивающих чужие достижения, сейчас кажется ему несомненным. В письме певцу Евгению Нестеренко он иронически комментировал ситуацию воображаемой смены этнической принадлежности Мусоргского: «…если б фамилия у него была Факторович, сколь камней, памятников и слов “самый гениальный” свалилось бы на нас! Уши б прожужжали, совсем бездарными бы нас поименовали на фоне гения Факторовича!»[1800]. Когда Астафьев в письме Юрию Нагибину замечал: «И я вижу и ощущаю, что мы, русские, становимся все более и более статистами истории»[1801], он не только выражал мучительное переживание национального поражения, но видел в нем результат «надорванности» народного организма политическими катаклизмами ХХ века и одновременно умелого использования евреями катастрофических ошибок и заблуждений русских.
Пришедшиеся на конец 1980-х – 1990-е годы эрозия привычных структур коллективного самопонимания, массово переживаемые русским населением СССР растерянность, недоумение, обида, утрата прежних символических преимуществ нашли в Астафьеве, да и в других «деревенщиках» (В. Белове, В. Распутине), своих ярких выразителей. В этот период они буквально и уже в последний раз в истории направления стали «голосом народа», проецировавшего свои страхи и боль на этнически чужое и социально незнакомое. Переписанная Астафьевым «Ловля пескарей в Грузии», если иметь в виду параметры образа этнического Чужого и модальность обоснования этнической неприязни, стала наиболее «чистым» литературным образцом массового рессентимента 1990-х годов.
«Нет, меня фактически в Грузии не обижали. У меня все еще было впереди, но при мне везде и всячески унижали русских людей»[1802], – объяснял свою позицию Астафьев и дополнял второй вариант рассказа – в духе постперестроечной публицистики по национальному вопросу – фактами повсеместного глумления грузин над русскими (в первом варианте их, естественно, не было). Новые факты меняли изначальную расстановку смысловых акцентов и лишали актуальности эффективный для первого варианта рассказа моралистико-социальный код прочтения. Существенно, что автору оказывались важны не столько эти разоблачительные факты, сколько возможность преподнести их публично и тем самым доказать неизменность – после бурных событий[1803], связанных с публикацией первого варианта «Ловли пескарей…» и переписки с Эйдельманом – своей позиции. Отсюда манифестация в дописанной вводной главке желания «целиком, без кастраций» высказаться по национальному вопросу:
Хватит шапку ломать, хватит заискивать, выслуживаться перед «братьями дружеских земель и республик». Следует быть достойным выслушать и прочесть правду о себе любому человеку, всякому народу[1804].
Как бы следуя логике устранения умолчаний, автор восстанавливал некоторые этнические номинации и последовательно использовал в рассказе идентификацию по этническому принципу. Вместо «располневшей на казенных харчах неряшливой поэтессы»[1805] в первом варианте во втором появляется «располневшая на казенных харчах неряшливая еврейка»[1806]; вместо «каких-то иностранцев, будто бы французского и польского происхождения», потихоньку сбывающих «импортные тряпки»[1807], возникают представившиеся французами «два польских проходимца, муж с женой, чего-то в России и на юге снимающие для какого-то журнала.<…> в общем-то обыкновенные спекулянты»[1808]. В итоге персонажи редуцируются к расхожим и легко опознаваемым, почти фельетонным типажам, ассоциируемым с морально предосудительным поведением. Так, посетивший писателя в Сибле его будущий грузинский переводчик сообщает о конфликте с коллегами по Тбилисскому университету – «сплошь (курсив мой. – А.Р.) взяточниками, пьяницами, бабниками»[1809]; грузинские торговцы чеканкой «в глазах русских людей» выглядят «дельцами, мошенниками, копеечными торговцами и злыми воришками»[1810], среди грузин «работать никто не желает, но отдыхать от работы и глумиться над русскими, которые их кормят, всегда пожалуйста»[1811].
Второй вариант рассказа невозможно истолковать вне символико-идеологического контекста астафьевской публицистики и переписки 1990-х годов, где писатель мрачно пророчил превращение Казахстана в рабовладельческую республику с русскими рабами[1812], негодовал по поводу «политиканства и кавказско-азиатского лукавства»[1813], которыми, как он полагал, прикрывалось желание использовать российские ресурсы. Наконец, в самом рассказе, он возмущался «надменным, куражливым и мстительным»[1814] поведением грузинской и прибалтийских делегаций на первом Съезде народных депутатов СССР. Травматичность переживаемых в этот период процессов он выразил на языке националистической доктрины, но остался при этом на подорванной самим ходом событий позиции «старшего брата в семье народов»[1815]. Любопытно, однако, что «защитно-компенсаторный национализм»[1816] в астафьевской редакции был лишен положительной проекции. Грузинский народ разоблачался за «расторгованные» на базарах национальные чувства и признавался банкротом, не способным наладить независимое существование, однако русский народ представал не столько его подразумеваемым позитивным антиподом, сколько двойником. Созданный Астафьевым портрет постсоветской России был весьма критичен, но, вероятно, критичность и следовало расценивать как очередное подтверждение авторской непредвзятости в оценке морального состояния народа:
…страна, где воровство и пьянство сделались нормой жизни; страна, в которой постепенно вымирает или уезжает за рубеж порядочный, талантливый, умный народ; страна, утратившая духовное начало и по-прежнему считающая, что честь, совесть и ум эпохи есть где-то поблизости, но не дается в руки, как склизкая рыбина; страна, захлестнутая пошлостью, с цепи сорвавшимся блудом, давно уже отравленная потоком суесловия и торжествовавшей прежде и торжествующей поныне лжи, полупрофессиональности, лени; страна, не наученная работать без конвоя и жить без страха…[1817]
Значимый для второго варианта рассказа мотив национальной униженности давал писателю возможность фабульно и эмоционально узаконить мотив, связанный с переживанием униженности личной. «Грузинскую эпопею» и «еврейскую напасть» Астафьев описал как несправедливо нанесенное оскорбление, очередное унижение. Символический язык обиды и уязвленности, к которому автор прибегал в первом варианте рассказа, здесь применялся уже без какой бы то ни было оглядки на идеологические ограничения и конвенции. Прозаик, например, был уверен, что скандальное обсуждение рассказа на Съезде писателей инспирировали его противники (он утверждал, что еще в гранках рассказ доставили в аппарат грузинского писательского Союза с комментарием: «Автор оскорбляет грузинский народ»[1818]). Тактику руководства СП и части редколлегии «Нашего современника» (С. Викулова и Гавриила Троепольского) в сложившейся ситуации он бескомпромиссно считал «предательством»:
Я не был готов к натиску такого сплоченного отряда защитников передовой идеологии и нерушимой дружбы народов, растерялся <…> и решил <…> уехать со съезда и написать письмо о выходе из Союза писателей, умеющего так здорово предавать своих членов…[1819];
я был объявлен вечным врагом грузинского народа[1820].
В общем, личную историю автор генерализовал, а выпады в свой адрес трактовал как действия против него персонально, против группы единомышленников и даже всего русского народа. Он полагал, например, что К. Буачидзе хотел «на основании рассказа Астафьева дать ему и попутно всему русскому народу по мозгам»[1821], Эйдельман впоследствии также «точно рассчитал, кому и когда нанести удар из “новых”, наиболее окрепших писателей, чтобы утолить свою давнюю злобу и выместить ее на писателе, которого били, били и не добили. И самое время его, как Эйдельману казалось, уже лежачего, добить, чтобы другие сподвижники этого еще не добитого боялись Эйдельманова пера…»[1822]
Травматизм безусловно деструктивной для него ситуации автор снимал и иным образом – интегрируя свою историю в дискурс справедливости (исторической и божественной). Если первый вариант «Ловли пескарей…» завершался словами старого грузина дяди Васи: «Если тебя… если тебя… <…> торогой мой русский гость, кто обидит у нас, Грузия, того обидит Бог…»[1823], то последняя главка второго варианта подтверждала эффективность надперсональных механизмов возмездия: противники писателя либо обнаруживали несоответствие собственным политическим и культурным притязаниям (спесивые грузины не могут установить у себя гражданский мир) и винились перед «старым, израненным солдатом, которому добавили ран и горя»[1824], либо оказывались поверженными (Эйдельман умер, как ошибочно замечает автор, «едва перевалив за пятьдесят»[1825], и на вопрос об отношении к нему Астафьев лапидарно отвечает, имея в виду раннюю смерть своего оппонента: «Господь нас уже рассудил»[1826]). Истолковывая случившиеся за десять лет с момента публикации рассказа события, писатель следовал характерным для его историософии представлениям, согласно которым действенность принципа высшей справедливости бесспорна, однако имеет чаще всего характер карательных санкций (наподобие «прокляты и убиты»):
Бог, которого потеряла эта земля, все-таки есть, Он все слышит и видит, и как бы от Него ни закрывались и ни отрывались, все равно найдет и накажет всякого, кто живет не по Его заветам. Вон главного богохульника и преступника Сталина-Джугашвили Господь нашел и покарал уже мертвого, и живого карал страхом, негодными детьми, бессонницей, болезнями, да он по тупости ума не понимал этого, искал и находил врагов вокруг, свертывал им головы, как курицам с насеста[1827].
Астафьев не смог удержаться от упоминания этнической принадлежности Сталина и акцентировал внимание на его родовой фамилии Джугашвили, хотя понятно, что описывал он крайний случай компенсации личностной неполноценности за счет «изобретения» врагов. В таком контексте принцип этничности утрачивал релевантность: негативные этнические характеристики становились обозначением этических заблуждений, исправление которых писатель делегировал высшим силам. Но в чем тогда заключался смысл педалирования «этнического» на протяжении всего рассказа, включения его в самые провокационные контексты с риском навлечь на себя очередные обвинения в антисемитизме, этнофобии и русофобии в том числе?
В самом деле, негативистская риторика, охватывающая во втором варианте «Ловли пескарей…» различные объекты (этнические группы и персоналии), оставляет впечатление избыточности и самоценности ее для писателя. Иначе говоря, Астафьеву важны не только радикально враждебные дефиниции оппонентов, но сама процедура воспроизведения дискурса, конфронтирующего с иными дискурсами, обладающими, как предполагает писатель, авторитарным потенциалом. В первом варианте рассказа таким раздражающим, исподволь оспариваемым дискурсом был советский интернационализм, во втором к нему добавились интеллигентский либерализм, носителем которого представал Эйдельман, и национально-патриотический дискурс, по отношению к которому Астафьев выступал «русофобом»[1828]. Несколько упрощая: либерализм в лице Эйдельмана, заступавшегося за грузин, казахов, бурятов, калмыков[1829], клеймил «предрассудки», защищал реальных и потенциальных жертв репрессий (в том числе символических), а консерватор и националист Астафьев в пику рьяно отстаивал право на резкие оценочные суждения («правду»), даже если они переворачивают представления о «жертвах» и «палачах» и окружающие считают их стереотипами, «предрассудками». В основе подобной стратегии самопозиционирования, как нетрудно заметить, лежало неприятие, часто демонстративное, любых форм культурно-идеологического «диктата». То, что внешнему наблюдателю казалось упорствованием в заблуждениях, для автора «Ловли пескарей…» оказывалось способом восстановить травмированную субъектность, утвердить независимость от суждений, которые то ли побуждали, то ли принуждали его изменить свою позицию. «Я вдруг осознаю, – замечал В. Сокирко в связи с перепиской Астафьева и Эйдельмана, – от чего так взбешивается Астафьев: от самой мысли, что его посмели посчитать способным предать обиды своих корявых русаков, поддаться похвалам-угрозам московских критиков-редакторов, продаться за выдаваемое ими звание “большого писателя”»[1830]. Сложно судить о том, насколько верно такое чтение реконструирует мотивы поступков Астафьева, но в любом случае оно проницательно фиксирует его нетерпимость к некоторым формам «насилия», в данном случае – дискурсивного. В адресованном в редакцию «Литературной газеты» в 1991 году письме Астафьев, с явной оглядкой на свою ситуацию, заявлял: «В литературе талантливый писатель всегда одиночка, а бьет и топчет его окололитературная шпана, объединенная в шайки…»[1831] Так, нарушая правила и нормы, доводя до апофеоза заложенные в его личном проекте потенции к анархистскому противостоянию административному, культурному, политическому или иному давлению[1832], Астафьев – певец «артельности» и людского братства – парадоксально погружался в полное одиночество и превращался в заложника собственной жажды независимости. Поздний Астафьев выстраивал свой персональный миф как миф нонконформистский, свое поведение – как свободное от групповых и корпоративных ограничений, поэтому критицизм в отношении одного этноса (например, грузин или евреев) он уравновешивал не меньшим критицизмом в адрес другого (русских), трактуя свою позицию в терминах морального обличения и не замечая, что утверждалась она подчас в риторических формах, содержавших заряд агрессии и нетерпимости.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В 1970-е годы «на каком-то помпезном цэдээловском вечере» Александр Проханов «на вопрос ведущего, кто из писателей повлиял на него в наибольшей степени, брякнул: “Набоков”. Вечером ему позвонил критик Феликс Кузнецов, который едва ли не поседел от этой реплики: “Как же ты мог? Ты ведь не считаешь, что Набоков на тебя повлиял больше, чем деревенщики?”»[1833]. Если довериться Проханову и его биографу, пересказавшему этот эпизод именно в такой версии, мы получим еще одно свидетельство влиятельности «деревенской прозы» в культуре «долгих 1970-х». В эти годы она – живое олицетворение «преемственности», современное продолжение русской классики и образец для подражания, то есть в каком-то смысле тоже классика, породившая такое число эпигонов, что над этим можно было иронизировать. Но как далеко – в хронологическом отношении – простиралось влияние «деревенщиков», остались они, идеологически и стилистически, «запечатаны» в советской эпохе или определяющие для их творчества консервативные интенции не ограничиваются советским периодом? Поиск аналогий и параллелей, выстраивание конструкций «преемственности» – процессы, зависящие от исследовательской позиции, предопределенной ею оптики и в известной мере от вкусовых предпочтений – в данном случае осложнены, во-первых, невозможностью сфокусироваться на каком-то отдельном сегменте (сегментах) культурного поля, внутри которого сегодня работают литераторы консервативных убеждений, во-вторых, трудностями в определении современного консерватизма. Понятно, что структура литературного пространства XXI века институционально устроена иначе, нежели в «долгие 1970-е», когда в нише консерватизма, во многом с разрешения власти, разместились прежде всего «неопочвенники» – публичные интеллектуалы, критики и писатели, приковавшие к себе всеобщее внимание страстной критикой заблуждений цивилизации и прогрессизма. Несмотря на то, что консерватизм в позднесоветской литературе был протеичен (достаточно вспомнить сочинения Юрия Трифонова или Андрея Битова), последовательно манифестировали связную консервативную позицию в подцензурной литературе, пожалуй, лишь «деревенщики», и до широкого читателя «долгих 1970-х» консервативные ценности они донесли на языке «неопочвеннического» органицизма. В современных же литературных репрезентациях консерватизма (в том числе национал-консерватизма) подобной риторической доминанты больше нет, сейчас консервативные идеи находятся в интенсивном взаимодействии с национализмом и национал-большевизмом, концепцией Пятой империи, либерализмом и пр., с равным успехом ими обосновываются территориальный экспансионизм, перспективность евразийского проекта или базирующаяся на консюмеризме политическая стабильность – словом, они являются компонентом различных дискурсов и проговариваются в разной стилистике. Поэтому, пытаясь обнаружить след риторико-идеологического присутствия «деревенщиков» в современной литературе, нужно понять, кого с кем мы сопоставляем и что – с чем. Конечно, можно ограничиться ближним кругом – Борисом Екимовым, Владимиром Личутиным, Владимиром Крупиным, то есть писателями, тематически и/или организационно связанными с «деревенской прозой» «героического периода», но дебютировавшими позднее ее корифеев и потому воспринятыми в свое время как ее второй эшелон. Их творчество критикам и читателям обычно казалось «эхом» уже отгремевшего направления, развитием уже открытых стилистики и героя. Подобное положение дел менялось медленно, по мере того, как сходили с литературной сцены лидеры позднесоветского «неопочвенничества» и нарастала потребность читателя в этом самом «эхе», то есть неком «додумывании» и «дописывании» знакомых коллизий. Когда в 2008 году Александр Солженицын назвал Екимова «новым писателем-деревенщиком»[1834], выдвинувшимся на первый план в последние десятилетия, он довольно точно отозвался на произошедшие смещения в структуре литературного процесса – «деревенской прозы» уже давно нет как школы, но есть автор, неотрывно наблюдающий с хорошо знакомой по прозе и публицистике Залыгина, Можаева, Абрамова точки зрения за очередными «мутациями» сельского мира. Подобные случаи бесспорной и изначальной (на уровне происхождения, социального опыта и т. п.) включенности в традицию «деревенской прозы», даже несмотря на заметные позднейшие отклонения от ее «канона» (например, в романах Личутина), сегодня соседствуют с многочисленными примерами энергичного встраивания консервативных идеологем в новые конструкции.
Если иметь в виду чрезвычайно разнородное, представленное множеством различных групп и направлений сообщество патриотов-государственников-националистов, то нужно констатировать: отношения его лидеров Александра Проханова и Захара Прилепина с наследием «деревенской прозы» явно не помещаются в понятие «преемственности». О полемике Проханова в «долгие 1970-е» с «неопочвенниками» и его желании скорее отмежеваться от них, чем сблизиться, уже говорилось. В 1990-е, на волне протеста против политики Ельцина, возглавляемая Прохановым газета «День» (с 1993 года «Завтра») сотрудничала с бывшими «деревенщиками» (Валентином Распутиным, Василием Беловым, из младшего поколения – Владимиром Личутиным), в которых к тому времени проснулся столь ценимый Прохановым государственнический инстинкт. Плодовитый романист и редактор по совместительству, судя по всему, куда внимательнее, нежели его бывшие оппоненты, ставшие соратниками, рефлексировал компоненты своей «политической метафизики». Наличия в ней традиционалистско-консервативной составляющей он не отрицал, хотя не считал ее ведущей. В давнем интервью журналу «Элементы» Проханов объяснял, что согласен отстаивать самые «суперконсервативные» ценности, в частности «согласие с природой, с Родиной»[1835], и основывать новую идеологию «на древних устойчивых камнях: на Боге, душе, святости, товариществе, подвиге»[1836], однако современная политическая обстановка обрекает его и единомышленников на протестное нонконформистское поведение (в том числе левацкие публичные жесты и заявления). Важнее, однако, что эксцентричная смесь левых и правых идей возникает у Проханова вокруг демонизированного консерваторами «долгих 1970-х» концепта модернизации. Последнюю, с его точки зрения, надо понимать прагматически – как набор инструментов и технологий для научно-экономического рывка, и метафизически – как преодоление смерти и достижение бессмертия в духе идей Николая Федорова. Вопрос, который не могли обойти «деревенщики» и который для многих из них навсегда остался непреодолимым препятствием в поисках внутреннего согласия с советским строем, – о судьбе крестьянства, Проханов решает довольно просто, в духе «всем сестрам по серьгам»: да, сталинская модернизация уничтожила крестьянский мир, но наиболее талантливым выходцам из него она открыла уникальные возможности, – в общем, «именно русские крестьяне создали эту колоссальную цивилизацию»[1837]:
Строились эти города и заводы теми же крестьянами, которых выдавливали из деревень. Эти крестьяне, знавшие только соху и пастушеский кнут, становились трактористами, бульдозеристами, они овладевали суперпрофессиями, они учились строить самолеты, они учились создавать сверхсовременное оружие. Эти крестьяне шли в красные университеты, в красные институты. Космисты уже нашего времени, 1960 – 1970-х годов, те, кто запускал королевские супермашины в космос, – деревенские ребята[1838].
В то время как «деревенщики», возможно, неожиданно для самих себя, вышли к постановке вопроса об «организованном насилии» – в отношении органических структур, будь то природа или крестьянский мир, Проханов, считавший консервативное «постепеновство» устаревшей и наивно-прекраснодушной программой, продолжает твердить о невозможности обойтись без насилия в предстоящих крупных преобразованиях:
Модернизации не хочет уже огромная часть разложенного, зомбированного, отучившегося работать, севшего на иглу, пьяного, обессмысленного народа, который в течение последних двух десятилетий обрабатывали гайдаровские демиурги. Поэтому модернизация, которая сейчас должна начаться, при серьезной нацеленности будет все равно силовой. Неосталинизм неизбежен[1839].
В 2012 году Проханов выступил инициатором создания Изборского клуба – экспертной площадки, чья идеология должна была стать альтернативой Валдайскому клубу. Среди задач, продекларированных на первом же заседании, значилась выработка «консервативных патриотических евразийских моделей для администрации президента»[1840], и, вероятно, эту просветительски-экспертную в отношении власти деятельность наиболее ортодоксальные авторы, некогда принадлежавшие к «деревенской прозе», могли бы поддержать. Антизападнический и антилиберальный пафос романов и публицистики Проханова также вызывает ассоциации с позицией «неопочвенников», но у него этот пафос насыщает мессианскую, футуроориентированную доктрину вечной, переживающей череду реинкарнаций Империи. Подобное мышление в имперских координатах «деревенщикам» в их классический период было мало свойственно, и к геополитическим смыслам имперской проблематики, занимавшим Проханова, они в большинстве случаев оказывались равнодушны, как, впрочем, и к воспеванию государственной мегамашины и ее научно-технологических возможностей.
Между левым Прилепиным и «деревенщиками», тяготевшими, несмотря на условность таких ориентиров для советской эпохи, все же к правым, идеологические и творческие пересечения обнаружить, казалось бы, еще труднее. Относительно недавно Прилепин дал медийный повод своим оппонентам сопоставить себя с «деревенщиками» не в самом выгодном ракурсе – после публикации написанного от лица либеральной общественности «Письма товарищу Сталину» (2012) в его адрес зазвучали обвинения в антисемитизме. Прозрачный намек на этническое происхождение современных либералов, «приватизировавших историческую правду»[1841] (например, «Ты сохранил жизнь нашему роду. Если бы не ты, наших дедов и прадедов передушили бы в газовых камерах… Ты положил в семь слоев русских людей, чтобы спасти жизнь нашему семени»[1842]), побудил оппонентов писателя сразу же вспомнить о возможных «образцах» и «учителях» – антисемитских передовицах Проханова в «Завтра» и позиции Распутина (не очень понятно, почему умеренного Распутина, а не Белова или Солоухина, скорее всего, потому что сейчас последний классик «деревенской прозы» воспринимается как олицетворение этой «школы»):
Ах, Захар, только при чем же тут «российская либеральная общественность», как вы поименовали нас в подложной подписи под письмом? К чему эти стыдливые эвфемизмы? Не надо стесняться, Захар, все свои, особенно в газете «Завтра». Скажите просто и громко: жиды! – и к вам потянутся за знаниями новые массы возбужденных читателей. Старые, правда, посторонятся, но тиражи не упадут.
Захар – стесняется (пока), и эта понятная стеснительность образует смысловую щель, в которую проваливаются остатки логики.
Ибо если речь о том, что во всех бедах России виноваты евреи, то Прилепин опоздал с этим открытием лет на двести, поляна занята, и не надо отнимать хлеб у главного редактора. (Не говоря уже о Валентине Распутине, который и писатель был покрупнее, и инфицировался раньше, и вместе с братьями по разуму гонял инородцев по хате хоругвями, когда Прилепин пешком под стол ходил.)[1843]
Антисемитизм, выражающий неприятие либерализма, действительно, отчасти напоминает случай «деревенщиков», хотя певцами сталинской эпохи эти авторы не были. Вообще, с антисоветизмом некоторых «деревенщиков», например Астафьева или Солоухина, просоветские и просталинистские симпатии Прилепина согласуются плохо. В его публицистике воображаемая советская империя, потерянная в 1990-е годы – «самые злые и подлые времена новой истории России»[1844], оправдана как колоссальный модернизационный рывок, потребовавший от граждан СССР героизма и сверхнапряжения, но придавший «метафизическое» измерение их существованию. Если же сместить внимание с содержательного аспекта на механизмы, задействованные в психологически-дискурсивном «изобретении» прошлого, то прилепинская ностальгия по подлинности и смыслу, сконцентрированным в советской эпохе и отсутствующим в консюмеристской современности, окажется зеркальным отражением ностальгии «деревенщиков» по подлинности и ладу, сосредоточенным в крестьянском мире, но уничтожаемым цивилизацией. Содержательно антагонизм левых и правых остается не снят: «деревенщики» были полны скепсиса по поводу насильственно-революционного вторжения в «органику» народной жизни, Прилепин, напротив, иронизирует по поводу массовой приверженности принципам эволюционного общественного развития и эффективности «теории малых дел», узаконивающей эскапистские умонастроения и парализующие волю к гражданскому действию:
Достала любовь к малой родине. Невыносимо надоела теория малых дел.
Я сделал все малые дела: вкрутил лампочку в подъезде, заплатил налоги, поднял демографическую ситуацию, дал работу нескольким людям вокруг меня. И что? И где результаты в моей большой Родине? Сдается, пока я делаю свои малые дела, кто-то делает в противовес мне свои большие, и вектор приложения сил у нас совершенно разный.
Хватит уже любить малую страну, ту, что помещается под боком, под животом, ту, что, как подушку, можно положить под голову. Хватит уже малых дел для маленькой страны.
Хочется большой страны, больших забот о ней, больших результатов, большой земли, большого неба. Большой свободы хочу. Большего выбора жду[1845].
В обоих случаях идентичность, групповая и персональная, не в последнюю очередь обусловлена отторжением от современности, романтическим стремлением, с одной стороны, компенсировать ее «неполноту», с другой, найти не-идеологическую, «органицистскую» основу национальной истории. Прилепин – и тут он опять совпадает с «неопочвенниками» – полагает, что разрывы и конфликтность отрицающих друг друга периодов русской истории устраняются чувством «крови и почвы» («почва и кровь – говорить об этом сегодня странно и почти неприлично»[1846]). Биолого-органицистским моделям он следует и тогда, когда выводит русскую историю из природно-климатических условий (статьи «Отборный козий изюм», «Пролеты и проруби»), но лишает ее линейности и прерывности, превращая в мифологический континуум, где главным становится ощущение сопричастности ушедшим поколениям:
В России нет современности. Поэтому ее никто не понимает. Может, и не надо?
В России нет времени – русское время, раскипевшееся, выплескивает за край, обваривает Европу и возвращается, дымясь. <…>
В лейтенанте, бритом до синевы <…> выкрикнувшем <…> узнаю…
И еще строка из «Слова о полку Игореве» пульсирует. И разрывая пасть, выбегая в кошмар, хочу крикнуть: «За Мишку Лермонта. За Серегу Есенина. За Пашку Васильева. За Колю Тряпкина».
Встану из-под снега, отряхнуться сил нет. Обледенелым чучелом стою, руки в стороны. Дружки уже дома, щи хлебают. Рязанское поле смотрится в смурь. Домой надо. Мама дома. В груди болит. В валенках хрусткий снег, жжет сквозь носки шерстяные – да, бабушка связала. Мои позвонки во мне. Моя кровь течет. Я пришел из России.
Повстанцы Разина обступили меня, гулебщики, пьянь, обступили. Они – близкие мои. Трогаю кору, шершаво, хорошо.
Мишка Лермонт и Пашка Васильев – близкие мои. Каждая строчка покачивается во мне, как ветвь снегом полная. Качнешь, упадет мягко. Хорошо.
Свет исходит на меня: митрополит Илларион, протопоп Аввакум, Василий Розанов, Леонид Леонов. Теплопожатие мудрецов ладонью ищу, как ребенок руку отца. Зачем ребенка обижать? Верните мне близких моих…[1847]
Риторически этот тип конструирования культурной преемственности «поверх барьеров», с сильными антизападническими акцентами («Почему – Европа? У них – евроцентризм, они никого, кроме себя не узнают и не знают, но мы-то что?»[1848]), характерен для послевоенной национально-консервативной публицистики в диапазоне от Леонида Леонова до Виктора Чалмаева «молодогвардейских» времен, но в процитированном эссе «Я пришел из России» есть и прямая ссылка на «деревенщиков», точнее, свойственный им способ символизации российского пространства – город и деревня:
Каждый русский писатель хоть немного деревенщик, если он русский. Вся Россия – деревня, и чуть-чуть рассыпано провинциальных городов, и одинокий Санкт-Петербург. И заселенная нерусскими Москва. И опять – деревни. Как тут не стать деревенщиком, если в избах над вечным покоем в России живет больше людей, чем в трех европейских странах[1849].
Прилепиным «деревенская проза» усвоена именно как сложившийся язык описания национального мира, потому он и цитирует «деревенщиков» сразу топосами и вдобавок подчеркивает «бессознательность» подобного цитирования: «Это ведь не в книгах у деревенщиков я прочел, это было в моей еще, даже не прошлой, а позапрошлой какой-то жизни. Мать на мостках у черной воды с белым бельем»[1850]. Иными словами, свидетельство памяти, размноженное литературными образцами, как бы доказывает, что художник попал в цель – обна(ру)жил некие сущностные основы русской жизни и тем самым приобщился к традиции.
На рубеже 1990 – 2000-х годов все более заметными становятся попытки консерваторов изменить структуру самоописания и актуализировать новые контексты самопонимания. В статье «Консервативный вызов русской культуры» критик Владимир Бондаренко развивает тезис, согласно которому русский консерватизм есть самый настоящий модернизм, обеспечивший нашей стране «прорывы в будущее» и позволивший осуществить ее мессианское призвание:
Излишний консерватизм вреден в технике, в науке, но не может быть прогресса в понятии добра и зла, сострадания и жалости, любви и ненависти. Отказ от четкости этих понятий в западной культуре и привел их к «концу истории», к потребленческому тупику. Дай Бог, чтобы они пришли к своему новому консерватизму. Может быть, мы и послужим им в этом примером? Это и есть наш вечный урок всему миру – русский консервативный вызов. Весь ХХ век был подтверждением консервативности русского национального сознания и русской культуры в ее высших проявлениях. Но каким авангардным был этот консерватизм! <…> в какие бы революции, в какие бы бурные потоки не попадала Россия, ее неизменно выносило и будет выносить к консервативному берегу. Это не консерватизм внешних проявлений. Не консерватизм тела. А консерватизм души[1851].
Примечательно, что изменением рамок консервативной самопрезентации озаботился сподвижник Проханова по газете «День» / «Завтра», которую Бондаренко же и назвал «самым ярким плодом реакционного авангарда»[1852]. В 1990-е годы под эгидой этого издания на антилиберальной платформе происходило объединение правых и левых сил различной степени радикальности. Необходимость узаконить, во-первых, левый (национал-большевистский) фланг патриотического движения, которое преследовало, в общем, консервативную цель – спасти советскую-российскую государственность[1853], во-вторых, свое право на крайние формы политического протеста, стала, с моей точки зрения, сильным импульсом к тому, чтобы переформатировать сложившиеся к 1990-м годам формы традиционалистского самоопределения под идею «консервативной революции»[1854].
Тем не менее, законсервированный во времени вариант «неопочвеннического» традиционализма по-прежнему можно встретить в литературном и публицистическом отделах журнала «Наш современник». Как таковые рассказы и повести, тиражирующие мотив спасительного возвращения домой, к корням или оплакивающие безвозвратно разрушенный малый мир русской деревни[1855], сложно упрекнуть в стилистической архаике, поскольку она как раз может оказаться эстетически новой. Однако в «Нашем современнике» мы имеем дело с воспроизведением сюжетно-стилевых клише, сложившихся еще на рубеже 1970 – 1980-х и адаптированных к современным реалиям. Оттого так трудно датировать написанные в подобном ключе тексты, особенно поэтические – их можно отнести и к 1970-м, и к 2000-м:
- А эта даль… Гляди, глаза сужая.
- А воздух, воздух! Надышись им впрок…
- Была земля бы. Наша. Не чужая.
- А избы будут.
- Будут. Дайте срок.
- Есть белый пар над вешними лугами,
- Над озерцом,
- Над дремой камыша.
- Есть главное. Есть Родина. Есть память.
- Все, без чего не может жить душа[1856].
Такого рода литература, не столько нацеленная на осмысление социального или культурного опыта, сколько апеллирующая к определенному эмоциональному строю, в «Нашем современнике» существует как будто в фоновом режиме – для поддержания традиционалистской репутации издания и сохранения ядра читательской аудитории, сформированной, среди прочего, и чтением авторов-«неопочвенников».
Любопытно, что писатели, считающие себя продолжателями традиции «деревенской прозы», по-прежнему часто строят автоописание вокруг факта собственной культурно-географической маргинальности: конфликт модного / сиюминутного и классического / традиционалистского интерпретируется в пользу тех, кто работает вне новейших литературных трендов и ориентирован на относительно неширокий круг читателей, также переживающих рассогласование с современными стилем жизни и ценностями. Михаил Тарковский, литературную генеалогию которого Прилепин возводит прямо к «деревенщикам» («Михаила Тарковского начнут писать через запятую после Валентина Распутина и Василия Белова»[1857]), утверждает, что он хорошо представляет своего потенциального читателя, чей литературный вкус воспитан классикой XIX – начала ХХ веков и «деревенской прозой»:
Читатели бывают грубо двух типов: глубинные и просто читатели. Глубинный – это так называемый подготовленный читатель, воспитан на традиции, ему все равно, где происходит действие – в Москве, Красноярске или Южно-Курильске, была бы глубина и связь с русской классикой. Это как мы, только ума хватает не писать. Могикане.
А для большинства вникать в быт промысловиков скучно и неохота, к тому же смутно чувствуют, что вроде что-то такое уже было у деревенщиков (дурацкое вынужденное слово, как рамочка). Мои енисейские рассказы читают либо могикане, либо люди, связанные с тайгой, природой, дикой Сибирью[1858].
Внук поэта Арсения Тарковского и племянник режиссера Андрея Тарковского с 1986 года обосновался в Сибири, в поселке Бахта Туруханского района, где стал охотником-промысловиком. Какие-либо эскапистские подтексты своего разрыва со столицей он отрицает. По его словам, он решил жить в сибирской глуши только потому, что влюбился в тайгу и Енисей. Тарковский оказался равно востребованным идеологически оппонирующими друг другу, но известными приверженностью традиционной реалистической прозе журналами (например, «Новым миром» и «Нашим современником»), ныне он – лауреат нескольких премий, среди которых литературная премия «Ясная поляна» (2010) в номинации «XXI век (Яркое произведение современной прозы)». В конце 1990-х – начале 2000-х Мария Ремизова отмечала общность материала у Тарковского и «деревенщиков», но разводила их по признаку, который в тот период казался исключительно важным: проза Тарковского «совершенно аполитична. Здесь нет и не может быть той агрессивно-протестной ноты, на которую почти сплошь сбились современные “деревенщики”, нет и не может быть их заполошных поисков врага»[1859]. В публицистических выступлениях писателя последних лет изоляционистски-антизападнический пафос все-таки появляется («Именно об объединении вокруг традиции только и стоит говорить в наши нелегкие и символичные дни, когда международные события окончательно расставили все по местам и вернули нас к ключевой истине: у России нет в политике друзей на Западе»[1860]), однако интересны не столько примеры «цитирования» идеологических пассажей из коллективного национально-консервативного высказывания 1980 – 1990-х, сколько корреляция между непосредственным социальным и культурным опытом автора и воспроизводством «неопочвеннической» риторики. Опыт является здесь ключевым словом. Ценностный консерватизм, который мы «вычитываем» из текстов «деревенщиков», не был результатом умозрительной комбинации идей, он выражал совершенно непосредственный, эмоционально заряженный культурный опыт, знакомый тысячам горожан, у которых было деревенское прошлое и которые в своем новом городском существовании сохраняли его суррогатные формы, наподобие дачно-огородного времяпрепровождения. Случай Тарковского как раз демонстрирует удивительную взаимосвязь между образом жизни, повседневными практиками, типом эмоционального переживания и способностью / возможностью реанимировать свойственную классической «деревенской прозе» комбинацию идеологем. Понятно, что ни столь широкой аудитории, на которую могли рассчитывать предшественники, ни условий, благоприятствующих распространению взглядов о «власти земли» и ценности «корней», у Тарковского нет, как нет и амбиций реально повлиять на нежелательные политико-экономические решения[1861]. Тем не менее, ценность проговаривания «простых истин» о необходимости контакта с «почвой» и природой для него несомненна – он видит в традиционализме культурную репрезентацию сопричастности «природным первоначалам» и «бытийным глубинам»: традиционалистский опыт (существование на «окраине», признание важности «гемайншафтных» связей, ощущение уязвимости человека перед природной мощью и вместе с тем привычка полагаться на собственные знания и умения, обеспечивающие выживание в мире с минимальным наличием цивилизационных новшеств) гальванизирует определенные тип аргументации и риторику, и наоборот – эта риторика узаконивает значимость опыта «простой жизни». Культурной легитимацией такого опыта и занята проза Тарковского, балансирующая между «этнографией» и «феноменологией», отсылающая к Астафьеву, Белову, Шукшину и одновременно к Бунину и Казакову. Так, один из персонажей чувствует «безотчетную гордость за свою жизнь, за это нескончаемое чередование тяжкого и чудного, за ощущение правоты, которое дается лишь тем, кто погружен в самую сердцевину бытия»[1862], другому всегда кажется, что «он не просто мнет лыжню, разбирает вариатор или колет дрова, поглядывая на небо, а прикасается каждый день своей жизни к какой-то светлой и морозной истине»[1863]. В эссеистическом комментарии к своей прозе Тарковский замечает: «Жизнь, которой живут некоторые из этих людей (его героев. – А.Р.), полна осмысленного труда, полна традиции»[1864]. Сама же «традиция» у Тарковского овеществлена и эстетизирована: она складывается из навыков приспособления к природе и практических навыков, гарантирующих независимость от цивилизационных благ. Поскольку Тарковский в каком-то смысле «деревенщик наоборот» (не выходец из крестьянства, ставший «профессионалом культуры»[1865], а, напротив, потенциальный, благодаря семейным связям, член столичной творческой богемы, проделавший путь от «цивилизации» к «природе»), овладение навыками, необходимыми в новом сообществе, – центральный момент его самоописания. Большие фрагменты его прозы отданы скрупулезному изображению процессов, технологий и предметов, которые сохранились в быту енисейских промысловиков (например, приспособлений для вылова из воды подмытых лесин, изготовления юксов, бродней и т. п.). Однако, как и у «деревенщиков», умение делать нечто недоступное горожанину – человеку цивилизации, и одновременно описывать эти умения, объясняя их культурный смысл, является знаком принадлежности к разным сообществам, своего рода допуском в каждое из них. Такая стилистика близка рассуждениям Белова, Солоухина, Абрамова, Залыгина о «материализации» традиции в вещи и ценности метиса (Дж. Скотт). Структурно она повторяет попытки «деревенщиков» запечатлеть изнутри уходящий мир «старины», но реализуется с более высокой степенью детализации (подчас это превращает рассказ – например, об изготовлении настоящего, без склейки, туеса, – в лиризованное практическое пособие):
Желтый, солнечный, свежий туес готов, и сразу вспоминается вся наша история, целые поколения русских людей, хранивших в туесах молоко, сливки, квас, ягоду, и счастье от твоего приобщения к мастеровой культуре дает ощущение небывалой твердости и правоты жизни, не передать которую нашим детям.
Сразу многие мужики тоже захотели сделать туес, даже мой друг, старший товарищ и учитель промысловик Геннадий. А я вспоминал, как туго схватился сколотень с рубашкой, и какую они, оба еще такие хлябающие, опасно тонкие, получили вдруг могучую натяжку, и какой красивой змейкой пролег шов замка! Прежде я видел только старые, затертые до хмурого блеска туеса, пропитанные соком ягоды, исцарапанные, смуглые от времени, а тут из-под моих рук вышла-родилась та же священная для меня древняя форма, и меня будто подняло на мощной волне времени и охлестнуло этим великим приобщением к трудовой истории[1866].
Характерная для «неопочвеннического» традиционализма антитеза естественно-природного мира деревни и унифицирующей городской цивилизации также остается актуальной для сторонников «преемственности и неделимости русского времени»[1867]. В очередной раз они повторяют аргумент, согласно которому русская классика навсегда утвердила первенство национально-аутентичного и «корневого» (деревни) над фальшью урбанистической цивилизации: «Литература наша, всегда жившая живым, настоящим, корневым, отторгая город с его элитарностью и западными веяниями, обманула цивилизацию и проложила себе основное русло через Сибирь – край, где русское еще сохранилось нетронутыми очагами…»[1868] В уже цитированном пассаже из статьи Прилепина о русском писателе, который всегда – «деревенщик», отождествление России с деревней так же служит инструментом не столько культурной критики (как, например, у Бунина в «Деревне»), сколько странной романтической архаизации, убеждающей читателя в неевропейской и, значит, нелиберальной сущности страны, которая раз за разом отвергает стандарты буржуазного благополучия.
В принципе, так называемый «конфликт города и деревни» для современной культуры часто не что иное, как штамп, мотивно-стилистический стереотип, «отработанный» уже в позднесоветский период, когда он был официально закреплен на первых позициях в негласном перечне важнейших тем. Возможно, по этой причине сейчас обращение к «деревенской» проблематике невольно провоцирует художника – во всяком случае художника, реагирующего на «устарелость» и «актуальность» стилевых форм, – задуматься о языке описания объекта: можно ли и нужно ли «изобретать» что-то новое или стоит воспользоваться чем-то из репертуара готовых форм (например, тех, что были созданы и популяризированы «деревенской прозой», либо их деконструкцией в отечественном постмодернизме, либо стилистикой социальной «чернухи» в духе «репортажа с того света», где «тем светом» предстает деревня и, шире, российская провинция, охваченная распадом и вырождением). Показательно, что в основе одной из самых удачных современных интерпретаций «деревенской прозы» – спектакле Алвиса Херманиса «Рассказы Шукшина» (2008) в Театре наций – лежал отказ от традиционного реалистического жизнеподобия, ставшего, казалось бы, обязательным для театральных постановок или экранизаций «деревенщиков». Херманис сразу сымитировал традиционные методы «вживания» в малознакомую натуру – перед постановкой труппа съездила на Алтай в шукшинские места, «но вовсе не для того, для чего ездили в деревню артисты Додина, когда репетировали “Братья и сестры”. Работа с документальной реальностью была нужна им (актерам Херманиса. – А.Р.) для того, чтобы как можно дальше от нее оторваться, стилизовать ее, превратить в бренд, ходовой товар»[1869]. Как следствие, в спектакле шукшинский мир и герои остраняются и отстраняются. «Гиперреалистический гротеск»[1870] Херманиса в сочетании с условностью удерживает дистанцию между «ними» – алтайской деревней 1960-х и современным зрителем – и проблематизирует само представление о возможности полноценного перевоплощения в аутентичных «сельских жителей». Присутствие последних обозначено размещенными на сцене гигантскими цветными постерами с фотографиями шукшинских земляков. Другими словами, действительность алтайского села вписана в модную дизайнерскую рамку, «закатан[а] в евроглянец»[1871] с тем, чтобы добиться необходимого эффекта – доказать, что «реальность, особенно замешанную на мифологии “русской души”, не ухватишь голыми руками, обув артиста в валенки и заставив изображать местный диалект. Чем резче наводишь фокус на материал, тем заметней должна быть рамка, огораживающая условность»[1872].
В литературе последних лет тоже было несколько заметных попыток истолковать типично «неопочвенническую» тему города и деревни в обход традиции «деревенской прозы» – речь идет о романах Романа Сенчина «Елтышевы» (2009) и Андрея Дмитриева «Крестьянин и тинейджер» (2012). В «Елтышевых» вынужденное переселение горожан в деревню оборачивается культурной деградацией и смертью трех поколений семьи. У Сенчина деревенская среда безмерно далека от романтических представлений о «национальных корнях» и «хранилище традиций»: во-первых, состоит она, в основном, из деморализованных людей, бегущих от катастрофических перемен на постсоветском пространстве, – перед читателем предстает этакое «гетто для социально неуспешных»[1873], во-вторых, в ней предельно упрощены моральные нормы и обессмыслены принципы коллективной солидарности. Капитуляция «культуры» перед «природой», очевидная в пределах небольшого деревенского сообщества, тем более зловеща, что и «природа», в качестве витальной силы или побуждающего к жизни инстинкта, бессильна что-либо изменить в судьбах деградирующих героев. В общем, если идти за привычным отождествлением деревни с Россией, то «Елтышевы» безжалостно запечатлевают национальный мир в фазе распада и умирания. Сюжетику Сенчина критики не без оснований иронически суммируют слоганом «все очень, очень плохо. А будет, несомненно, еще хуже»[1874], но вряд ли этот «депрессивный» подход инспирирован полемикой с «деревенщиками»[1875] (деревня, по словам Сенчина, уже в распутинских повестях была «показана довольно страшно»[1876]). Нежелание редуцировать «неопочвенничество» к сентенции «деревня – благо, город – зло», внимание к риторике самоотрицания, актуальной для иных «неопочвенников» (например, Шукшина или Астафьева), как раз освободило Сенчина от необходимости борьбы с фантомом элегически-идиллической «деревенской прозы» и – при внешней традиционности письма – сделало менее зависимым от ее идеологических топосов.
В отличие от Сенчина, не раз заявлявшего, что Шукшин и Распутин – среди его любимых писателей[1877], А. Дмитриев сознательно дистанцировался от «деревенской прозы». По стечению обстоятельств лауреатом «Русского Букера» он стал в день смерти В. Белова. На ожидаемый в подобной ситуации вопрос о преемственности в отношении «деревенщиков» Дмитриев ответил, что ее не существует, он – автор прозы о деревне, но не «деревенской прозы»:
То, что называют деревенской прозой, основано на неком мифе. <…>
Миф этот был задан, по большому счету, двумя произведениями, которые написали два городских человека. Одно из них – это рассказ Юрия Казакова «Запах хлеба», а другое – рассказ Солженицына «Матренин двор». Там существенно противопоставление города и деревни: город – это упадок и растление, а в деревне живут праведники, деревня сохраняет подлинную жизнь. Не могу сейчас подробно теоретизировать, но в целом вся деревенская проза, конечно, основана именно на этом. И, конечно, речь в ней идет также о трагедии деревни. Деревни, уничтожаемой властью и пожираемой городом.
Думаю, что деревенской прозы в этом смысле уже давно не существует. Она сошла на нет, перешла в какую-то ксенофобию. Впрочем, что с ней произошло – это отдельный вопрос, довольно сложный[1878].
Тем не менее, романная коллизия «Крестьянина и тинейджера» – встреча и сосуществование представителей двух социальных миров (городского и деревенского) – как будто взята из сюжетного арсенала «деревенской прозы», которая – если упростить реальное многообразие изображенных ею ситуаций, дабы показать их «архетипическую» основу – констатировала проблемы в коммуникации между симулирующим «культурность» модернизированным горожанином и непосредственным сельским жителем. У Дмитриева общение Панюкова, крестьянина со старообрядческими корнями, и прячущегося в деревне от армейского призыва москвича Геры не несет ни особой конфликтности, ни драматизма, в нем нет ни живой взаимной заинтересованности культурной «инаковостью» соседа, ни резкого взаимного отторжения. Педагогический и нравоучительный эффект, который можно было бы извлечь из столкновения социальных антагонистов, как и очерково точные подробности современного сельского быта, очевидно, занимали автора меньше, чем кризисы героев, каждый из которых проживает свое «крушение иллюзий» и преодолевает страх перед реальностью (в этом отношении «Крестьянин и тинейджер» варьирует сюжетные ходы «романа воспитания», действие которого разворачивается на фоне деревенских реалий). Тем не менее, восприятие новых произведений, посвященных деревне, настолько обусловлено опытом чтения «деревенщиков» и, возможно, в еще большей степени, выработанными критикой (в том числе «неопочвеннической», но не только) рецептивными клише, что справиться с этой инерцией почти невозможно – традиционалистский народнически-патриотический посыл «вчитывается» в подобные тексты по определению. Так, на сайте Центральной библиотеки Ангарска читатель под ником bibliodama оставляет следующий комментарий к роману Дмитриева:
Общение этих двух персонажей открывает перед нами картину жизни в современной России со всеми ее проблемами.
Но на фоне всех недостатков, я с удовольствием окунулась в прелести деревенской жизни, которая в романе описана с любовью и мастерством. Я подозреваю, что автор многое из того, о чем написал, пережил сам или встречал своих героев в жизни.
Это роман не о спившихся россиянах, а о способности людей сохранять свои лучшие человеческие качества при любых обстоятельствах.
Это роман о любви к своим историческим корням и к своей Родине, несмотря ни на что[1879].
М. Тарковский также несколько модифицирует стилистику прямолинейного столкновения города и деревни, что неудивительно, ведь уже сами «деревенщики» сомневались в правомерности оппозиции неиспорченной крестьянской Руси и разлагающегося Вавилона. Но поскольку характерно традиционалистский поиск подлинности немыслим без Другого, город Тарковскому нужен как социокультурный негатив: в рассказах, очерках, романе «Тойота-креста» писатель развернул практически весь спектр антиурбанистических мотивов (город-обман, город-иллюзия) и всю «классическую» гамму антиурбанистических эмоций (от страха до усталости). Вместе с тем в прозе и публицистике Тарковского, как ранее у «деревенщиков» – сибиряков, антитеза «город – деревня» проецируется на систему взаимоотношений центра и периферии. Правда, в нынешней ситуации жесткого контроля над «автономистскими» тенденциями, которые были бы способны – пусть не на уровне конкретных политических акций, а в символически-дискурсивной сфере – расшатать «властную вертикаль», областнические или антиколониальные коннотации в антицентралистских высказываниях Тарковского едва различимы. Критика центра им и Прилепиным к регионалистским идеям имеет косвенное отношение, поскольку главная ее мишень – уродливая диспропорция в организации экономической, социальной и культурной жизни, ставшая, по их мнению, главным результатом либеральных реформ в России. Антиурбанизм в итоге оказывается антилиберальной критикой элит, оставивших на произвол судьбы социально слабые категории населения:
Думалось, что с концом социализма страна вернется к прежнему, дореволюционному варианту, когда не зазорно было жить в провинции, когда провинциальные университеты котировались не меньше столичных. Но оказалось, что сейчас еще сильнее приток людей в Москву, где почти все – деньги. Опять все не так.
Настоящая русская жизнь происходит именно за границами столиц. Получается парадокс: все средства массовой информации в Москве, и из Москвы на всю страну идет информация о том, как горстке людей из Москвы видится жизнь страны[1880];
И так (за чертой бедности. – А.Р.) ведь живет треть страны, если не больше. Почти весь крестьянский мир так живет – нищий, грязный, всеми плюнутый. Мы, жители городов, любующиеся на бары и рестораны, которых все больше, пополняющие собой фирмы, производящие воздух, зачастую уверены, что жизнь наша правильна и верна.
Но ведь предпоследний клерк в Москве получает в месяц столько, сколько вся эта деревня за два месяца. А любой столичный бизнесмен, завтракающий в ресторане с подругой, отдает за этот завтрак столько, сколько получают все трактористы и сварщики целого села за квартал. И это не преувеличение. Кто же объяснит мне, почему такое положение вещей считается правильным, нормальным, приемлемым…[1881]
Я не коснулась обширной проблемы апроприации традиционалистских идеологем массовым искусством (между тем, это обычная практика современного российского телевидения и литературы) и остановилась лишь на нескольких вариантах консервативной ревизии социальных процессов, идущих в России и на постсоветском пространстве с начала 1990-х годов, но даже этот очень неполный обзор «превращений» «неопочвеннического» консерватизма (точнее, некоторых его составных частей) в литературе 2000-х убеждает, что идеологический и политический потенциал традиционалистского тренда весьма востребован. Думается, логика, реконструированная Львом Гудковым при возникновении первых признаков неотрадиционализма во второй половине 1990-х – «крах реформационных иллюзий и ожиданий неизбежно должен был обернуться возвратом к каким-то разновидностям идеологии “целого”»[1882] – способна объяснить рецидив подобных умонастроений, которые и сами когда-то стали рецидивом страха и усталости от слишком стремительных и жестоких изменений. Понятно, что из всего комплекса «неопочвеннических» идеологем и метафор сейчас отбираются те, что вызывают импликации антилиберального свойства, например, очуждают властные элиты указанием на этническое происхождение их членов, напоминают о болезнях «народного тела», разъятого на части, наконец обосновывают идеологию «особого пути» России – в большинстве случаев это элементы общеконсервативной парадигмы. Напротив, то, что заставляло в «долгие 1970-е» видеть в «неопочвенническом» консерватизме реакцию крестьянского мира на сокрушившие его перемены, то есть исторически и социально специфицировало явление, ныне оказывается интересно по преимуществу историку и читателю, желающему поностальгировать по старой русской деревне. Имеет смысл еще раз заострить внимание на том, что позднесоветское «неопочвенничество» было в огромной степени попыткой преодоления разрывов и фрустраций, возникавших внутри советского проекта (вероятно, поэтому оно и закончилось вместе с ним), и выражало опыт, пожалуй, последнего поколения, выросшего «на земле» и оттого так драматично пережившего «отрыв» от нее. За чертой 1991–1993 годов полудиссидентство «деревенщиков» как некая внутренне завершенная позиция, предполагавшая культивирование определенных эмоций («боли» и «возмущения» прежде всего) и особого рода стилистику, довольно быстро утратило былую привлекательность – «самая большая геополитическая катастрофа ХХ века» перевела СССР в статус невинных жертв тайных и явных сил. Понадобились новые символические ресурсы для терапии очередного потрясения, и в качестве таковых традиционалистские идеологемы «деревенской прозы» пригодились лишь частично. Как когда-то «деревенщики» стремились сохранить в воображении «крестьянскую Атлантиду, которая затонула и лежит на дне океана»[1883], так в 1990 – 2000-е годы зрелище уходящей на дно «красной Атлантиды»[1884] создало эмоционально-риторическую основу для сплочения сторонников рессентиментного консерватизма, принадлежавших к разным партиям и движениям, аполитичных и беспартийных, но дезориентированных проблематизацией прежних социальных норм. Теперь уже «советское» воспринималось ими как репрессируемое либеральной культурной политикой, оболганное, насильственно изгоняемое из коллективной памяти и тем более ценное в качестве основания для формирования новой идентичности – на основе «преемственности» и «традиции», вне зависимости от связываемого с ними содержания.
ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Абрамов Ф. «Мука творчества! Где взять слова…»: Дневник начала 1954 года // Двина. 2010. № 1. С. 20–27.
Абрамов Ф.А. Неужели по этому пути идти всему человечеству? Путевые заметки: Франция, Германия, Финляндия, Америка. СПб.: Правда Севера, 2002. 213 с.
Абрамов Ф.А. Слово в ядерный век. М.: Современник, 1987. 447 с.
Абрамов Ф.А. Собр. соч.: В 6 т. СПб.: Худ. лит., 1991–1995.
Абрамов Ф.А. Чистая книга: незавершенный роман. СПб.: ГАМАС, 2008. 239 с.
Астафьев В. Автобиография // Урал. 2004. № 5. С. 3 – 13.
Астафьев В.П. Верность своей земле (интервью с В.П. Астафьевым подготовил Г. Карапетян) // Красноярский рабочий. 1984. 29 апреля. С. 3.
Астафьев В.П. До будущей весны. Молотов: Молотовское книж. изд-во, 1953. 152 с.
Астафьев В.П. Затеси. Из тетради о Николае Рубцове // Новый мир. 2000. № 2. С. 7 – 36.
Астафьев В.П. Люблю мою прекрасную Сибирь // От Саян до Таймыра: Репортаж о сегодняшнем и завтрашнем дне сибирского края. Красноярск: Красноярское книж. изд-во, 1986. С. 11–24.
Астафьев В. Надсаженный мы народ // Труд. 1997. 30 мая. С. 8.
Астафьев В.П. Нет мне ответа…: Эпистолярный дневник 1952–2001. Иркутск: Издатель Сапронов, 2009. 720 с.
Астафьев В. «Понимать, беречь природу» // Социалистическая индустрия. 1979. 21 июля. С. 4.
Астафьев В.П. Пролетный гусь. Иркутск: Издатель Сапронов, 2001. 496 с.
Астафьев В. «Речь моя – сибирская…» // Красноярский рабочий. 1974. 29 июня. С. 3.
Астафьев В.П. Собр. соч.: В 15 т. Красноярск: Офсет, 1997.
Астафьев В.П. Сопричастный всему живому // Лауреаты России: Автобиографии российских писателей. М.: Современник, 1980. Кн. 3. С. 6 – 28.
Астафьев В.П. «Я – последний, кто разочаруется в человеке» [записал А. Тарасов] // Известия. 1997. 6 декабря. С. 6.
Астафьев В. – Смирнов В. Провинция родная, что случилось? (записал беседу Г. Татауров) // Правда. 1991. 18 мая. С. 3.
Белов В. Без стыда… // Вологодский комсомолец. 1978. 8 декабря. С. 4.
Белов В. Внемли себе: Записки смутного времени. М.: Скифы, 1993. 143 с.
Белов В. Лад нашей жизни: о трезвости без оговорок (беседу вел Ю. Николаев) // Сов. Россия. 1985. 9 июня. С. 2.
Белов В.И. Невозвратные годы. СПб.: Политехника, 2005. 192 с.
Белов В. О пьянстве – начистоту // Комсомольская правда. 1971. 14 июля. С. 4.
Белов В. «Происходящее сегодня – это маскарад…» (Интервью вела Н. Белоцерковская) // Посев. 1992. № 1. C. 41–46.
Белов В.И. Раздумья на родине: Очерки и статьи. М.: Современник, 1989. 352 с.
Белов В. Раздумья о дне сегодняшнем. Рыбинск: Рыбинское подворье, 2002. 367 с.