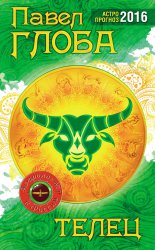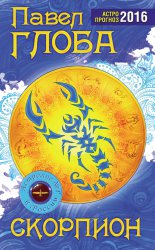Писатели-«деревенщики»: литература и консервативная идеология 1970-х годов Разувалова Анна
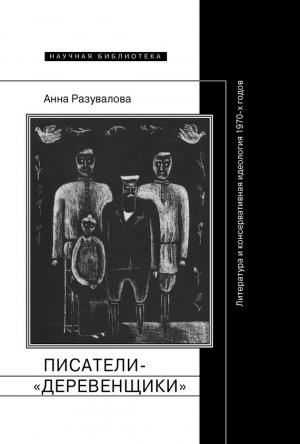
…их было множество, безвестных крестьянских писателей, и вот откуда они все пошли: от тех самых людей, которых деревня называла «лучшими». Они именно этими людьми в большинстве случаев и были – советчиками деревни, выразителями ее дум и чаяний, и если им случалось приобщиться сперва к грамоте, потом к цивилизации и к культуре, они со всей страстью уповали на книгу, на ее спасительное предназначение. У одного возникала при этом проповедь (уже упоминавшийся Бондарев), у другого – изобличение (Подъячев), у третьего – художественное свидетельство окружающего бытия (Семенов). У каждого свое, но все они пошли от «лучших людей», и никто из них эту мессианскую роль литературы не выдумывал, а все только усвоили ее, издавна присущую России, от классиков. Ведь и Гоголь, и Некрасов, и Достоевский, и, наконец, Толстой – все придавали литературе именно это значение и нашли в писателях-крестьянах своих непоколебимых последователей[860].
Намеченная Залыгиным перспектива настолько очевидна, что проговаривать ее не было смысла: стадиально следующая разновидность «пишущего крестьянина» – это «деревенщики». С необходимыми уточнениями они еще одним звеном включаются в этот культурный ряд и обретают в лице Семенова и других крестьянских писателей XIX – начала ХХ веков сословно близких литературных предшественников, но в то же время остаются «непоколебимыми последователями» классики.
Пересмотр «деревенщиками» классической литературы на предмет ее соответствия новому социальному опыту и изменившимся историко-культурным реалиям, как уже говорилось, сопровождался упреками в избыточном критицизме. Разумеется, «деревенщики» никогда не придавали этим нареканиям столь масштабного и провокативного характера, как это сделал И. Солоневич в «Народной монархии» (1973)[861], но ряд «неудобных» вопросов они все же поставили. Правда, риторика и дискурсивный репертуар обсуждения недавней российской/советской истории остались прежними, то есть сформированными в огромной мере именно классикой. Не проблематизируя значимость дискурсов о «народе и интеллигенции», «народе и власти», не ставя под сомнение их объяснительный потенциал, «деревенщики» осуществили смысловую инверсию внутри привычных оппозиций. Ф. Абрамов, например, переадресовал споры о классике, «народе» и «интеллигенции» персонажам незавершенного романа «Чистая книга» (первые наброски – 1958, чистовой вариант нескольких глав – 1983). Идеологическое измерение романного сюжета содержало столкновение, с одной стороны, «интеллигентской» и крестьянской правд, а с другой стороны, профессиональных революционеров и так называемых «культурников»:
– Эх, отменили бы крепостное право в начале XIX века – куда бы шагнула Россия. Даже вообразить трудно, что бы мы сейчас делали.
– И слава Богу. Пусть отсталые, пусть какие угодно. Зато не деляги. Зато сердце сохранилось. Вот почему вся русская литературавосстала против делячества.
– Опять ты путаешь делячество с деловитостью.
– Ладно, против деловитости. Почему против восстали Гончаров, Тургенев, Толстой, Горький?.. Деловитость всегда связана с потерей сердечности. Она рационалистична в основе своей[862].
Участники романного спора оперировали общеизвестными аргументами славянофильской и западнической доктрин[863], но сюжетные перипетии внушали мысль о том, что русская классика, выступая силой консервативной, в результате все же сработала на разрушительную идею революции, вдохновленную взятой с Запада теорией[864]: «…революционеры и литераторы взорвали вулканы, которые таил в себе человек»[865]. Ретроспективно противовесом политическому радикализму революционеров-горожан Абрамов считал тип делового «укорененного» человека. Его литературный генезис можно было бы возвести к Соломину из романа Тургенева «Новь» или Тушину из гончаровского «Обрыва», однако этих персонажей Абрамов не упоминает, что лишний раз подтверждает – он полемизировал не столько с русской классикой, сколько с ее образом, преподанным во время обучения в школе и университете. Герои «Чистой книги» предъявляли претензии русской литературе XIX века за отсутствие «ролевой модели» – деловитого, работоспособного, знающего русскую жизнь героя. Вся русская литература, рассуждает один из абрамовских персонажей, – «оплакивание бездельника, тунеядца, лежебоки и травля человека работающего»[866]. Сам прозаик, видимо, не сразу смог перешагнуть внутренний барьер сомнений во «всемогуществе» классики и продолжал оправдывать ее приверженность герою-«идеалисту» социальными обстоятельствами и «эссенциальными» особенностями национальной культуры:
Русская литература воспитывала читателя в презрении к практицизму, к делячеству, которое обычно переходило в неприязнь ко всему практическому, деловому.
Все любимые герои русской литературы – душеустроители. Единственный Штольц (положительный) все-таки лишен того душевного ореола, которым освещен Обломов. <…> Причин много. Тут и беззаботность существования дворянства… тут и вообще душестроительство, свойственное русскому человеку[867].
Проигнорированного классикой героя позитивного действия, не оторвавшегося от «почвы» и «народа», хотелось изобразить и самому Абрамову, во всяком случае черновой вариант «Чистой книги» и переписка подтверждают такие намерения. В 1975 году в письме к П.А. Худякову, консультировавшему прозаика по поводу организации лесопроизводства в дореволюционной России, он признавался, что видит своего адресата «типом интеллигента из народа, обеими ногами стоящего на земле»[868], и далее, уже отбросив использованное в «Чистой книге» посредничество вымышленного героя, заверял: «…я с детства благоговею перед этим типом русского деятеля, изрядно оплеванного русской литературой»[869]. Однако продекларированная потребность в деловом герое нашла слабое подтверждение в художественной практике Абрамова. «Немец» Виктор Нетесов из романа «Дом» (1978), написанный с очевидными аллюзиями на образ Штольца, на фоне Михаила и Лизы Пряслиных, Егорши Ставрова, действительно, схематичен[870].
Целям культурной самолегитимации отвечали и попытки «деревенщиков» осмыслить региональные литературные традиции (северно-русскую и сибирскую). На территориальную «скученность» писателей традиционалистского толка сразу обратила внимание критика и попыталась описать ее в топонимических терминах, отсылавших к идее «областных культурных гнезд»[871] (например, «вологодская школа»[872]). Правда, эта вроде бы безобидная номинация по региональному признаку, с точки зрения ортодоксов, грозила подорвать марксистско-ленинские принципы концептуализации литературного процесса. Валентин Оскоцкий возмущенно писал о стремлении некоторых критиков обозначать «географические координаты» современной прозы и возрождать тем самым «своеобразный “областнический” подход»[873]:
Не «всесоюзная вышка» (выражение Л. Новиченко), в которой так нуждается наша критика, а волостная «автономия» определяет в этом случае точки отсчета. Приняв их, даже лучшую прозу «Нашего современника» легко будет представить не неотъемлемой частью общего достояния современной литературы, а удельным владением «школы» – вологодской (В. Астафьев, В. Белов), сибирской (В. Распутин, В. Потанин), среднерусской (Г. Троепольский, Е. Носов). Право же, времена феодальной раздробленности на Руси миновали давно и не критике возрождать их вновь…[874]
Для самих «деревенщиков» факт локализации вне культурных центров тоже был ключевым самоидентификационным признаком. Астафьев, например, отдаленность от Центра считал проявлением внутренней независимости авторов, решившихся существовать вне контролирующей распределение благ системы, и приписывал отдаленности скрытый конфронтационный посыл:
Та группа писателей, а число ей с десяток-другой, что сколотилась во глубине России и является сейчас по существу надеждой и совестью этой самой России, как бельмо в глазу у литературных деляг. <…> Их раздражает и бесит, что истинные-то писатели не с ними, а сами по себе, сохраняют самостоятельность настолько, насколько возможно в наши дни[875].
Изначально отношение «деревенщиков» к литературе и культурной жизни «периферии» определялось двумя разнонаправленными устремлениями. С одной стороны, они напряженно работали, чтобы не превратиться в «классиков» областного масштаба, строчащих эпопеи о героических трудовых буднях региона и публикующихся в местных издательствах. С точки зрения Астафьева, подобный вариант литературной карьеры обычно являлся следствием культурной несостоятельности автора, не желавшего либо не способного преодолеть «провинциализм»[876]. С другой стороны, добиваясь общесоюзной известности, они не забывали, что их творческая индивидуальность во многом определялась доскональным знанием местного (средне-, севернорусского или сибирского) материала, вне зависимости от того, шла ли речь о жизненных реалиях или о языковом, интонационно-стилистическом строе. Эту индивидуальность они хотели сохранить. Характерно, что Астафьев, в 1942 году ушедший на фронт из родного села Овсянка и впоследствии проведший тридцать с лишним лет вне «малой родины» (он окончательно переехал в Красноярск в 1980 году), среди причин, побудивших его принять окончательное решение вернуться домой, назвал постепенное оскудение своего персонального культурно-языкового «местного» запаса:
Я очень сильно эксплуатировал свою память, писал о Сибири, а жил вдалеке от нее. Записей не веду, дневников не имею, и все по памяти, вплоть до поговорок и пословиц, даже интонации, которая везде своя. Когда задумал большой роман о войне <…>, то посчитал, что надо находиться в той языковой стихии, от которой буду отталкиваться, среди тех людей, о ком намерен говорить[877].
Однако если мы имеем в виду выстраивание «деревенщиками» некой параллельной – по отношению к традиции русской классики – региональной литературной традиции, важным становится не столько факт творческой «прописки» автора по месту рождения и даже не верность «местной» теме, сколько «изобретаемое» писателями содержание локальной традиции, ее эффективность в качестве инструмента самообъяснения.
Сказать, что региональный литературный ландшафт, на фоне которого видели себя «деревенщики», отличался бедностью, было бы преувеличением. Культурная специфичность Русского Севера стала объектом этнографического изучения еще в XIX столетии, тогда же в общих чертах сформировалось видение этой территории как «резервуара» настоящей, неиспорченной цивилизационными влияниями «русскости», «старины», национальных традиций и языка[878]. Впоследствии Ф. Абрамов и В. Белов охотно воспроизводили дискурсивный ход, мифологизировавший Север по контрасту с Югом как хранилище памяти, традиционной религиозности, самобытного фольклорного и литературного слова[879]. Публичные выступления писателей, полемически призывавших к переоценке «старинного», «патриархального» («Гонение на патриархальность. А ведь патриархальность – та почва, на которой родилась сказка. Патриархальность – совесть и т. д.»[880]), были логическим продолжением идентификации с пространством культурно-исторической древности русских и исчезающей народной культуры[881].
Более запутанно обстояло дело с сибирской традицией, чью культурную значимость приходилось утверждать. Сама «сибирская литература», как показано в обстоятельной современной работе на эту тему, принадлежала к числу семиотических объектов, критерии выделения и изучения которых всегда были подвижны[882], ибо факт ее существования представлялся некоторым исследователям сомнительным. Спектр то «очуждающих», то «приближающих», но при этом чаще всего экзотизирующих литературных трактовок территории косвенно был связан с не проясненным символическим статусом Сибири в составе империи («провинция», «колония», «периферия»?). Наиболее серьезные теоретические обоснования понятия «сибирская литература» предложили в свое время областники Николай Ядринцев и Григорий Потанин, фактически сконструировавшие историко-литературную традицию сибирского регионализма[883], однако в 1920-е – начале 1930-х годов интеллектуальное наследие областничества было скомпрометировано и предано забвению. После этого, полагает Кирилл Анисимов, представление о «сибирской литературе» как о репрезентации регионального самосознания (к чему подводили областники), функционально связанной с местным интеллектуальным сообществом, постепенно было подменено понятием «тема Сибири». Точнее, тематический подход то противопоставлялся территориальному принципу определения сибирской литературы, то входил с ним в странные сочетания[884]. Еще одним тезисом, в соответствии с которым строилась периодизация сибирской литературы, было «запаздывание литературного развития в крае, где приходящие из столиц эстетические инновации могли сохранять актуальность уже после их исчезновения и замены другими в центре»[885]. В общем, когда сибиряки-«деревенщики» в 1960 – 1970-е годы размышляли о региональной литературной традиции, ее очертания и содержание они определяли во многом интуитивно, следуя за читательским опытом, рекомендациями знатоков литературного краеведения и потребностями в самообъяснении. Правда, их деятельность в этом направлении совпала с ощутимыми научно-просветительскими усилиями по созданию литературной истории региона. В Сибири с конца 1960-х годов осуществлялась консолидация гуманитарной интеллигенции, искавшей идеологически допустимые формы репрезентации регионального самосознания. С 1968 года стала выходить серия «Литературное наследство Сибири», в 1982 году филологи, объединившиеся под эгидой Сибирского отделения АН СССР, опубликовали двухтомные «Очерки русской литературы Сибири» – издание, следовавшее принятым в официозном литературоведении принципам классификации и описания материала, но даже с учетом этого обстоятельства ставшее заметным шагом в децентрализации истории отечественной литературы. Культурный ландшафт Сибири после осуществления этих и иных издательских проектов в основных чертах был описан, и ссылкой на региональную традицию при желании можно было нейтрализовать обвинения «деревенщиков» в «диалектальной»[886] поэтике.
Добавлю, что на Русском Севере и в Сибири традиция концептуализации «инаковости» регионов по отношению ко взгляду из центра («извне») не исчезала никогда, несмотря на стремление советских идеологических институтов символически интегрировать страну в единое целое и свести «региональное» к «местному колориту». В Сибири продолжали циркулировать некоторые областнические идеи, вошедшие в лексикон местного интеллектуального сообщества и определившие стилистику его мышления о «своем» пространстве. Николай Яновский, литературовед и критик, близко знавший Залыгина и Астафьева, хорошо передавал эту особенность местной культурной жизни, заметную, в основном, изнутри:
Полагать, что наше поколение… развивалось в большинстве случаев вне «контекста» собственно сибирской мысли и литературы, по-моему, ошибочно. Вяч. Шишков сказал о Потанине: «Потанин в Сибири то же самое, что Лев Толстой в России». Мы могли и не читать Потанина, но о его огромном нравственном авторитете мы узнавали через Н. Наумова, А. Новоселова, Г. Вяткина, Г. Гребенщикова, не говоря о многих других деятелях культуры Сибири, политических ссыльных, путешественниках… Мы могли для себя открыть какого-либо писателя «поздно», но у нас был особенный интерес к истории своего края, к его науке и культуре, особенный, потому что с пеленок ощущали «особенность» Сибири, родного края. Даже если мы не выезжали за его пределы, то каждый приезжий чему-нибудь да удивлялся; дурному ли, хорошему ли, но удивлялся, и это подогревало наш интерес к истории Сибири, к ее настоящему. А потом – это же невероятно, жить, допустим, в Омске (как С.П. Залыгин) и не знать А. Сорокина, Вс. Тараканова (Вс. Иванова), Г. Вяткина, а позднее и Л. Мартынова, а ведь это омичи. Не мы одни ощущали эту особенность края, но и наши предшественники – стали в 20-х гг. открываться журналы (они были и в 10-х гг.), затеяно грандиозное по тому времени издание «Сибирской энциклопедии» – все это нас поднимало и вдохновляло[887].
Многое в сибирской литературе казалось «деревенщикам» интересным более этнографически, чем эстетически (таким было, к примеру, отношение Залыгина к прозе Александра Новоселова, Вячеслава Шишкова, Владимира Зазубрина, которую он противопоставлял «искусству всерьез» Павла Васильева и Леонида Мартынова[888]), но тем любопытнее предлагаемые ими объяснения особенностей региональной художественной словесности. Так, региональная поэтика в трактовке «деревенщиков», как правило, оказывалась производным от мифологизированного восприятия родного пространственно-культурного ареала и местной версии национального характера – северянина или сибиряка. Структура сибирского типа, изображенного Астафьевым, содержала отсылку к представлениям о Сибири как о «вольном крае» с экстремальными климатическими условиями: отсюда независимость чалдона, аффективность его поведения, чуждая утонченности простота нравов и высокая степень витальности[889]. Примерно так же Абрамов конструировал образ помора, когда объяснял происхождение этого типа из северных «просторов, раздолья и воли»[890] и сурового климата. Конкретизируя собственные наблюдения над «безыскусной» «изобразительной» поэтикой сибирской литературы, Астафьев описывал ее посредством мифологем «стихийности» и «витальности»: у «не наезжих, а коренных»[891] сибиряков, утверждал он, «покоряет выпуклая образность, сочный и богатейший язык, сочная природа. Наш грубоватый, не подмазанный крылышком юмор, не вымученная, не выставленная напоказ честность и правда»[892]. В данном случае важна сама идея существования локального варианта письма, хотя сформулированное писателем представление о «сибирском» в литературе – скорее идеальный «автопортрет», чем эвристичное наблюдение, которое можно с достаточными основаниями распространить на местных художников. Характер астафьевских суждений о «зачавшей советскую прозу»[893] сибирской литературе 1920 – 1930-х годов (В. Зазубрине, В. Шишкове, Михаиле Ошарове, Иване Кратте, Лидии Сейфуллиной, Всеволоде Иванове) определялся уже упомянутым убеждением в конфликтных отношениях окраины и властного центра. Пространственно-географическая маргинальность литературной позиции предшественников в глазах Астафьева символизировала большую степень их свободы, независимости, осведомленности о реальных жизненных коллизиях. Намерением власти избавиться от не поддающихся контролю сил он ретроспективно объяснял уничтожение литераторов-сибиряков 1920 – 1930-х годов:
Я думаю, не случайно почти всю сибирскую литературу вырубили под корень. Кто-то инстинктивно почувствовал, что она если не представляет, то будет представлять опасность. Такие мужики, как Зазубрин, Петров и Ошаров, очень много знали и даже сотой доли того, что знали, еще не только не выложили на бумагу, но и не коснулись. И они-то в первую очередь и пострадали. Оставшиеся в живых Шишков, Сейфуллина, Иванов были травлены литературными гончими и по существу загнаны в угол[894].
Репрессированная сибирская проза 1920 – 1930-х годов, считал Астафьев, была очередным примером несостоявшегося крупного культурного явления. Она, по словам писателя, так не успела прийти к «мыслительному слову»:
…сибиряки наши, если б дали им возможность созреть, жить и работать, вспомнили бы в конце концов, что до них были Достоевский, Толстой, Чехов, Бунин – в прозе, Пушкин, Блок, Некрасов – в поэзии… От стихийной, порой «голенькой» прозы они постепенно переходили к мысли[895].
Но, акцентируя самобытность сибирской литературы, Астафьев все же не воспринимал ее в качестве полноценного культурного образования, и не только потому, что этот «проект» не состоялся. Симптоматичным образом самобытность и уровень профессионализма представителей сибирской литературы он определял через отсылку к классическим образцам: «стихийное», «голенькое», этнографическое, что маркировало сибирскую прозу, должно быть преодолено «восхождением» к классическому письму. В этом направлении двигаются современные авторы, полагал Астафьев, вероятно, имея в виду себя и близких литераторов-«деревенщиков»:
Все чаще и чаще в книгах талантливых людей делается видно, что они (пусть и запоздало, с издержками, со скрипом в мозгу и в костях) хотят приблизиться к работе Толстого и Достоевского, не повторяя их, не эпигонствуя, не воображая, что им дан богом тот же талант, а ориентируясь на их совесть, самостоятельность взглядов на жизнь и явления общественные[896].
«Деревенщики», разграничив «внешнее» и «внутреннее» восприятие геокультурного ареала, типы нарратива и риторики, связанные с каждым из них, существенно изменили поэтику изображения сибирского пространства (об этом речь пойдет в главе IV). Постоянными были и их усилия по институционализации региональной культуры: в «долгие 1970-е» и в дальнейшем они редактировали присылаемые писателями-земляками рукописи, помогали в их публикации, рецензировали книги сибиряков, выступали с инициативами проведения региональных литературно-критических семинаров, работали в качестве председателя редколлегии серии «Сибирская библиотека для детей и юношества» (Астафьев) и члена редколлегии серии «Литературные памятники Сибири» (Распутин), содействовали открытию библиотек на селе (например, в родной для Астафьева Овсянке). В региональной традиции они находили дополнительные аргументы, объяснявшие их повествовательную манеру и публичную позицию, а также не вдруг, с их точки зрения, свершившееся превращение современной русской литературы в «самую мужиковствующую литературу в мире»[897]. Но референтом для них всегда оставалась классика: качество текста, созданного на географической периферии, определялось степенью его соответствия классическим образцам, хотя литература, к этим образцам приблизившаяся, естественно, как бы преодолевала свою «локальность», становилась «общероссийской». Другими словами, в иерархично устроенной национальной культуре «региональное» мыслилось нижним этажом, над которым возвышалась классика, и как бы критичны к центру ни были иные «деревенщики», зависимость от него – на уровне выбора дискурса и языка – оставалась более чем значительной. Возможно, регионализму «деревенщиков», прежде всего сибиряков, для того чтобы превратиться на рубеже 1980 – 1990-х годов во внятную культурно-идеологическую программу, недостало как раз модернистского импульса, нерессентиментной уверенности в возможностях края полноценно развиваться, опираясь на собственные ресурсы, причем не столько природно-хозяйственные, сколько человеческие и культурные. Их традиционализм, который вполне бы мог стать одним из инструментов конструирования региональной идентичности, без модернистской составляющей оказался неэффективен. Соответственно и региональная литература осталась для них репрезентацией другого, не учтенного классикой опыта, необходимого, но «дополнительного» и подчиненного по отношению к ней.
Понятно, что поиск «деревенщиками» дополнительных ресурсов самолегитимации в конструируемой ими традиции крестьянской литературы и культурно-географическом регионализме (сколь бы «недоразвитым» он ни казался) далек от пересмотра оснований классической литературной культуры. Советская критика, в общем и целом, ничем не погрешила против истины, отдав «деревенщикам» титул главных наследников русской классической литературы XIX столетия. Прозаики-«неопочвенники» хорошо понимали нормозадающий характер классического наследия и даже «тотальность» классики как типа литературной культуры, но протест, который они себе позволяли, был направлен не на «тотальность», а на риторику и диктат «хорошего вкуса», принуждавших преклоняться перед статусом автора-классика. Наделяя классику политически и культурно консервативными («стабилизирующими») смыслами, «деревенщики» и сами в главном своем посыле, касающемся способов освоения и усвоения наследия, оставались консерваторами. В манифестациях новаторства они обычно подозревали покушение на культурные святыни и желание изменить сложившийся в литературном поле статус-кво (хотя, в принципе, любая «борьба за классику» мотивируется именно этим). О причинах подобной подозрительности в работе уже говорилось – их надо искать в историко-политических коллизиях и реалиях конкурентной борьбы. Тогда выяснится, что подчеркнутый консерватизм и отказ от «революций в искусстве» были одним из проявлений своеобразного посттравматического синдрома, выразившегося в декларативном противостоянии артефактам левой культуры, «духам революции». Теоретически и идеологически развернутое обоснование своей позиции «деревенщикам» давалось не всегда успешно, а в некоторых случаях не особенно их заботило, поскольку их традиционализм не просто вырастал из целенаправленной «антимодернистской» пропаганды, но подкреплялся «врожденными», социально обусловленными вкусовыми предпочтениями (упрощая ситуацию, можно сказать, что они не умели и не хотели писать в (квази)авангардистской манере[898], ресурсы, которыми они располагали, ориентировали их на классический реалистический язык).
Представлявшие в профессиональной литературе относительно новую социально и культурно силу (крестьянство) «деревенщики» осознавали свою недостаточную образовательную компетентность и с энтузиазмом «учились» у классиков. Однако их представление об «учебе» существенно отличалось от первых попыток внедрения соответствующих практик в 1920-е – начале 1930-х годов[899]. Е. Добренко показал, что в тот период пришедшие в литературу «от станка и сохи» писатели с недоверием отнеслись к перспективе осваивать наследие прошлого: одни группы творцов новой социалистической культуры отвергали «учебу у классиков» даже в прикладном аспекте, другие соглашались с необходимостью знакомства с формальными сторонами литературного мастерства, но до установления официального культа классики в период «высокого сталинизма» все они блюли себя от идеологического инфицирования «отжившим» буржуазным классическим искусством. «Деревенщики», напротив, как бы заранее признавая бесспорный художественный авторитет классики, отказывались от сопоставления эстетических достоинств текстов своих и классических и провозглашали важность наследования в сфере ценностей (нравственных, культурных и др.). Если у них и была цель писать «как классики», то способы достичь ее они мыслили в педагогической категории «нравственного роста», но не технического мастерства. Очевидно, что это воображаемая идеальная модель наследования, из которой исключены соображения конкурентной борьбы, конъюнктуры и всего того, что составляет «мелочи» литературной жизни и избежать чего не может самый бескорыстный в своих творческих намерениях художник. Тем не менее, в возвращении к «органическому» наследованию традиции «деревенщики» впоследствии видели свою основную заслугу. Когда в поздней повести «Уроки правнука Вовки» (1997) С. Залыгин устами своего героя давал молодому читателю представление о значении «деревенской» школы для культуры 1960 – 1970-х, он приводил все ту же формулу идеального наследования, где восстановление преемственности «онтологизировалось», уподоблялось восстановлению «биологической» функции культурного организма, а сами «деревенщики» были чем-то вроде «органа», ответственного за это восстановление:
Значит, Россия несколько столетий, ну, по крайней мере лет полтораста, жила не то чтобы по Толстому, этого никогда не было, но жила она в том мире, в котором и Толстой, и Пушкин жили, в который они погружались, изъясняли его, этот мир, так, как сами его понимали. Спорили с ним и со своими современниками, призывали их к лучшему, ну и, конечно, сильно этот мир ругали… На то они и были великими писателями. И людьми тоже великими. Но вот этот мир, эта Россия кончились. <…> Нету ни пушкинских, ни толстовских героев, нету даже воздуха того и неба того же, которые были при них, не говоря уж о птицах, о полях-лугах, о деревнях и городах. Кто-то из русских людей этого просто-напросто не заметил, кто-то заметил, но махнул рукой: «Нету? Ну, значит, так и надо!» Кто-то обрадовался: «Наконец-то!» Но никто, почти никто, с тем миром по-человечески не попрощался. Как положено людям. <…>
Но, представь себе, время прошло, многие десятилетия, когда Гражданская война воспевалась на все лады, на все голоса, – и вдруг появляются люди, писатели появляются, которые сказали: нет и нет! Человеческий порядок хоть и через многие десятилетия, а должен быть восстановлен: пушкинские и толстовские времена должны быть не то чтобы восстановлены, нет, что было – то прошло, но проводить прошлое надо с великим сочувствием, с пониманием. По-толстовски проводить. <…> Это сделали писатели. Молодые, лет сорока, того меньше. Оказалось, что то окровавленное, на помойку выброшенное прошлое чудом каким-то в них проявилось, оно жило в них даже сильнее, чем их собственное настоящее. Оно восстановилось в них во всем своем свете, по-другому сказать – во всем том самом-самом хорошем и человеческом, что когда-то было. Было и ушло. Такими писателями оказались Василий Белов, Федор Абрамов, Валентин Распутин[900].
В производстве «органической преемственности»[901], поддержании созданного классической традицией образа реальности «деревенщики» видели свою культурную миссию и следовали ей, доказывая в очередной раз, насколько мощным терапевтическим воздействием могут обладать культурные конструкты, призванные устранять разрывы и подтверждать глубину исторического бытия сообщества.
Глава IV
«ПОРУШИЛИ ВЕКОВЕЧНЫЙ ПОРЯДОК – А ВСЕ ИЗ-ЗА РАДИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА…»: ЭКОЛОГИЗМ И РЕГИОНАЛИЗМ «ДЕРЕВЕНСКОЙ ПРОЗЫ»
«Экология культуры и духа» и «деревенская проза»: идеологические контексты
Одно время экологизм «деревенщиков» оставался любимой темой отечественных филологов, написавших о нем десятки статей, монографий и защитивших кандидатские диссертации[902]. Чаще всего он занимал литературоведов как разновидность натурфилософии и тематический феномен, породивший особую поэтику. Между тем, есть смысл взглянуть на него под иным углом зрения – как на легитимную форму консервативного высказывания в культуре «долгих 1970-х», высказывания, претендовавшего на действенную защиту «живого» и «естественного» от опасностей научно-технического прогресса.
Интерес к экологической проблематике «деревенской прозы» во многом поддерживался за счет резонанса, который в течение почти двух десятилетий имели публичные выступления «деревенщиков». Олег Яницкий, автор работ о природоохранном движении советского периода, утверждает, что встревоженность писателей экологическими вопросами совпала с настроениями интеллигентской читательской аудитории, и видит в их деятельности характерную для 1970-х попытку «гуманизировать» среду обитания:
Сегодня даже трудно себе представить, какое значение имели для советской интеллигенции труды писателей-деревенщиков… То были нравственные манифесты противников варварской модернизации страны, разрушавшей и природу, и человеческую культуру. Эти лидеры общественного мнения защищали самоценность «малой истории» – историческую память рядовых людей, жителей российской глубинки, их естественные и нравственные корни, они защищали маленького человека, для которого «свет переломился» и не знавшего теперь, куда ему податься под напором безудержного и безличного индустриализма-урбанизма по-советски[903].
Критика признала произведения 1970-х годов, затрагивавшие экологическую проблематику, пиком художественного развития «деревенской прозы». Относительно недавно порицавшаяся за сосредоточенность на «вторичном» для современной цивилизации, она вдруг оказалась, опять же по уверениям критиков, выражением общей для мировой литературы тенденции к «новому синтезу локальности и универсальности»[904]. Кроме того, появление в СССР в 1970 – 1980-е годы целого массива экологически-ориентированной прозы совпало с актуализацией исследовательского интереса, с одной стороны, к мифу и мифопоэтике литературного текста, с другой, к «национальным образам мира» (Г. Гачев), национальным ментальностям. В этом смысле экологическая проза «деревенщиков» и крупных писателей, представлявших национальные литературы (Чингиза Айтматова, Гранта Матевосяна, Чабуа Амирэджиби и др.), была интересна и своей образно-символической фактурой, поэтикой, активно интегрировавшей мифологемы в реалистическое повествование, и характером авторской рефлексии на разрушение мифа как организующей миропонимание структуры.
Литературоведческие исследования темы «природа и человек» в «деревенской прозе» различались самим способом номинации проблемы: одни авторы предпочитали говорить об «экологизме», другие – о «натурфилософской проблематике». Иногда выбор определения подчинялся инерции словоупотребления и потому не рефлексировался, но были случаи, когда дифференциация «экологического» и «натурфилософского» имела принципиальный характер. В одной из первых обобщающих работ на эту тему в термине «экологическая проза» подчеркивался его «утилитарный» аспект, в то время как дефиниция «натурфилософская проза» вполне устраивала исследователей акцентированием «собственно художественной цели: постижением того сокровенного смысла, что заключен в связи человека с живым миром окрест его»[905]. Альфия Смирнова, предложившая обстоятельный литературоведческий разбор «экологических» произведений «деревенщиков»[906], также предпочла понятие «натурфилософская проза», которое позволило ей включить Виктора Астафьева, Валентина Распутина, Василия Белова и др. в определенную культурно-философскую традицию, толкующую принципы вселенского единства, одушевленности бытия и т. п. Возможно, литературоведов смущала «публицистичность» определения «экологическая проза», его интегрированность в актуальный общественно-культурный контекст. Напротив, термин «натурфилософская проза» помещал предмет исследования в пределах, казалось бы, исключительно научного поля, где не было места ни идеологии, ни банализированному социологизму. Поскольку меня интересуют культурно-идеологические обстоятельства, в которых складывался специфичный для авторов «деревенской» школы способ мышления о природе и человеке, термины «экологическая проза», «экологизм», дающие возможность увидеть «деревенщиков» в их контактах и полемике с движениями, связанными с охраной природы как напрямую, так и косвенно (от реставрации памятников древнего зодчества до озабоченности судьбой коренных народов Севера), представляются мне вполне приемлемыми.
Экологическая тема в сознании читателя «долгих 1970-х», с одной стороны, имела статус глобальной международной проблемы, а с другой, содержала более или менее заметные фрондистские по отношению к советскому порядку коннотации. Об экологических бедствиях и экологических движениях на Западе советская пропаганда рассказывала весьма охотно[907], но сообщений о грубых нарушениях принципов бережного природопользования в СССР игнорировать тоже не могла (к примеру, судьба озера Байкал обсуждалась в печати с разной степенью активности еще с 1960-х годов). Обычно потребительское отношение к природе представало приметой самоубийственного поведения современного человечества и одним из наиболее очевидных симптомов его кризиса. В советских газетах и журналах «долгих 1970-х» периодически встречались ссылки на экспертные доклады Римского клуба («Пределы роста», 1972, «Человечество на распутье», 1974, «Цели человечества», 1977, «За пределами века расточительства», 1978)[908], время от времени на русский язык переводились работы зарубежных исследователей, анализировавших причины и масштабы экологических бедствий[909]. «Деревенщики» же, по существу, «локализовали» природоохранную проблематику, наглядно доказывая, что пропагандистские уверения в преимуществах социалистической системы хозяйствования при решении экологических проблем имели слабое отношение к действительности. Писателей тревожило разрушение местных экосистем под воздействием новых промышленно-экономических инициатив – уничтожение лесов, истощение почвы, исчезновение целых видов животных и растений, браконьерство, прорехи в природоохранном законодательстве – и стоявший за этим, если обращаться к моральной стороне вопроса, процесс «нравственной деградации» человека.
Помещенная в легко узнаваемый советским читателем геокультурный и социальный контекст, но сохранявшая символико-метафорический потенциал, природоохранная проблематика не облекалась в «оппозиционную» риторику намеренно, но по факту часто принимала характер противодействия государственным институциям, ответственным за антиэкологичные решения. Ученый-эколог в общественном сознании к концу 1970-х заместил популярного в предыдущий период физика. Если физик из романов Даниила Гранина или фильма Михаила Ромма демонстрировал «человеческое лицо» бурно развивавшейся науки 1960-х и олицетворял не ведающий преград исследовательский энтузиазм, то эколог символизировал «синтез» знания и нравственности и наделялся – в силу рода занятий – повышенной моральной чуткостью. Во время обсуждения «Царь-рыбы» В. Астафьева один из участников сожалел, что писатель ограничился изображением охотников и рыбаков и не создал нового персонажа – совершающего «акт гражданского и человеческого мужества» «молодого ученого, который уходит… из физики в экологию»[910].
Сами «деревенщики» также осознавали, что в их экологической деятельности, независимо от первоначальных намерений, обычно возникал оттенок фронды, но не стремились его афишировать. В поздних автобиографических заметках Сергея Залыгина рассказ о предотвращении строительства Нижне-Обской ГЭС композиционно соположен с упоминанием о диссидентах, но содержательно отграничен от него: природоохранную работу писатель трактует как официально допустимую, «мягкую» форму конфронтации с государственной политикой экстенсивного освоения природных богатств:
Я не был в диссидентах и плохо знал о них, не был активистом, но у меня было свое дело: борьба против проекта строительства Нижне-Обской ГЭС. Эта ГЭС затопила бы 132 тыс. кв. км (месторождения тюменских газа и нефти), и в 1962–1963 годах мне удалось этот проект остановить…[911]
Дополнительную остроту природоохранной деятельности придавало еще одно неартикулируемое обстоятельство, о котором даже Залыгин, имевший репутацию тактически опытного писателя-эколога, решился публично заговорить лишь в начале 1990-х годов. В «Экологическом романе» (1993) герой вспоминает навсегда потрясшее его зрелище заброшенной 501-й стройки (трассы Салехард – Игарка), которая курировалась ГУЛАГом:
Дорога 501 никогда и не могла быть построенной, не могла стать дорогой, природа тундры с самого начала не воспринимала ее, тундровые грунты не выдержали бы груза поездов, если бы даже насыпь и рельсы оказались тем грунтам посильны.
Голубев долго-долго всматривался в чудовищную картину, и бредовую и реальную, долго гадал – есть ли имя тому, что он видит?
Имени не было, перед ним простиралось самое бессмысленное за всю историю творения рук человеческих – 501 была так же античеловечна, как и антиприродна[912].
Главный герой «Экологического романа» Голубев, инженер-гидролог по специальности, обсуждает с Александром Твардовским (уже снятым с должности главного редактора «Нового мира» – события приурочены к 1954 году) возможность публикации своей статьи о «великих стройках коммунизма», и Твардовский говорит, что не стал бы ее печатать[913]. Параллель к этой ситуации возникает в автобиографических заметках Залыгина, где тот, рассказывая о деятельности на посту редактора «Нового мира», признается, что публикация статей о причинах и последствиях аварии на Чернобыльской АЭС даже в перестроечные времена протекала с не меньшими трудностями, чем публикация «Архипелага ГУЛАГ»[914]. Ведомственность, которой экологическая публицистика 1970 – 1980-х годов объясняла неразрешимость природоохранных проблем, теперь уже прямо связывалась Залыгиным с главным, по его мнению, изъяном советской системы: природная и социальная среда воспринимались прежде всего как источник ресурсов, потому обе они «не воспроизводились, не восстанавливались в минимальной необходимой степени»[915]. По Залыгину, подобные природопользовательские практики были прямым отражением «репрессивной» логики, когда природа «обустраивается» «в системе ГУЛАГа, <…> которую заведомо не переживут ни зэки, ни конвоиры…»[916]:
Тут все было замешано – и экономика, и политика, и история. История состояла в том, что все эти великие стройки и проекты являлись продолжением ГУЛАГа. Репрессии, миллионы заключенных должны были где-то «использоваться» – лучше всего там, где требовался труд малоквалифицированный, но в массовом масштабе, прежде всего это были работы земляные и бетонные. Каждая стройка и была ГУЛАГом, каждая существовала на тех же принципах и при вольнонаемном труде. Мне пришлось в свое время побывать на стройках Волго-Дона, Волгоградской, Цимлянской, Куйбышевской, Новосибирской, Усть-Каменогорской и Красноярской ГЭС, и, удивительное дело, у меня выработалась привычка к этим стройлагерям[917].
Кстати, наиболее настойчиво экологическая деятельность авторов-«неопочвенников» в качестве варианта национально-патриотического инакомыслия мифологизировалась публицистами и критиками этого направления. Выступления в защиту чистоты недр, воды, сохранности лесов представлялись самым естественным выражением любви к родине и с нажимом противопоставлялись эмиграции участников диссидентского движения. Вячеслав Огрызко, например, писал о Владимире Чивилихине:
Боль Отечества была его болью. Он переживал за каждое поражение общественности, ратовавшей за спасение русского леса и чистоту рек России. Но у него никогда и мысли не возникало в ту тяжелую застойную пору покинуть в знак протеста свою Родину[918].
Оппоненты «деревенщиков», близкие диссидентскому движению либо из среды третьей эмиграции, наоборот, полагали, что природоохранная деятельность – суррогат подлинного политического протеста и имитация гражданской активности. Писатель из пьесы Владимира Войновича «Трибунал» (1984) – пародия на «деревенщиков», удачно встроившихся, по мнению автора, в советскую систему, их стилистику и общественную деятельность. У Войновича «Писатель, бородатый, с посохом»[919] возмущается техническим прогрессом и всеобщей «ученостью» («Уже и до того додумались, чтобы нашу русскую реку повернуть к азиатам»[920]), а затем, в ответ на просьбу героини вспомнить завет Некрасова «Поэтом можешь ты не быть…» и спасти ее незаконно посаженного в тюрьму мужа, отвечает:
Как же, помню завет нашего классика и соблюдаю. И даже, отрываясь от своих непосредственных дел, по гражданской линии выступаю. За тот же Енисей бороться приходится, а также таежного гнуса спасать. <…> Он геологов ваших, городских, кусает, вот они и выдумывают, войну этому гнусу, понимаете, объявили. С самолетов его химией травят. А того понять не хотят, что природа без гнуса существовать-то не может. Я об этом и статью опубликовал в «Литературке»[921].
То, что Войновичу казалось имитацией гражданской активности, Александру Проханову спустя годы виделось чудовищной провокацией. Он полагал, что истинной целью экологического движения 1980-х была дискредитация важнейших институтов, обеспечивавших относительную прочность советского строя. Несмотря на то, что «деревенщики» не числятся напрямую среди адресатов обвинения, прозрачные аллюзии на их стилистику не оставляют сомнений в том, кого именно Проханов имел в виду:
Я помню, как была запущена пропаганда так называемых экологистов, когда кумиром нашей либеральной публики был Алексей Яблоков, основавший у нас в 1988-м филиал «Гринписа». Помню, как он поносил советскую индустрию, возлагая на нашу промышленность всю вину за отравление неба, отравление рек, засорение лесов, за все болезни. Конечно, индустрия не повышает гемоглобин в нашей крови, и экологи по своей линии должны вести работу. Но ведь вся эта шумиха была поднята с политической целью, чтобы демонизировать саму сталинскую индустрию, эту созданную им чудовищную машину, которая, между прочим, в свое время помогла нам выиграть войну, а теперь оказывалось, что она погубила весь русский этнос и всю нашу национальную природу (курсив мой. – А.Р.)[922].
Отвлекаясь от собственно литературного контекста, резонансные общественные выступления «деревенщиков» с экологическими инициативами (борьба Залыгина с проектом Нижне-Обской ГЭС, 1962–1963, участие Белова в Общественном комитете спасения Волги, 1988–1991, деятельность Распутина с начала 1980-х годов по сохранению Байкала[923], солидарный писательский протест против проекта переброски северных рек[924], начало 1980-х – 1986, и др.), действительно, стоит рассматривать как важный шаг в формировании гражданского активизма на излете позднесоветской эпохи[925]. Любопытно, однако, что экологизм «деревенщиков» вызывал вопросы и у либерально настроенной интеллигенции, которой в «неопочвенническом» преклонении перед природой виделось невнимание к человеку, и у национал-консерваторов, стремившихся политизировать экологическую проблематику. Михаил Лобанов вспоминал по этому поводу:
…Валерий Николаевич Ганичев, вступивший в должность главного редактора «Комсомольской правды» (в конце семидесятых годов) с удовлетворением говорил мне, что они дали статью Залыгина «Почва». Автор рассуждал в ней о гумусе и прочем. Для Ганичева это было нечто вроде почвеннической программы в газете, славившейся до него своей антирусскостью. Но в самом Залыгине никакого гумуса не оказалось, одни умственные химикалии[926].
Беседа Ганичева и Залыгина в самом деле оставляла впечатление некоторой коммуникативной рассогласованности. Дело в том, что Ганичев старался придать разговору характер манифестации патриотических ценностей (потому речь шла о почве – «земле-матушке», «родной землице»), но при этом соблюсти стилевые и идеологические требования к статье в одной из крупнейших советских газет (потому он цитировал Суслова и Брежнева, напоминал о комсомольских инициативах по озеленению местности и т. п.). Риторические ходы Залыгина были тоньше: не игнорируя разнообразных коннотаций, связанных с понятием «почва», он предпочитал говорить о проблемах «тончайшего слоя», обеспечивающего «существование животных, растений, эволюцию рода человеческого»[927], о российской школе почвоведения и Василии Докучаеве, идеях Владимира Вернадского, ошибках политики мелиорации. Очевидно, что в данном случае разнились не столько целевые авторские установки, сколько «набор» источников, питавших их экологический культурный патриотизм.
Процитированная выше реплика Лобанова обнажала действительный зазор между тем, чего национально-консервативная критика ждала от экологической публицистики «деревенщиков» – политизации понятий, уже окруженных плотной сетью мифологических ассоциаций («земля», «почва», «лес»), и тем, что она иногда получала «на выходе» – рассказ о гумусе в буквальном смысле. Правда, преувеличенные в случае с Залыгиным ожидания национал-консерваторов в дальнейшем, особенно в 1980-е – начале 1990-х годов, другими «деревенщиками» (В. Распутиным, В. Беловым) были оправданы в полной мере. В этот период экологические размышления о трагедии загрязненных рек и вырубленных лесов уже недвусмысленно отсылали к «геноциду русского народа». В интервью журналу «Посев» Белов заявлял:
Я не могу себя с полным правом назвать писателем. Кто я? Я – плотник, на худой конец – публицист. А что о позиции… Не знаю. Я знаю, что вокруг моей деревни вырублены все леса начисто. Теперь там пустынно. То же пытались сделать с народом. А началось все это с революции еще, может быть, даже 1905 года[928].
Невозможно отрицать, что «деревенщики» прекрасно осознавали метафоричность основных понятий экологического дискурса (будь то «почва», «лес» или что-то подобное), и все же каждое из них имело референцию и к состоянию природной среды, и к идеологическим программам. Как бы существенно ни был детерминирован интерес авторов-«неопочвенников» к экологической проблематике крупными цивилизационными трансформациями (распадом традиционного сельского уклада, урбанизацией, возрастающим влиянием техники на жизнь общества), то есть процессами, с которыми выходцы из крестьянства отчетливо связывали изменение самого способа бытия человека в мире, все же, начиная свою литературную карьеру, «деревенщики» много писали о проблемах не-метафорической почвы, отравляемой химизацией и истощаемой эрозиями, и неметафорического леса, вырубаемого для нужд народного хозяйства[929]. Тот же С. Залыгин, окончивший в 1939 году гидромелиоративный факультет Омского сельскохозяйственного института и до начала 1950-х в качестве инженера, а затем вузовского преподавателя занимавшийся проблемами мелиорации и природопользования, с 1960-х годов регулярно с профессиональной осведомленностью высказывался о просчетах в системе орошения и гидростроительстве (например, «Леса, земли, воды», 1962, «Леса, земли, воды и ведомство», «Дело народное, а не ведомственное», 1963, «Вода и земля Земли», 1968, «НТР и литература. Размышления и догадки», 1973, «Литература и природа», 1980, «Вода подвижная, вода неподвижная», 1984, «Проект: научная обоснованность и ответственность», «Водное хозяйство без стоимости… воды?», 1985). Борис Можаев, объездивший в бытность собственным корреспондентом «Строительной газеты» на Дальнем Востоке этот обширный регион, также начал журналистскую и писательскую деятельность в 1950-е годы с обращения к экологической проблематике и впоследствии уже не оставлял без внимания проблему рационального лесо– и землепользования (включая технико-экономические ее аспекты). Словом, в конце 1950-х – 1960-е годы будущие «деревенщики» создавали «практически ориентированную» экологическую публицистику, что было обусловлено рядом ведомственных цензурных ограничений и существовавшим раскладом сил («демократы» конфронтировали с «консерваторами» – неосталинистами, а национально-консервативный лагерь еще не играл заметной роли). Иначе говоря, экологические выступления Можаева и Залыгина конца 1950-х – первой половины 1960-х были отражением их персональной позиции и еще не воспринимались читателем как точка зрения сколько-нибудь оформленной интеллектуальной группы. В 1970-е годы ситуация заметно изменилась, и тот же Залыгин в упомянутой беседе с Ганичевым мог уже стратегически продуманно использовать свою близость в некоторых вопросах к влиятельному национально-консервативному лагерю. В этой беседе он позволил себе заявить о притязаниях «неопочвеннического» экологизма на объяснение универсальных законов, регулирующих развитие природы и общества. С точки зрения Залыгина, именно русская сельскохозяйственная наука дала миру не утилитарно-практический, а «мировоззренческий взгляд на природу»[930]. Наследниками подобного «мировоззренческого взгляда» «деревенщики» со временем стали ощущать себя. Со второй половины 1970-х их попытки спроецировать природоохранную проблематику на фон современных цивилизационных проблем стали более настойчивы. Внимание к профессионально-специализированному объяснению экологических вопросов и их административно-экономической подоплеке «деревенщиков» не покинуло, но размах историософских обобщений стал иным. В итоге отмеченная Лореном Грэхэмом в СССР 1970-х годов тенденция – артикулировать идеи политического консерватизма посредством «биологических интерпретаций исторического процесса и поведения человека»[931] – в «неопочвеннических» критике и литературе выразилась наиболее очевидно.
Со временем стало ясно, что экологию природной среды «деревенщики» представляли, как и значительное число интеллектуалов-традиционалистов, частью «экологии культуры». Это популярное в 1980-е годы определение, вынесенное в заглавие статьи Дмитрия Лихачева[932], во-первых, замечательно обнаруживало специфику и масштаб позднесоветского экологизма, который не помещался в рамки сугубо природоохранной деятельности, во-вторых, отражало общий для «долгих 1970-х» крен в консерватизм. В статье речь шла о необходимости охранительных мер применительно к культурной, а не только природной среде, к духовному миру человека. Однако идея Лихачева, сформулированная в ключе «просвещенного» консерватизма и осененная надпартийным авторитетом ученого, при некотором сдвиге акцентов, охотно допускаемом «неопочвеннической» публицистикой, могла обрести и подчас обретала протестный политический оттенок. Часть «неопочвенников» включали экологическую проблематику в дискурс внутреннего колониализма, трактовавшего власть и ее проекты, в частности массированное и бездумное использование природных ресурсов, как чуждые русскому народу. Подобная оптика требовала отграничения всего «естественного» (природа, родина, народ) от всего «искусственного» (властные институции и интеллектуалы, генерирующие утопические проекты), но поскольку ни риторически, ни идеологически прямые обвинения власти оказывались невозможны, в ход шла отработанная метонимия: упреки адресовались министерствам и ведомствам, которые якобы лоббируют удобные им проекты и, фальсифицируя хозяйственно-экономическую ценность последних, систематически вводят в заблуждение партийно-правительственные органы и народ. Риторика, основанная на подмене адресата, часто поддерживалась убеждением в наличии сознательного противодействия сохранению архитектурного (можно продолжить – исторического, хозяйственного, природного) своеобразия России. Реплика вознегодовавшего по поводу разрушения исторической застройки Иркутска Федора Абрамова («Очень рады все перестроить, все с ног на голову. <…> Есть люди, которые заинтересованы, чтобы мы с тобой, живя в России, остались без России. Чтобы она у нас потихоньку да помаленьку уходила из-под ног»[933]) и надежды искусствоведа Владимира Десятникова когда-нибудь пригвоздить «к позорному столбу всех этих кагановичей, кольцовых, посохиных и иже с ними “русских воров” братьев Весниных»[934] выражают это умонастроение.
В разговоре об идеологических контекстах «неопочвеннического» экологизма не лишним будет упомянуть концепцию этногенеза Льва Гумилева, которая с 1980-х годов стала набирать популярность в националистически ориентированной среде[935]. Биологизаторская трактовка Гумилевым этногенеза, предлагавшая научное обоснование связей между природным ландшафтом и этнической общностью, типологически была близка «неопочвенникам», склонным к использованию организмической метафорики. По замечанию Сергея Ушакина, в теории этногенеза – «позднесоветской версии романтической психогеографии»[936], сформированной не без влияния Вернадского[937], этнос был «биогеографической данностью»[938], и между ним и средой обитания существовало «зеркальное соотношение». У Гумилева, по мысли исследователя,
геокультурный ландшафт становится не просто «структурирующей структурой» (габитусом) <…>, но прежде всего первичным источником этногенеза и условием устойчивости этноса. Пространство превращается в месторазвитие, и этнос, оказавшись в буквальном смысле заземленным, приобретает необходимый онтологический якорь[939].
Если учесть свойственный многим «неопочвенникам» страх перед «размыванием» коллективной национально-культурной идентичности, можно понять их сосредоточенность на проблемах охраны природно-исторического ландшафта, «формирующего» эту идентичность: они полагали, что природа и «местообитание» «строят» душу и мышление русского человека, это и есть те «корни», которые обеспечивают связи с ушедшими поколениями. Впрочем, в 1970-е годы «деревенщики» далеко не всегда углублялись в этнокультурную идентификацию сил, враждебных русскому миру и природе, и предпочитали фокусировать внимание на опасностях движения по пути прогресса, неизбежно сопровождающегося уничтожением «первозданного». Критицизм в отношении модернизационного проекта и его вариаций, в частности советской индустриальной политики, демонстрировали читателю экологические манифесты «деревенской прозы» – повесть В. Распутина «Прощание с Матерой» (1976) и астафьевское повествование в рассказах «Царь-рыба» (1975–1977). Показательно, что в 1990-е годы читатели воспринимали «Прощание с Матерой» как рубежное для советской литературы произведение, автору которого удалось в подцензурных условиях диагностировать тупик преобразовательской деятельности в отношении природы, памяти и культурной традиции («Молодой Валентин Распутин… в своем “Прощании с Матерой” выносит смертный приговор всему коммунистическому эксперименту в России»[940]) и при этом – довольно редкий случай для подцензурной литературы – обозначить религиозно-эсхатологическое измерение проблемы[941].
«Архаизирующая» экология
Идеи «деревенщиков» о развитии цивилизации и параллельном процессе деградации биосферы отражали непоколебимое убеждение в изначальной мудрости законов природы, причем аргументы для оправдания этих законов давало «естественное» происхождение последних. Астафьев закон естественного отбора, регулирующий жизнь биологических организмов, обнаруживал и в человеческом обществе, но полагал, что здесь его действие искажено в силу испорченности людской натуры. «…Самые сильные рыбы <…> все равно выживут, а мелочь и слабаки – сгинут, – описывает Астафьев рыбу зимой на быстрине. – Все, как у людей, только по-честному, и в дни бедствий они не рвут друг дружку и не выцарапывают глаза слабому»[942].
Другим постулатом, определившим историософские и экологические воззрения «деревенщиков», была взаимозависимость между природой и человеком с непременной констатацией подчиненного положения последнего[943]. Собственно «человеческое» определялось писателями не через выделение человека из «природного», а через отождествление с ним. Они полагали, что разрушение связи с природой и животными грозит человеку как минимум – эмоциональной примитивизацией, как максимум – перерождением:
И думал я, глядя на этот маленький, по недосмотру заготовителей, точнее любовью конюха сохраненный и все еще работающий табунок деревенских лошадок, что, сколько бы машин ни перевидал, сколько бы чудес ни изведал, вот эта древняя картина: лошадь среди спящего села, недвижные леса вокруг, мокро поникшие на лугах цветы бледной купавы, потаенной череды, мохнатого и ядовитого гравилатника, кусты, травы, доцветающие рябины, отбелевшие черемухи, отяжеленные мокром, – все это древнее, вечное для меня и во мне нетленно.
И первый раз по-настоящему жалко сделалось тех, кто уже не просто не увидит, но даже знать не будет о том, что такое спящий деревенский мир, спящие среди села смирные, терпеливые, самые добрые к человеку животные, простившие ему все, даже живодерни, и не утратившие доверия к этому земному покою[944].
Нередко в руссоистский комплекс мотивов о губительности отпадения от природы «деревенщики» вводили эсхатологическую идею «мести» человеку со стороны природных стихий. Так, в романе В. Белова «Все впереди» природа «бунтует» и обрушивает на людей чудовищный смерч (речь шла о событиях июня 1984 года). Впрочем, в данном случае погодный катаклизм с теми же основаниями можно трактовать, исходя из близкой автору религиозной идеи наказания заблудшего человечества. В целом же, наличие двойственных (и двоящихся) мотивировок, когда «самоубийственность» для человека войны с природой авторы объясняют биологизаторски и одновременно морализаторски, весьма характерно для «деревенской прозы». Одно из многочисленных подтверждений – пассаж из письма В. Астафьева:
В прошлом году… клещ продержался в заглушье до середины сентября. Нонче он, думаю, вступит в соц[иалистическое] соревнование с прошлогодним клещом и выдюжит до февраля, а там, глядишь, круглогодично начнет действовать и разить советских тружеников и бродяг, изгоняя их из испохабленной природы, которая начинает огрызаться смертью. Очень много нонче смертельных случаев от энцефалита и прочих, зачастую неизвестных никому болезней печени, крови, мозга. Война, самим же человеком развязанная, так и не прекращалась, а кто был нам вроде бы и безобидным другом, переходит в наступление – и горе тому, кто вступает в ссору с природой, его породившей. Недаром же начались конфликты между детьми и родителями, ох недаром! Бесчувственные родители, не наученные никого почитать и любить, выметывают икру, из которой вылупляются существа под названием акселераты, ни стыда у них, ни совести, ни памяти, ни любви, от всего свободны, кроме похоти и желания поиграть да напиться[945].
В настороженно-подозрительном отношении к техническому аспекту цивилизации «деревенщики» прямо следовали за Сергеем Есениным и «новокрестьянскими» поэтами: романтическое неприятие «машины» трансформировалось у них в сюжетику «исчезновения» – природной первозданности, крестьянского уклада, привычных форм взаимодействия с животными, особенно теми, что были важны для сельского обихода. Элегически окрашенные, часто с дидактичным посылом истории, передававшие растерянность от существования в обедненном отсутствием животных мире, тем не менее, расценивались как проявление консервативного неприятия современности. На это бдительно обратил внимание Александр Яковлев, который в знаменитом выступлении 1972 года обрушился на пассеизм ценителей пейзажа «с конем и петухом»:
А пока один тоскует по храмам и крестам, другой заливается плачем по лошадям, третий голосит по петухам.
Вздохами о камнях, развалинах, монастырях перегружена подборка стихов «Поэты Армении» («Новый мир», № 6, 1972). Лирический герой одного из стихотворений сидит у окна и видит, как на грузовиках везут лошадей, «которые тысячи лет все перевозили и переносили, взвалив историю человечества на свой выносливый круп, выбив копытами эту историю». И ему кажется, что надо спасать прошлое от настоящего: «Как мне вас выручить, кони мои? Как мне спасти вас, кони? Что я могу – подавить рыданье, душу за вас отдать…»
И. Кобзев, в свою очередь, грустит, что «в Москве не слышно петухов», и пишет: «Порой меня снедает грусть: о, сторона моя родная, куда ж ты задевалась, Русь, веселая и разбитная?!»[946]
«Архаичность» позиции «деревенщиков» обличалась не только отвечающими за идеологию аппаратчиками. Иронией в отношении фетишизированных «первозданности», «природности» и «естественности» проникнут роман Александра Проханова «Место действия» (1978), который, на мой взгляд, имеет смысл прочитать в русле спора с «неопочвенничеством»[947]. Проханов изображает строительство нефтехимического комбината в отдаленном сибирском городке Николо-Ядринск (Тобольск), но конфликт «старого» (затхлый провинциальный быт) и «нового» (индустриальное строительство), восходящий к производственной тематике 1930-х годов, он нарочито делает символом глобальных процессов. Позднее Проханов пояснял, что в романе вел речь о «столкновении <…> двух формаций: громадной традиционной истории и абсолютного модерна комбината»[948]. В этом столкновении писатель отстаивает позицию, прямо противоположную той, что занял, к примеру, В. Распутин в «Прощании с Матерой»: масштабные преобразования он описывает, в основном, с точки зрения представителя власти и государства – директора строящегося комбината Пушкарева, фанатично преданного делу технократа (Проханова более всего занимает этот герой, хотя для равновесия в ряде глав ведущая партия передается его антагонисту – местному живописцу Горшенину). Проханов уверял, что в период работы над романом его – авангардиста и футуролога – более всего увлек анализ «ключевой советской проблемы – “просачивания досоветских архаических констант сквозь жесткую технократическую оболочку”»[949]. За культурную и социальную архаику в 1970-е отвечали «деревенщики» и их персонажи, в романе Проханова против подобного типа людей то кавалеристским наскоком, то демонстрируя исключительные PR-навыки, «воюет» главный герой – директор комбината. Фанатик идеологии модернизации, он убеждает оппонентов в том, что вторжение в сонное захолустье, снос исторических районов города, освоение местных природных богатств абсолютно оправданы и перспективны. По сути, в «Месте действия» в самом общем виде сохранена сюжетная схема многих произведений «деревенщиков» (модернизация вторгается в налаженный жизненный строй и безжалостно уничтожает его), но ее риторико-идеологическое обоснование кардинально иное, соединяющее апологию «брутальной» модернизации в духе 1930-х годов с футуроориентированной амбициозностью позднесоветской технократии. Некоторые пассажи Пушкарева явно написаны автором в полемике с экологическими тревогами не названного, но легко узнаваемого оппонента:
Вас волнует экология, охрана природы? Всех сегодня волнует. Но от чего охранять? От техники? Да понимаете ли вы, что драма природы – это в первую очередь драма техники? Спасать надо технику! Непонимание, неприятие техники, тайная к ней враждебность, бессознательный, доставшийся нам по наследству первобытный инстинкт приводят к гибели техники и, как следствие, к крушению природы. Мы, инженеры, пытаемся создать невиданный гибрид естественной природы и индустрии…[950]
С точки зрения главного героя, у желания сохранить историко-региональную самобытность и экологической обеспокоенности николо-ядринской интеллигенции (кстати, то и другое – компоненты условной программы «деревенщиков») есть понятная и весьма прозаическая подоплека – стремление культурно доминировать в своем пространстве:
Ядринцы! Всю жизнь на мешке с крупой сидели. Для них комбинат – тотальная угроза их укладу, стилю, образу мыслей. В какой-то степени он для них катастрофа – они чувствуют, что при новых масштабах их начнут заменять новые руководящие кадры[951].
Конечно, нет смысла искать в романе аллегорию современного литературного процесса, где «архаисты» – «неопочвенники» неистово пытаются удержать свое первенство по отношению к разоблачающим их мифологию «новаторам», но, как бы то ни было, изображение Прохановым конфликта двух элит и двух языков легко экстраполируется на литературную ситуацию конца 1970-х. Во всяком случае, пламенный модернизм Проханова, на мой взгляд, стоит связывать не только с его прогностическими талантами[952], но и со стремлением к «различению» литературно-идеологических позиций, обособлению от влиятельного направления – здесь лежат и истоки его длительной полемики с «деревенщиками», иронически-пародийного переворачивания «неопочвенных» идеологем «преемственности», «верности корням», «оседлости»[953], его во многом эксцентричной установки на метафорическое «оживление» техники.
Спор между «деревенщиками» и Прохановым, консерваторами и модернистом, можно анализировать гораздо более детально, но применительно к разговору об экологии обозначу только один пункт их очевидных расхождений, касающийся «стоимости» природных и человеческих ресурсов для достижения целей модернизации. В романе Проханова страх николо-ядринцев перед преобразованиями и их «агентами» есть следствие ограниченности и давней привычки к самоизоляции, поэтому он более или менее легко снимается просветительскими усилиями главного «модернизатора» Пушкарева и согласием с «исторической необходимостью» насилия, неизбежного в социальном реформировании. Персональные драмы расставания с прошлым, приносящие героям ощущение экзистенциального сиротства (в романе это сюжетная линия Горшенина), так и остаются персональными драмами, их болезненность искупается грандиозностью свершающихся перемен[954]. Это, по существу, самолегитимирующий модернизаторский дискурс в чистом виде, который обычно тиражировался государственными структурами, занятыми разъяснением населению безальтернативности курса на перемены. В отличие от Проханова, тому же Распутину современная цивилизация, некритично утверждающая ценность нового и делающая подобные утверждения главным источником самолегитимации, представлялась абсолютно нетерпимой к иным формам жизни – «хламью»[955], возиться с которым нерационально и затратно. В итоге вопрос о необходимости замаскированного под «государственные потребности» насилия над локальными сообществами, чей способ существования не вписывается в представления об эффективности, для автора «Прощания с Матерой» оставался открытым (об анти– и постколониальных смыслах этой позиции речь пойдет ниже). Предлагаемый учеными и футурологами проект технократического будущего казался весьма пугающим, собственного позитивного образа будущего у «деревенской прозы» не было, а вот «боль» оттесненных на социальную периферию и лишенных того, что структурировало прежнюю идентичность, была реальна и осязаема. Об этой «боли» «деревенщики» и предпочитали говорить. Проблема заключалась лишь в том, что идея «консервации», к которой они были неравнодушны, могла лишь каким-то образом замедлить темпы эрозии системы, но не предотвратить ее. Лев Данилкин прав, когда пишет, что в 1970-е годы спорящий с «деревенщиками» Проханов и его близкий друг архитектор Константин Пчельников «прекрасно чувствовали маразм системы, но, не видя никакой реальной ей альтернативы, искренне желали ей обновления и пытались изобрести нечто такое, что позволило бы ей преодолеть системный кризис»[956]. Иначе говоря, верно диагностировав «одряхление» системы, они стремились изобрести «внятный футурологический проект»[957] – чтобы канализировать имевшиеся энергию и ресурсы, придать новый мессианский смысл проекту советскому. «Деревенщиков» же в тот период жизнеспособность советской государственной машины интересовала, судя по всему, значительно меньше, чем сохранение природно и культурно органических форм. В своих страстных призывах вернуться к единству с природой они исходили из «предпосылки, что в прошлом реально существовали состояния экологического равновесия, что еще кое-где на земле сохранились народы и культуры, ориентированные на поддержание этого равновесия человека с природой»[958]. Несмотря на то, что уже в 1970-е годы говорилось об иллюзорности такой установки, это никак не поколебало их убеждений. В этом случае «деревенщикам» оставалось проповедовать идеологию вычленения и сохранения нетронутых, «заповедных» природных пространств, но в отсутствие убедительного образа будущего она сдвигалась в сторону своеобразной «геттоизации», когда исключение из современности оказывалось сколь спасительным, столь и бесперспективным.
Экологизм в литературе: Источники и вариации
Культурное узаконивание экологической проблематики, которую читатель 1970 – 1980-х годов ассоциировал с «деревенской прозой», в русской литературе второй половины ХХ века произошло во многом благодаря Леониду Леонову – его роману «Русский лес» (1953) и публицистике. Появление романа Леонов подготовил тактически тонко. Используя сложившуюся на рубеже 1940 – 1950-х годов политико-культурную конъюнктуру, он публикует статью «В защиту друга» («Известия» от 28 августа 1947), которая по стечению обстоятельств предшествовала принятию в октябре 1948 года постановления Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) «О плане полезащитных лесонасаждений, внедрения травопольных севооборотов, строительства прудов и водоемов для обеспечения высоких и устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах Европейской части СССР». Центральным пунктом постановления, которое тут же стали называть Сталинским планом преобразования природы, было создание в период с 1950 по 1965 год восьми государственных лесозащитных полос протяженностью свыше 5000 км. После этого идея охраны леса, важнейшего экономического ресурса, мгновенно стала востребованной. В повести Юрия Трифонова «Долгое прощание» (1973), действие которой происходит в начале 1950-х, есть выразительная подробность: бездарный конъюнктурщик Смолянов пишет пьесу «Лесополоса» и имеет громкий успех – его творение широко ставится на сценах советских театров. «Тема “зеленого друга” тогда носилась в воздухе, – поясняет Юрий Оклянский. – Выходило немало романов и даже поэм типа “Зеленый заслон”, воспевавших административную романтику “страны-сада”…»[959]. Статья Леонова вышла до партийно-правительственного постановления, подчеркивавшего важность бережного лесопользования, однако публичная «защита друга» прозаиком могла опираться на другой, сравнительно недавний факт государственного внимания к проблеме: в 1943 году в СССР для повышения эффективности лесопользования было принято решение о разделении лесов на группы, а в 1944 году – открыт Институт леса в составе АН СССР.
В своей статье Леонов рассуждал о необходимости «дружественного» отношения к «зеленому национальному богатству»[960] и трактовал озеленение, снимая конторски-бюрократический налет с этого понятия, как доказательство серьезности планов советского человека по «преображенью мира»[961]. Прагматические аргументы (лес – «громадный озонатор, гигиенический фильтр-уловитель»[962], в котором остро нуждается современный задымленный город) он продуманно поставил в сильную позицию финала, но они не заслонили идею, образовывавшую метафорический план статьи и выводившую напрямую к роману «Русский лес», – восстановление лесного богатства символически равносильно возрождению единого и мощного, подобного природному, народного организма. Статья Леонова имела ряд сугубо организационных последствий – после ее публикации под эгидой Всероссийского общества содействия строительству и охране зеленых насаждений вышел сборник «В защиту друга», стали создаваться общества «Друг леса»[963], но главное – она идеально согласовывалась и с послевоенным стремлением сделать более пригодным для жизни окружающее пространство, и с культивируемым в позднесталинской культуре образом народа как некой органичной общности. В романе Леонова, который, по уверению Оклянского, лишь отдаленно перекликался, «да и то в оригинальном и необычном повороте…», «с тогдашними лесонасадительными веяниями»[964], русский лес стал символом родины и народа. Соответственно и «положительные герои» романа в своей профессиональной, по содержанию патриотической, деятельности были мотивированы не только усвоенными из книг «суждениями Маркса и Энгельса, а тем более Ленина»[965], но и родством с национально-природной «стихией».
Восприятие леоновского романа как поворотного для отечественной культуры обеспечивали и организмические смыслы символической параллели «лес – народ», и исторические. Лес – часть национального природного ландшафта – символизировал исторически непрерывное существование русской нации. Полемика персонажей романа по поводу близкой Вихрову идеи постоянного лесопользования давала автору возможность осторожного, но идеологически приемлемого высказывания о нарушении принципов эволюционности и преемственности – в освоении природных ресурсов, культурного наследия и т. п. Послевоенная сталинская идеология, в контексте которой можно рассматривать «Русский лес», как показал Дэвид Бранденбергер, была популистски руссоцентричной, включавшей в себя образы реабилитированных героев досоветского прошлого[966], и для ее эффективной трансляции массам необходим был сдвиг в сторону традиции. Этот сдвиг, начатый еще во второй половине 1930-х годов, был призван «поддержaть госудaрственное строительство и достичь мaссовой лояльности режиму»[967], поэтому все более откровенно артикулируемая мифология исторической преемственности в различных символико-метафорических обличиях заметно определила идеологию «Великого отступления» (the Great Retreat). Леонов же, отдав в романе риторическую дань популистски понятой преемственности, стремился философски фундировать проблему и размышлял об исторически непрерывном существовании как «онтологическом» принципе, распространяемом на народные (национальные) организмы.
Созвучие некоторых мотивов «Русского леса», его метафорического строя послевоенной советской идеологии не спасло автора от негативной оценки произведения на заседании Бюро ЦК ВКП(б) в 1954 году и от крайне неприятного для Леонова, инспирированного, как он полагал, Константином Паустовским обсуждения романа в Союзе писателей. Вдобавок к этому в № 5 «Нового мира» вышла статья Марка Щеглова «“Русский лес” Л. Леонова», которую писатель счел потенциально опасной для себя[968]. Во время обсуждения «Русского леса» в СП, где прозвучали резкие обвинения со стороны прозаика Степана Злобина и профессора П.В. Васильева, Леонов все же смог воспользоваться внушительной поддержкой авторитетных ученых-лесоводов и коллег-литераторов[969]. Сколько-нибудь серьезных административных или политических последствий он тогда избежал, но впоследствии рассказывал Чивилихину, при помощи каких аргументов предполагалось оспаривать концепцию его романа: после публикации «Русского леса» к нему наведался заместитель директора Института леса АН СССР В. (возможно, П.В. Васильев), чтобы разъяснить – в романе де проповедуется «теория Розенберга, теория постоянного лесопользования», «а она зародилась при гитлеризме, в прусских лесах»[970]. Леонов, по словам Чивилихина, счел слова оппонента проявлением то ли глупости, то ли необразованности[971], хотя определенные параллели между мифологизацией леса в нацистской Германии и послевоенном СССР наметить можно. Современный исследователь отмечает, что в 1930-е годы доктрина Dauerwald (на русском это передается определением с «производственными» коннотациями – «теория постоянного лесопользования»), содержавшая немало здравых экономических, правовых и собственно лесоводческих новаций, действительно, активно эксплуатировалась национал-социалистской пропагандой, поскольку давала возможности заработать политические дивиденды на «первобытной» привязанности к природе и мифологии немцев как «людей леса»:
…подчеркивая, что Dauerwald имел органическую структуру, включавшую только bodenstndige (отечественные, местные) виды, что это был коллективный и вечный объект, не имевший раз и навсегда установленных морфологии или продолжительности жизни, нацисты смогли натурализовать свой идеал бесклассовости, расовой чистоты и вечной Volksgemeinschaft, или национальной общности[972].
Майкл Айморт цитирует в своей статье Генриха Геринга:
Лес и люди очень близки в доктрине национал-социализма. Люди ткже живут сообществом, великим, органическим вечным телом, членами которого являются отдельные граждане. Только полное подчинение индивида служению целому может обеспечить вечность сообщества. Вечный лес и вечный народ – идеи, которые неразрывно связаны[973].
Намеченная в высказывании главного лесничего Рейха образная аналогия в полную силу работает и в романе Леонова, во всяком случае, пропагандистский экстракт, извлеченнный из довольно сложного леоновского текста, при желании можно свести к апологии леса-народа и обличению вредителей. И хотя прямое сближение мифологии леса в романе советского классика и национал-социалистской пропаганде без историзации соответствующего политико-культурного и институционального контекстов вряд ли оправданно, факт востребованности произведения Леонова националистически ориентированными интеллектуальными группами нуждается во внимательном анализе.
По словам лесовода Евгения Лопухова, который, как и послуживший прототипом Вихрова Николай Анучин, был сторонником пропагандируемого у Леонова постоянного лесопользования, «самая сильная сторона романа <…> в том, что писатель представил перед нами лес как арену боев и то, как лес органически вплетается в канву самой истории»[974]. Через несколько лет после публикации романа его читатели, придерживавшиеся национально-патриотических взглядов, нашли в «Русском лесе» основу для созвучного их умонастроениям соотнесения безжалостного вторжения в природную жизнь с социальным экспериментом, безразличным к исторически сложившимся культурным формам. Тесно общавшийся с Леоновым на протяжении 1960-х годов В. Десятников, возможно, не без влияния писателя, записывал в дневнике в 1965 году: «Беда в России в том, что никто не думает о последствиях “эпохальных” вторжений в живую природу без всякого на то основания. Словно медведь на пасеке, все разворотили…»[975]. Соответственно и в экологической публицистике Леонова он вычитывал прежде всего идею необходимости «укоренения» в родных природе и истории:
Сорок лет назад, когда Л.М. Леонову едва минуло 25, он вывел основополагающую формулу бытия: «…народ существует в целом, в объеме своей истории, так что и мы, руками наших дедов, пахали великие ее поля». И вот вчера Леонид Максимович в своей статье «О большой щепе» в «Литературной газете» подтвердил обратную связь и универсальность выведенной им формулы. Дескать, не перекати-поле, а человек с корнями: он в ответе за свой народ в объеме всей его истории, ему до всего есть дело[976].
Религиозно настроенный Десятников полагал, что трактовка природозащитной темы в «Русском лесе» и публицистике Леонова была продиктована христианским мироощущением писателя, которого отталкивали демиургические амбиции современного человека:
Недвусмысленно Леонов дает понять, что корень зла нашего преступного отношения к живой природе заключается в безбожии нынешнего общества, и отсюда – в разнузданной вседозволенности[977].
В рамках складывавшегося в 1960 – 1970-е годы национально-консервативного извода экологизма традиционная для прозы Леонова пара героев-идеологов, «воплощающих полярные концепции бытия»[978], в данном случае Вихров и Грацианский, интерпретировалась как очередной случай «архетипичного» для русского ХХ века противостояния «(о)хранителей» и «растлителей», «русскости» и «космополитизма»:
Смысл «распри» между Вихровым и Грацианским – это борьба подлинной творческой науки с псевдонаукой, паразитирующей на теле народа, творческой мысли с мыслью бесплодной, спекулятивной; сил созидания с силами разрушения, смерти; это противопоставление честности перед народом, патриотизма бесчестию, моральной низости, космополитизму; все это является выражением борьбы передовой идеологии с реакционной[979].
Очевидно, что замысловато выраженная – из-за двусмысленного распределения авторской точки зрения между двумя персонажами – позиция Леонова здесь упрощена (в частности, игнорируется либо прямолинейно трактуется передоверенный Грацианскому скепсис писателя по поводу перспектив развития человечества[980]). Возможно, благодаря такому упрощению, «патриотический» шаблон для прочтения романа как манифеста национально-консервативного экологизма сложился на удивление быстро. Немало тому поспособствовала книга Лобанова «Роман Л. Леонова “Русский лес”» (1958). Много позже в своих мемуарах критик расскажет о «проспективной» для становления «неопочвенничества» роли романа и его воздействии на формирование патриотической позиции:
В журнале «Знамя» в № 10–12 за 1953 год печатался роман Л. Леонова «Русский лес». Читал я его, наслаждаясь каждой фразой, с сожалением закрывая всякий раз последнюю страницу очередного номера журнала. На фоне тогдашней преимущественно безликой литературы «Русский лес» резко выделялся своей самобытностью, выразительным языком, русскостью главного героя лесовода Ивана Вихрова. <…> Именно они, Грацианские, с их «коммунистической» демагогией и космополитическим, русофобским «тайничком», и вели ту подспудную, разрушительную работу, цель которой – сокрушение великого государства. <…> Тогда, по выходе романа, Грацианский был для меня только литературным героем, но постепенно я втягивался в литературную жизнь, в литературную борьбу и на себе испытал, что такое травля со стороны русофобствующих грацианских. <…> Вихров вошел в мой мир как человек органично русский, с самобытным национальным восприятием. «Русский лес» с его главным героем стал в моем сознании предвестником того явления, которое спустя десять лет, в шестидесятые годы, определилось как почвенничество в литературе[981].
После публикации «Русского леса» соединение (в различных пропорциях) собственно природозащитных, национально-патриотических, философских идей и мотивов станет характерной особенностью тематизации экологических вопросов в позднесоветской литературе, прежде всего «неопочвеннического» толка. При этом часть «деревенщиков», сознавая масштаб Леонова-прозаика и даже делая этикетные жесты в его адрес (например, В. Астафьев посвятил ему повесть «Стародуб», 1960), держалась от него на некоторой дистанции. Александр Овчаренко вспоминал, что «деревенские» авторы как-то раз не пришли на специально для них устроенную встречу с Леоновым[982]. По убеждению Лобанова,
…эта связь (между Леоновым и писателями-«неопочвенниками». – А.Р.) почти не осознавалась тогда, в шестидесятые-семидесятые годы, и прежде всего так называемыми «деревенскими писателями». Ведь народ – это не одни Иваны Африканычи, не вылезающие из бытовой почвы, но и Иваны Вихровы, носители родного «научно-культурного слоя»[983].
Судить о причинах подобной «отстраненности» без достаточных мемуарно-биографических свидетельств трудно. Возможно, она была спровоцирована культурной ролью Леонова – канонизированного при жизни советского классика[984], получавшего высокие правительственные награды даже после партийных обструкций. Вполне вероятно, настороженное отношение «деревенщиков» к официозу, которое в случае, например, с А. Твардовским смягчалось репутацией «крестьянского поэта», по отношению к Леонову осталось непреодоленным и продиктовало более или менее почтительное дистанцирование. К тому же в публицистике и литературе 1960-х годов на роль специализирующегося на природоохранной тематике продолжателя Леонова более иных претендовал и подходил В. Чивилихин.
По словам Дугласа Вайнера, Чивилихин не всегда выступал с позиций националистически окрашенного экологизма, который исследователь находит в его последнем произведении – романе-эссе «Память» (1968–1983)[985]: «он начинал как советский патриот, в самой гуще комсомольского движения – журналистом, а затем редактором газеты “Комсомольская правда”»[986]. Вайнер считает, что «моделью» и «образцом» для Чивилихина послужил именно Леонов, который еще с конца 1940-х годов пытался интегрировать национальные смыслы в тему родной природы и не сразу разграничил две не всегда совместимые идеологии – советского патриотизма и русского национализма[987]. Для Чивилихина природоохранное дело также было важным аспектом патриотической позиции русского советского человека. Возможно, эта идеологически «гибридизирующая» позиция предопределила отсутствие у него романтической «фетишизации природы», в которой легко упрекнуть многих «деревенщиков» – Астафьева, Распутина, Белова и которая была асистемным элементом в советской антропоцентристской идеологии, трактовавшей отношения человека и природы как неравноправные. Вайнер полагает, что Чивилихин и Леонов были не против эксплуатации лесов, весь вопрос для них сводился к тому, как это делать[988]. Суждение исследователя согласуется с характеристикой взглядов Чивилихина Оклянским. По его свидетельству, писатель
был категорически против слепого раболепия перед темной путаницей и стихиями природы. <…> Против языческого идолопоклонства! Человек – царь Природы, таким он поставлен от Неба! И он должен быть Светочем и Просветителем в ней. Должен вносить туда свои разумные регуляторы, облагораживающие коррективы. Не как бандит и взломщик, а именно как заботливый лесник и лекарь. Это, если угодно, его божественное призвание! Чутко поддерживать добро и красоту в Природе и противиться дьявольским началам в ней! Вытравлять и обуздывать всякого рода прожорливое хищничество, ядовитое зло и уродство[989].
Дневники Чивилихина, действительно, отражают колебания в оценке политики «покорения» природы. Автор полемизировал с нею («Снова в газетах те же голоса “покорить природу”. Человек все может, в том числе и “покорить”, но он мог бы покорять природу, подчиняясь ей, используя ее»[990]) и одновременно правил сам себя, пытаясь уйти от прямой конфронтации с официальной линией («Земледелец не покорил поле, если вспахал его и засеял, ГЭС – это не покорение реки, а содружество человека и реки»[991]). Он знакомится, например, с резкой оценкой Н.С. Хрущевым деятельности защитников природы. В пересказе Первого секретаря Амурского обкома партии Морозова советский партийный лидер заявил:
Есть у нас некоторые, которые хотели бы сохранить дикую природу как она есть. Это, мол, хорошо отшельнику либо охотнику, что живет в лесу. А мы строим! Выступают в защиту «русского леса» некоторые, но не понимают, за счет чего в государстве все берется. Они бы хотели и хлеб есть, и сохранить в нетронутости природу. <…> А некоторые защищают Байкал, мол, отравим его. Ничего! Все восстановим, придет время[992].
После этого Чивилихин, который не мог не узнать себя в образе политически близорукого хранителя «русского леса», в самотерапевтической манере объяснял: «…хорошо хоть, что сказано откровенно. Так бы и надо всем сказать, объяснить, что необходима жертва, показать ее необходимость, а то столько дерьма занимается враньем и демагогией…»[993]. Но, как бы то ни было, довольно долго свою задачу публициста и журналиста он видел в установлении более сбалансированного подхода к потреблению природных богатств.
Именно Чивилихин придумал название Кедроград для затеянного студентами Ленинградской лесотехнической академии проекта по созданию в тайге хозяйства нового типа. Он регулярно приезжал в созданное добровольцами-энтузиастами поселение, опубликовал о нем несколько очерков («Шуми, тайга, шуми!», 1960, «Месяц в Кедрограде», 1962–1982, «Пятилетие Кедрограда», 1965) и планировал написать роман. В культурно-идеологическом контексте 1960-х годов проект Кедрограда знаменовал разворот в сторону экологической проблематики, а вместе с ней – к формированию эко-националистического традиционализма (не случайно вдохновитель идеи Кедрограда Фатей Шипунов во второй половине 1980-х годов станет одним из лидеров национал-патриотического движения с экологическим уклоном). Вместе с тем Кедроград был одним из последних всплесков «шестидесятнического» идеализма, рассчитывавшего на возможность реформирования советской системы: в тайге на Алтае студентам и пожелавшим включиться в эту деятельность молодым энтузиастам со всей страны выделялся участок, занятый кедровыми насаждениями, который они обязались экономически эффективно использовать, целенаправленно заботясь о восстановлении кедра. Комсорг Виталий Парфенов, герой очерков «Месяц в Кедрограде», объяснял:
Это наша мечта, понимаете? Мы хотим заложить в тайге новый город, а вокруг него – государственное хозяйство с особыми, небывалыми задачами. Видели вы здешние вырубки? Жуть, правда? Полностью погибший подрост, измордованная земля, лес гибнет в штабелях. Заготовители хозяйничали. Видели насмерть заподсоченные массивы? Химлесхоз. Так же работают заготовители лекарственных растений, семян, пушнины. Все гребли и гребут лопатой, а вложить копейку – извини подвинься! И вот мы решили доказать, что можно брать из тайги куда больше добра и одновременно сохранять и восстанавливать ее богатства[994].
Иначе говоря, Кедроград задумывался как идеально организованная производственная и культурная единица, которой надлежало стать образцом для других лесхозов. Отсюда утопические коннотации, которыми были пронизаны первые описания Кедрограда Чивилихиным. Так, академик Александр Яблоков, работающий над селекцией кедра, «спит и видит на нашей земле кедросады»[995], человек в Кедрограде, по уверению его жителей, меняется в лучшую сторону («Людей лучше, чем в Кедрограде, нигде нету, и меня отсюда трактором не вытащишь…», – заявляет один из героев)[996], Николай Смирнов, создавший на Алтае уникальный сад, доказывает автору оправданность идеалистических устремлений комсомольцев: «Если дружно взяться – сказку можно сделать на этой земле! И как хорошо, что молодые берутся за природу! Ведь она же для всех, то есть коммунистична»[997]. Однако неудача проекта Кедрограда, затяжная и бесплодная борьба за сохранение Байкала существенно подточили уверенность Чивилихина в возможности изменить государственную индустриальную политику, сознательно пренебрегавшую охраной природы. Со временем писатель все более охотно будет рассуждать о необходимости морального усовершенствования человечества и инструментах, которые помогли бы достичь цели – сохранении исторической памяти, национального культурного ландшафта, то есть все теснее будет смыкаться с идеей «экологии культуры» в ее национально-консервативной аранжировке. Впрочем, в последнем произведении Чивилихина, всецело посвященном проблемам экологии, – очерках «Шведские остановки» – дорожные впечатления от Швеции, даже снабженные неоднократными упоминаниями о местных коммунистах и обязательными разоблачениями промышленных корпораций, читались как иллюстрация позитивной государственной и общественной экологической деятельности (особенно на фоне упоминаний о советских ведомственных играх, тормозивших решение проблем Байкала). И это несмотря на то, что сама риторика «Шведских остановок», рассматривающая бедственное экологическое состояние как одно из свидетельств нравственного кризиса человечества, была весьма характерна для национально-консервативного лагеря:
Окружающая среда – образ, отпечаток общества. На ее широком историческом, географическом, биологическом фоне отражаются все социально-политические, экономические, научно-технические, культурные и нравственные процессы, происходящие в обществе, а современные болезни среды – признак глубокого кризиса, охватившего значительную часть мира.
Главная цель улучшения окружающей среды сводится в конечном счете к гармонизации и гуманизации обществ, к наиболее полному развитию человеческой личности. Но какая сложная, тонкая вязь разнообразных причин и следствий обнаруживается, когда мы пытаемся исследовать любую из проблем окружающей среды, в сфере которой сходятся, тесно смыкаются все беды современного человеческого общежития – бесконтрольное растранжиривание природных ресурсов и экономическая отсталость обширных районов планеты, безудержное потребление в странах относительного изобилия – и массовая бедность в молодых развивающихся государствах, накапливание ядерного, бактериологического, химического, иного самоновейшего оружия и политичеcкие препятствия на пути народов к социальному совершенствованию, агрессия «массовой культуры» и поголовная безграмотность, стандартизация жизни и насилие, дух приобретательства и забвение принципов гуманизма, космополитические стереотипы в искусстве и мучительные процессы национального творческого самовыражения как единственная гарантия духовного развития мира…[998]
«Идеологическую одиссею Чивилихина повторил Фатей Шипунов, она была сходна со взглядами Солоухина, Распутина, Виктора Астафьева, Проскурина, Шукшина и множества других»[999], – утверждал Д. Вайнер, невольно подчеркивая культурную весомость в позднесоветской литературе, условно говоря, леоновской традиции, где экологическая риторика становилась «оболочкой» социальных, этнических, культурных сюжетов. Тем не менее, существовали и иные типы высказывания на экологические темы. Так, в первой половине 1970-х годов Андрей Битов пишет повесть «Птицы, или Новые сведения о человеке» (1971, 1975), впоследствии вошедшую в «роман-странствие» «Оглашенные»[1000]. В навеянной общением с орнитологом-этологом Виктором Дольником повести экологические оптика и мышление определяют и фабульный «материал» (рассказ о работе биологической станции по изучению птиц на Косе), и язык, к которому обращается автор-повествователь, излагающий «новые сведения о человеке» и одновременно рефлексирующий природу этого «первого и естественного»[1001] языка. Саморефлексивность экологического дискурса в битовской прозе в сочетании с иронией, корректирующей, казалось бы, неизбежный моралистический пафос, и нарочитым отстранением от попыток обосновать экологическими принципами любые виды партикуляризма, заметно отличала автора «Птиц…» от критицизма «деревенщиков». В конце 1970-х, на фоне возросшего интереса к проблемам природозащиты, роман «Лесные дали» публикует Иван Шевцов, с неподражаемым упорством следующий соцреалистической стилистике в «чистом» ее варианте. Однако повествование о бывшем пограничнике Ярославе Серегине, переквалифицировавшемся в лесника и ревностно оберегающем лес от носителей «психологии собственника и эгоиста»[1002], настроениям общественно возбужденной массовой аудитории отвечало еще меньше, нежели интеллектуализм Битова. Роман производил впечатление идеологически и эстетически безнадежно устарелого и в итоге прошел практически незамеченным. Характер и стилистику обсуждения экологических проблем в тот период продолжали диктовать «деревенщики».
Крестьяне как экологи: Версия «деревенщиков»
Д. Вайнер полагает, что в «долгие 1970-е» в СССР постепенно возникла новая группа социальных акторов, включавшая писателей, журналистов, лесоводов, инженеров, обычных людей, никак не связанных с охраной природы, но ушедших в той или иной форме в экологический активизм, когда они осознали, что родная для них среда обитания непоправимо разрушена[1003]. С точки зрения исследователя, в СССР второй половины ХХ века существовало не одно экологическое движение, а несколько (как минимум, два – условно говоря, «националистического» и «демократического» направления[1004]). По своим установкам они различались, но были способны кооперироваться для решения ключевых природоохранных проблем (например, защиты сибирского кедра, озера Байкал или противодействия проекту поворота северных рек)[1005]. «Деревенщиков», конечно, следует отнести к консервативной части экологического движения, хотя более или менее тонкие различия в понимании причин экологических проблем и ракурсе их подачи были характерны не только для традиционно оппонирующих друг другу «демократов» и «неопочвенников», но и для сообщества «деревенщиков», которое со стороны воспринималось как более или менее единое. Очевидно, что экологизм Залыгина не был тождествен экологизму Астафьева, а натурфилософская с имплицитными религиозными смыслами проблематика прозы Распутина контрастировала с социальным критицизмом Можаева, нашедшим выражение в «экологических» сюжетах. Симптоматично, что в многочисленных литературоведческих работах, вышедших в 1980-е годы и посвященных экологизму «деревенской прозы», имя Можаева упоминалось довольно редко, а произведения его практически не анализировались. Объяснить это можно не только тем, что в пору всеобщего увлечения природоохранными вопросами он стал писать о них реже, нежели во второй половине 1950-х – 1960-е годы, но и самой спецификой экологического дискурса его прозы и публицистики.
В ранних повестях и очерках Можаева повествование строилось вокруг доминировавшего в культуре соцреализма производственного конфликта, но со свойственными «оттепели» модификациями. Типичную для соцреализма борьбу передового и отсталого (в профессиональной и идеологической сферах) автор трансформировал в противостояние «творческого» и «формального», «жизни» и «идеи». Такая «гуманистическая» риторика была присуща «оттепельной» культуре в целом, но оказалась продуктивной и для будущих «деревенщиков» (несколько позже в репрессивной деятельности государства по отношению к крестьянству они увидят уничтожение творческого потенциала народа, мужика-хозяина, продуманной целесообразности традиционного крестьянского быта и т. п.). Можаев еще в 1950-е годы выразил несогласие с практикой навязывания обществу мобилизационного режима, в котором велись индустриализация и сопутствующее ей «покорение природы». В «Тонкомере» (1956), «Наледи» (1959), очерке «Лесная дорога» (1965) повествователь и близкие автору герои задают недоуменные вопросы о том, насколько приемлемо существовать в экстремальном режиме, не учитывая человека в качестве сколько-нибудь значимой величины. Один из персонажей повести «Наледь», навестивший сына, работающего в тайге на стройке, возмущается набившими оскомину ссылками администрации на одно из центральных понятий идеологии мобилизации – «временные трудности»:
– Так что ж это у вас за мода такая заведена на стройках? Заводы всякие строят – и камня и бруса завались. А люди, это строители, стало быть, живут в палатках годами. Срам!
<…>
– Ты ничего не понимаешь, отец, – отозвался из кухни Михаил. – Все это – временные трудности.
– Какие там временные! – возразил Иван Спиридонович. – У нас вон уж третий год в палатках живут. А на другое место переедут – опять палатки. Так и жизнь вся пройдет. А ведь она у меня не временная[1006].
Критик Инна Борисова резонно заметила, что присущее Можаеву во многих его произведениях «радостное приятие природного порядка вещей, <…> любовь к здоровью и здравости подернуты тревогой и ожиданием срыва»[1007], и связала это с памятью о коллективизации и последовавшей за ней деформацией традиционного деревенского уклада. Действительно, Можаева, как и многих его коллег, интересовали проявления творческого начала не в «высоких» культурных сферах, а в повседневной хозяйственной деятельности (на этом, собственно, строилась мифология ушедшего крестьянского мира, в рамках которой деревенский мужик, «труженик», «хозяин» представал главным действующим лицом в обустройстве национального мира / государства). Но, как уже не раз отмечалось, травма утраты родного крестьянского мира стала определяющим фактором в формировании оптики «деревенщиков», их особой восприимчивости к имитационному характеру «советского» и фундаментальной «искаженности» главных принципов организации советской жизни (тогда в критиковавшемся за исторически неточное, «беспроблемное» изображение прошлого беловском «Ладе» следует видеть романтически-идеалистический контраст деэстетизированной советской действительности).
Обычно противопоставляемый «деревенским» авторам-«онтологам» (В. Белову, В. Астафьеву, В. Распутину) социально мыслящий Можаев, по-журналистски прямо фиксировавший изъяны управления лесным хозяйством или аграрным комплексом, тотальную иррациональность советской системы вскрывал не менее убедительно, чем его коллеги. Символико-мифологических параллелей (как в «Прощании с Матерой» или «Царь-рыбе») он не проводил, и генерализующий эффект в его текстах возникал из повторения вполне реалистических деталей, их проецирования на идеолого-метафорический фон советской культуры. В центральном очерке можаевской публицистики 1960-х годов «Лесная дорога» сюжетообразующей деталью было отсутствие дороги на лесопункт. Ее не строят, мотивируя такое решение необходимостью дать стране лес немедленно, не затрачивая времени на создание нормальных коммуникаций. Когда повествователь говорит директору леспромхоза, что нет смысла строить временные мосты, тот возражает:
– Но вы не учитываете фактор времени… Времянку за неделю наводят, а постоянный мост и за год не построишь.
– Да кто же за нами гонится?
– Время такое… Стране нужен лес сегодня, а не вообще…
– А завтра не понадобится?
Пинегин даже не взглянул на меня: то, что он говорил, казалось ему настолько очевидной истиной, что и доказывать не нужно.
– Мы должны торопиться… Обязаны!
– А если я не хочу торопиться?
Пинегин наконец обернулся и весело посмотрел на меня:
– Жизнь заставит![1008]
Варварское отношение к кедру, лесному молодняку, к рабочим, вынужденным ютиться в бараках («Рабочие бегут… Живем как в стойбище, через год поселки бросаем. Мужчины и женщины в одном бараке…»)[1009], по Можаеву, – следствие принципиально инструментальной установки, при которой природа и люди оказываются ресурсом для достижения провозглашенной цели – коммунизма. Неакцентированная автором, но обозначенная метафорически парадоксальность ситуации в том, что «дороги» (соотносимой с «дорогой к коммунизму» и иными родственными идеологемами), ведущей к намеченной цели, нет, она не построена[1010].
В «Наледи» и «Тонкомере» Можаев, подобно некоторым советским авторам, обращавшимся к экологической теме, затрагивал проблему «хищнического отношения к природе» – это был самый популярный, узаконенный публикацией «Русского леса» аспект. Но остроту можаевским повестям, еще более заметную в силу их очерково-публицистического характера, придавало то обстоятельство, что «социальное» в них практически неотличимо от «экологического», а «экологическое» – лишено натурфилософского наполнения. В прозе Можаева второй половины 1950-х экологическая проблематика очерчивала границы смыслового пространства, где легко обнаруживался параллелизм насилия над природой и насилия над человеком, или – в более мягкой, цензурно приемлемой форме – потребительски-пренебрежительное отношение к природе представало формой обесценивания человека. В «Наледи» и «Тонкомере» действует герой, типологически отличный от «народного типа» из повести «Из жизни Федора Кузькина» (1966; под заглавием «Живой» – 1973): и Воронов, и Силаев в большей степени связаны с культурой соцреализма (точнее, ее «оттепельными» мутациями), отсюда свойственные им наивная порывистость, честность, бескорыстие, сосредоточенность на общеполезном эффекте «производственной деятельности». Но сходство сюжетных ситуаций, в которых оказывались персонажи ранних можаевских повестей, а потом и Федор Кузькин из «Живого», очевидно: всякий раз герой, пытающийся, как это определялось романтически-взволнованной «оттепельной» риторикой, «жить по совести» и с пользой для окружающих, сталкивается с системой, причем случается это не в силу его «негативистских» наклонностей, а из-за идеалистического стремления гуманизировать принципы управления и институты советского общества. Воронов в «Наледи» получает указание начать строительство поселка для рабочих в ущелье, находящемся в непосредственной близости от рудников. Он отказывается это делать, мотивируя решение неэффективностью утвержденного проекта, дороговизной и прямым вредом для потенциальных жителей поселка: в ущелье протекает подземная река, из-за чего будет возникать наледь, которая сделает место непригодным для жизни. Несмотря на убедительность предъявленных аргументов, Воронов, проигрывает противникам позиционную войну и вынужден покинуть строительство. В «Тонкомере» конфликт оформляется структурно похожим образом: главный герой Евгений Силаев, следуя своей мечте и пытаясь оторвать жену от ее родственников-мещан, уезжает мастером в тайгу, на лесозаготовки. На новом месте работы он замечает, что лес эксплуатируют безжалостно, не задумываясь о восстановлении. Силаев выдвигает ряд инициатив, которые глохнут, потому что начальство, приспособившееся варварскими рубками добиваться нужного результата, подсовывает ему неудобный участок, и, выполняя план по кубатуре, Силаев не выполняет его по товарному качеству древесины. В финале повести скомпрометированный недоброжелателями, оставленный женой, герой уезжает на «материк». О проблемах лесоохраны писатель позднее вспоминал:
Известно и то печальное обстоятельство, что последние пятьдесят лет наш лес, нашу тайгу не столько рубят, сколько губят. Впервые об этом печальном факте мне удалось сказать в 1962 году в «Литературной газете»; правда, моя статья «Привыкли» была опубликована в сильно урезанном виде. На нее тотчас откликнулся большой статьей Леонид Максимович Леонов, и завязался серьезный разговор. К сожалению, он был прерван окриком свыше: Н.С. Хрущев на известном совещании ругал писателей за то, что они, мол, суют нос не в свое дело. Оттого-то съемка моего фильма «Зеленый дом», в защиту тайги, была тут же остановлена, сценарий искалечен, а мой очерк «Лесная дорога», написанный на эту тему, удалось опубликовать через пять лет…[1011]
Фильм, основанный на можаевской повести «Тонкомер», все-таки вышел в 1964 году на Свердловской киностудии, но изменения, внесенные в сценарий и опиравшиеся стилистически и мотивно на проверенную эстетику соцреализма, оказались губительными. Если «Тонкомера» автор завершал пессимистичным по меркам советской литературы (спивающийся от неудач герой со своей спутницей едет в город лечиться от алкоголизма) и вместе с тем предельно внятным критицистским финалом, то в фильме случайный попутчик Силаева, выслушавший исповедь героя, неожиданно оказывался высоким начальником, который, как нетрудно догадаться, вмешается в сложившуюся ситуацию и восстановит поруганную справедливость. Финал фильма нивелировал идею, которая порождалась как сюжетным, так и метафорическим строем можаевских повестей: антиэкологизм есть свойство существующей системы, агрессивной по отношению к природе и человеку.
Очевидно, что экологизм, предполагавший (с)охранение природных ресурсов и / или культурно-исторического наследия, именно охранительной интенцией оказался близок национально-консервативному лагерю. Можно согласиться с Леонидом Иониным, заметившим, что «внимание к ландшафту, к территории, к месту – это и политически, и мировоззренчески мотивированное внимание; <…> элемент антиутопического, в конечном счете, антилиберального и антипрогрессистского движения в сторону консервативного понимания мира»[1012]. Показательно, что впоследствии решающую в самоопределении консерваторов идею Вадим Кожинов сформулировал как противостояние «революционаризму», то есть идеологии насильственного преобразования мира, попыткам подверстать реальность под интеллектуальные проекты, с реальностью не считавшиеся[1013]. Кожинов, например, утверждал, что полемика «Нового мира» с «Молодой гвардией» в конце 1960-х была спровоцирована диктуемой сверху ревизией социалистической идеи, гуманизированный вариант которой отстаивал журнал А. Твардовского, и рождающимся снизу «самостоятельным освоением глубин жизни»[1014] на страницах издания, возглавляемого Анатолием Никоновым:
Идея, которая впервые выявилась именно в «Молодой гвардии», была идеей возрождения родной природы, тысячелетней истории естественного народного бытия, духовных ценностей. Эта идея была заострена против всяческой «ломки» – от «переброски» рек и разрушения храмов до «переделки» человека и внедрения «новой», «амбивалентной» нравственности.
Вполне закономерно и понятно, что поначалу эта идея выражалась в несовершенных, даже неуклюжих формах, было немало наивности, темноты и простого невежества. С другой стороны, сложная обстановка и непреодоленные предрассудки нередко искажали истинное направление исканий, вносили в них чужеродные элементы. <…>
В 1970-е годы это «направление» выразилось уже достаточно широко и зрело – выразилось в утверждении бесценности земли перед нарастающими экологическими угрозами, в открытии величия и неисчерпаемых уроков тысячелетней истории страны, в выдвижении на первый план духовных и нравственных устоев народной жизни[1015].
В пространном пояснении, предложенном Кожиновым, в одну смысловую конструкцию на основании «антиприродности» были сведены экологические проблемы («переброска» рек) и радикальные социальные и культурные акции (разрушение храмов, концепции создания «нового человека» и т. п.). Крупные идеологические проекты, авторы которых намеревались упорядочить действительность в соответствии с умозрительными идеально-типическими конструкциями, в данном случае опровергались указанием на их изначальное несоответствие «природному» порядку.
В общую для позднесоветских национал-консерваторов систему аргументов «деревенщики» привнесли акцент на преимущественно практическом, оформленном в «традицию» знании, которое они полагали альтернативой «проектам» и «моделям», спускаемым сверху / поставляемым из центра. Сначала, в 1960-е годы, протест против проектов агрогородков, планов перевода колхозников с частных усадеб в многосемейные коттеджи, типовой застройки оформлялся у них в типичную для «оттепельной» поры критику деиндивидуализирующих тенденций.
Когда присылается в деревню типовой проект общественной бани, то это – зря. С таким же успехом можно прислать туда типовой проект… тюрьмы – так же будет неинтересно, нетворчески, я бы сказал. Кроме того, общественная баня там не нужна[1016], –
осторожно иронизировал Шукшин. Более резко по поводу нежизнеспособности спускаемых сверху проектов высказывался Можаев, приводивший многочисленные факты принятия административных, экономических и экологических решений (например, распашка земель или перенос поселка в непригодные для этого места) без учета опыта и знаний адресатов этих проектов:
…верх старания всех этих ретивых распорядителей – оставить сельских жителей без огородов и садов, согнать их до кучи в пятиэтажные городские дома, чтобы сразу избавиться и самим начальникам ото всех хлопот насчет снабжения кормами да топливом, заодно и освободить колхозников от всяких забот по части огородничества, садоводства и прочих приусадебных “страданий”, вызванных не чем иным, как «заскорузлым инстинктом собственничества». Свое радетельство они оправдывают еще и соображениями государственной экономии: ну, как же? построить многоквартирный дом оказывается дешевле, чем эквивалентное количество особняков. А то ведь раньше никто не додумался до такой глубины. Дураки-мужики жили в отдельных избах. А нет, чтобы построить для всей деревни большой общий барак. Какая экономия на одних бревнах! То-то глупа была эта старая крестьянская община[1017].
В статье «Вода и земля Земли» (1968) С. Залыгин рассуждал о крайне непоследовательной публичной риторике в отношении природы (от призывов «не ждать милостей» от нее до требований защищать ее) и напоминал о древнем консервативном земледельческом принципе – приспособлении к природе[1018]. С точки зрения Залыгина, можно было вовсе отказаться от типового, то есть не учитывающего специфику конкретного рельефа и климата проектирования небольших оросительных объектов, и прибегнуть к опыту и знаниям местных мастеров.
Он эту натуру – рельеф, грунт, водоисточник – чувствовал, вживался в нее. Он ложился на спину, закрывал глаза и по приливу крови к голове определял уклон местности в заданном направлении, таким же образом он трассировал и канал. Это из области почти легендарной, но ведь и сейчас еще во многих странах мира, да и у нас тоже, не перевелись умельцы, и прекрасные ирригационные системы выполняются без проектов…[1019]
На реабилитации «местного» знания, метиса, по Джеймсу Скотту[1020], в известной мере и основывался близкий «деревенщикам» эволюционистский, избегающий ломки «устоев» идеал развития. В работе «Благими намерениями государства: Почему и как проваливались проекты улучшения условий человеческой жизни» американский антрополог и социолог рассмотрел несколько проектов авторитарного социального планирования, попытки воплощения которых, с его точки зрения, завершились крахом (монокультурные леса в Германии, строительство идеального города Бразилиа, вилладжизация в Танзании, коллективизация в СССР). По мнению Скотта, желание власти и ангажированных ею интеллектуалов сделать общество предельно прозрачным, дабы оптимизировать управление им, неизбежно сталкивается с разнообразными формами сопротивления (открытыми и латентными). Инструментом сопротивления является метис – практическое знание, на котором основывались созданные некогда местными сообществами правила выживания и адаптации к природно-культурной среде. Исследователь замечает, что подобный взгляд на характер проводимых государством социальных преобразований не является открытием и, скорее, принадлежит к социологическим трюизмам[1021], однако дает «ценную отправную точку для того, чтобы понять, почему авторитарные высокомодернистские системы настолько потенциально разрушительны»[1022]. Сталинская коллективизация в свете такого подхода – попытка новой элиты идеологически обосновать и осуществить уничтожение традиционного крестьянского мира, скомпрометировав «архаичность» и «ненаучность» земледельческих методов якобы отсталого противника:
Если реальная логика сельского хозяйства представляет собой логику изобретательного практического приспособления хозяйственной практики к сильно изменчивойокружающей среде, то, в противоположность этому, логика научного сельского хозяйства заключается в максимально возможном приспособлении окружающей среды к своим централизующим и стандартизирующим формулам[1023];
Все сельское хозяйство существует в определенном месте (поле, почва, культуры), в определенном времени (погодные условия, время года, смена популяций вредителей) и в определенных целевых объектах (потребности и вкусы семьи). Механическое применение общих правил, которое игнорирует эти особенности, приводит к практическим неудачам и социальному разочарованию. Общая формула не дает и не может давать местного знания, которое только и делает возможным успешное преобразование с необходимостью недостаточно подробных общих представлений в успешное и детальное приложение в местном контексте[1024].
Начавшаяся в 1960-е годы скрытая полемика «неопочвенников» с официальной идеологией «ломки» и «покорения» велась во многом с типично консервативной позиции апелляции к «здравому смыслу», восстановлению в правах тех навыков обустройства жизни, носителем которых представлялся русский крестьянин. Любопытно, что идеологию «Лада» В. Белова близкий национал-консерваторам критик реконструировал как оправдание «здравого смысла», лежавшего в основе крестьянских эстетики и социальных навыков и потенциально способного стать основой современной экологической деятельности:
Ее (книги Белова. – А.Р.) собственная духовная сердцевина – это философия здравого смысла
Зона действия здравого смысла гораздо шире деревенского круга и «деревенской темы». Здравый смысл как продукт человеческой осмотрительности и терпимости, как единство традиции и творчества, как сознание коллективной самодеятельности, ее опыта и необходимого разнообразия – есть достояние всего общества. Он, надеюсь, не исчез вместе со многими горькими каравайками и матерами, сохранился в народе, в общем сознании, в исторической памяти[1025].
Мифологизация крестьянских практик приспособления к природной и социальной реальности вообще серьезно повлияла на толкование «деревенщиками» экологической проблематики: особый тип коммуникации «природного» человека – крестьянина – с природным же миром преподносился ими в качестве утраченного идеала гармонии. Например, В. Астафьев в статье «Вечно живи, речка Виви!», которая появилась на гребне экологических общественных инициатив конца 1980-х годов, доказывал необходимость отказа от планов строительства Туруханской ГЭС в районе Нижней Тунгуски – месте традиционного кочевья аборигенных племен, и предлагал ориентироваться на иные практики обживания новых территорий, созданные «подчиненными» группами – коренными северными народностями и сибирским крестьянством:
Надо бы присмотреться к уникальному явлению, изучить бы, как это в суровейших условиях Заполярья приспособились к тундре и лесотундре народы, вытесненные когда-то с южных мест, и выжили здесь, да поучиться бы у них кой-чему, перенять их опыт бескровного освоения северных пространств…[1026];
И вообще поучиться бы у разогнанных крестьян всех народностей совестливости, опрятности, упорству в ведении хозяйства, бережливости ко всему, что живет, растет вокруг нас[1027].
Вопрос о символической функции северного инородца в экологической прозе Астафьева и Распутина будет рассмотрен ниже, а в приведенных цитатах следует акцентировать, во-первых, характерную для «неопочвеннического» консерватизма антитезу «больших идей», глобалистских проектов государственной власти и неупорядоченной, уклоняющейся от формализации жизни «народного организма», во-вторых, метафорический потенциал природозащитного дискурса, обеспечивавший успешное его функционирование в качестве языка обсуждения практически любой преобразовательской деятельности[1028]. В публицистике перестроечной поры, наподобие астафьевской, причинно-следственная связь между несостоятельностью советского проекта и удручающим состоянием природной среды не нуждалась в дополнительных разъяснениях, но попытки «деревенщиков» внедрить экологические коннотации и выстроить параллельно общепринятому дискурсу «покорения» оппонирующий дискурс «приспособления», имели место еще в 1960-е годы. Прото-экологические смыслы содержались, например, в повести Астафьева «Кража», которую, пользуясь существовавшими тогда трафаретами тематической классификации, можно было бы назвать произведением о «нравственном становлении советского человека».
Опубликованная в 1966 году в журнале «Сибирские огни» «Кража» тематически и идеологически была отмечена явной принадлежностью «оттепели». Повесть о детдомовце, который вместе с такими же социально неблагополучными подростками украл деньги у кассирши, а потом вернул их, интересна, среди прочего, местом действия – события разыгрываются в 1930-е годы в Игарке (в тексте Краесветск) – городе, возводимом в Заполярье силами заключенных и спецпереселенцев. Место, изображенное Астафьевым, предстает резервуаром экстремального опыта: экстремален опыт детдомовцев, чьи судьбы еще в детстве изуродованы жестокостью взрослых, экстремален опыт крестьян-спецпереселенцев, оторванных от родных мест и вынужденных выживать в тяжелейших условиях, наконец, экстремальна сама ситуация строительства города в районе вечной мерзлоты. Но этот экстремальный социальный и психологический опыт «нормализован» Астафьевым, который стремился увидеть в нем выражение «глубинных» закономерностей бытия (от чего этот опыт не становился менее драматичным, но в культурном смысле делался менее маргинальным). В комментариях к повести Астафьев отмечал:
…люди, перенесшие ссыльную недолю, русские люди не только выжили и выросли в каторжных условиях, вопреки тому, что должны были сплошь передохнуть. В полуночной, студеной стороне они построили город, готовили на продажу за море лесную продукцию и не разрушились духовно, хотя надорвались физически и преждевременные смерти скосили многие и многие ряды обездоленных, но стойких людей…[1029]
Автор исходил из того, что репрессированные люди не благодаря воли власти, а вопреки ей обустроили мир вокруг себя, и снабжал в повести ситуацию строительства разветвленными мифопоэтическими подтекстами. В название Краесветск он закладывал определяющую для северного (и сибирского) пространства семантику отдаленности / отделенности от «большого» мира: город отрезан от «магистрали» рекой, являющейся границей и средством сообщения двух миров, причем сообщение возможно лишь в сравнительно недолгий период навигации. Пересечение границы на пути в несеверный мир затруднительно в прямом и переносном смысле, потому охранники здесь лишь для виду охраняют заключенных – «убежать из Краесветска можно только летом и весною, ближе к пароходам»[1030]. Существующий почти автономно в заполярном пространстве, что само по себе требует незаурядных усилий, Краесветск ассоциируется в «Краже» и с мирозданием как таковым. Холод, темнота, пустота северного пространства – свойства бытия вообще:
Воет, завывает ветер, кружит снег, и куда-то катится, несется в темноту земля вместе с этим городишком, с горсточкой его огоньков среди огромного, неоглядного мира и с этим маленьким человеком, который бредет, не закрываясь от ветра и снега, неся музыку в сердце, содрогнувшемся от призрачного счастья…
Смыслы «выморочного», «наоборотного» мира нагнетаются в ретроспективных главах повести, где чужая для ссыльных земля предстает царством смерти и холода, аналогом преисподней. Эту семантику перехода в царство смерти Астафьев обыгрывает в эпизоде водного путешествия спецпереселенцев на север. Здесь сконцентрированы пейзажные детали, связанные с оскудением, мертвенностью ландшафта («Река мрачнела и узилась. Скалы возносились выше, и на них уже не было тайги, а только маячили обгорелые ветлы да зябко корчились голодные кустарники»[1031]), а прохождение парохода через опасный речной порог красноречиво уподобляется погружению в преисподнюю:
Кругом все шевелилось, корчилось, хлестало, вертелось, кипело. Лишь черные скалы с рыжими отливами висели по обеим сторонам неподвижно и голо. <…> Грохот, рев, лязг, как на железоделательном заводе, который любому мужику в первый раз кажется преисподней[1032].
С воплощающим силы энтропии Севером связаны в повести мотивы исчезновения памяти, человеческого следа. Так, в традиционно сакральном пространстве кладбища парадоксально не действуют законы сохранения памяти: весной вечная мерзлота «отдает» – могильные кресты падают в болото, «и вместе с ними навсегда исчезает память о человеке»[1033].
Север в повести оказывается еще и пространством, социально пораженным – местом ссылки, скопления спецпереселенцев и заключенных. Маргинальность пространственная в данном случае естественно совпадает с маргинальностью социальной[1034]. Топографически автор размечает пространство Краесветска, выделяя локусы, концентрирующие страдания, одиночество, смерть (детдом, кладбище, барак спецпереселенцев, лесопилки, на которых трудятся зэки; исключением из этого правила является кинотеатр, где зрители, глядя на экран, плачут о недоступной им другой жизни). Тем не менее, исходит Астафьев из того, что вечный закон, которому подчинен миропорядок, – закон творчества и обустройства мира[1035]. Вероятно, поэтому в его воспоминаниях о детстве в Игарке поначалу столь сильным было сопротивление «каторжному» образу города[1036]. Астафьев же, напротив, совершенно искренне пытался открыть в происходящем противодействие жизни силам хаоса:
Может быть, все живое, и городок этот далекий, возникли по исконному мудрому закону жизни, не по прихоти, а именно по закону. Город такой здесь нужен. <…> Если бы не было смысла, город был бы только ссылкой для заключенных и раскулаченных переселенцев. Но в Краесветске половина, если не больше, жителей вольных, приехавших по своему желанию и, обживая север, оттаивают они мерзлоту дыханием своим[1037].
Неудивительно, что «Кража» является одним из немногих произведений Астафьева, где вмешательство человека в ход природного бытия трактуется как глубоко позитивный процесс:
Дело в том, что с погодой в Краесветске происходят вещи прелюбопытные. Климат здесь сделался мягче, слух есть, что скоро в Краесветске прямо под окнами возделают огороды, будет расти картошка, капуста и так далее.
Говорят, будто бы там, где появляется человек, вообще теплее делается. Земля вроде бы добреет[1038].
В авторской реплике по поводу меняющегося в сторону потепления климата Краесветска легко различим след природно-климатического оптимизма 1930-х годов[1039], однако столь же логично, на мой взгляд, соотносить ее с иным культурным контекстом. В «Краже» преобразование климата, действительно, вызвано деятельностью человека, но последняя описана Астафьевым через метафорику не «покорения», а «приспособления», лежавшего в основе крестьянских культурно-экономических практик (во всяком случае, так хотел видеть эту ситуацию автор). В заключающей «Последний поклон» и служащей комментарием к спецпереселенческой линии «Кражи» главе «Вечерние раздумья» он пишет:
Где-то в Заполярном круге мыкались, умирали, приспосабливались к новой, неслыханной жизни сибирские крестьяне, и, что самое поразительное, часть из них, пройдя все муки ада, заломала эту самую жизнь, приспосабливалась к ней и приспосабливала ее к себе[1040].
Правда, в «Краже» апологию приспособления писатель передоверит герою-интеллигенту Репнину и иронически-контрастно соотнесет ее с понятием «приспособленчества», в котором упрекают «социально чуждого» персонажа:
Ненила Романовна однажды желчно заметила Репнину по поводу этих посиделок (персонала детдома и воспитанников. – А.Р.) на кухне:
– Приспосабливаетесь!
На это Валериан Иванович с плохо скрытой иронией ответил:
– Видите ли, <…> человек с начала своего сотворения только то и делает, что приспосабливается. Да, да. К природе, к Богу, к раю, к войне, к жене, к детям, к квартире, к соседям, ко всему на свете. Человек, видимо, только потому и жив, что смог приспособиться, а то бы вымер[1041].
По Астафьеву, практики выживания, усвоенные крестьянством, универсальны и к тому же социально и экологически более продуктивны, нежели самонадеянное вторжение в природу. Хотя надо заметить, что в повести объект критики – идеология «ломки» – по понятным причинам обозначен лишь намеками, а в «гармонизирующей» отношения человека и природы риторике «сотрудничества» очевидно присутствие неизжитых надежд на гуманизацию социалистического строя.
В вышедшем почти через десять лет после астафьевской «Кражи» романе С. Залыгина «Комиссия» (1975) экологическая проблематика была уже главенствующей и в каком-то смысле самоценной, однако нельзя не заметить, что на формирование своеобразного «эзопова языка» романа она повлияла самым непосредственным образом. Галина Белая, делясь своими впечатлениями от первого прочтения «Комиссии», обращала внимание на амбивалентность экологического дискурса романа:
…тема природы была для них («деревенщиков». – А.Р.) и эзоповым языком, на котором говорилась правда о современной жизни. Это прочитывалось в тексте, и когда герои С. Залыгина говорили, что, думая о порядке в общественном лесу, они думают о порядке «в своем государстве», мы понимали, что эта серьезная идеологическая мысль в те времена не могла быть высказана иначе[1042].
Автор «Комиссии», действительно, в очередной раз провозглашал разумную устроенность природного бытия, которая должна была стать ориентиром для организации социальной жизни, и вместе с тем аккуратно проблематизировал каноническую трактовку сюжета о Гражданской войне, облекая свой ревизионизм в символику столкновения природного и социального.
В центре романного повествования – история возникновения и деятельности Лесной комиссии. Ее создают жители сибирской деревни Лебяжка осенью 1918 года, чтобы в ситуации безвластия защитить расположенный неподалеку ленточный бор от неконтролируемых порубок. Постепенно Комиссия берет на себя дополнительные функции по упорядочиванию общественной жизни и демонстрирует способность крестьян к самоорганизации и самоуправлению. В финале романа нагрянувшие в Лебяжку колчаковские офицеры отдают приказ запороть членов Комиссии, что становится символом окончательного погружения России в братоубийственную вражду. Любопытно, что историческая событийная канва произведения критику конца 1970-х – начала 1980-х годов увлекла меньше, чем натурфилософское его содержание[1043]. Отчасти это было обусловлено необычностью жанрово-тематической структуры «Комиссии», в которой автор попробовал реанимировать некоторые элементы утопического метанарратива[1044]. До этого Залыгин успешно попробовал себя в повести о коллективизации и историко-революционной повести («На Иртыше», 1964, «Соленая Падь», 1968). «Портретирование» народной массы к моменту создания «Комиссии» тоже успело стать характерной приметой его писательского стиля. В новом романе сохранился авторский интерес к периоду Гражданской войны в Сибири и типу мужика-самородка, который теперь превратился в носителя оригинальной эколого-историософской идеи. Крестьянское происхождение героя и практическая ориентированность его взглядов («Суть философии Устинова, как и полагается у мужика, очень земная и практическая»[1045]) были принципиальны для Залыгина, и это сразу уловила критика. Исследователи залыгинской прозы констатировали символичность положения в романном мире главного героя, члена Лесной комиссии Николая Устинова: во-первых, он находился на «пограничье», между двуми мирами (ср. «Сибирский крестьянин Устинов ощущает себя, свой труд, жизнь как “пограничье” между природой <…> и обществом <…> Потому-то он представительствует от крестьянства, как от наиболее природного сословия»[1046]), во-вторых, он существовал как бы вне политического конфликта, его правда в наименьшей степени, нежели позиции противоборствующих сторон, зависела от изменчивых политических интересов, поскольку «выводил» ее герой (и автор) из природного «закона», усвоенного крестьянином по роду деятельности:
Пахота – это же не один только труд и работа, это судьба и доля человеческая.
Пахота – не только судьба и доля человеческая, это еще и указ природы человеку.
И покуда человек природного указа держится, следует ему – до тех пор будет известно, что такое жизнь людская; забудется указ, и неизвестно станет о человеке ничего – кто он, что он, зачем и почему. И заблудится человек в неизвестности[1047].
Залыгин полемизировал со взглядом на крестьянина как на существо ограниченное, темное, движимое предрассудками, и доказывал обратное: условия крестьянской жизни, тесная связь с природой и животными, инициативность и умение подчиняться авторитету общины делали крестьянина наиболее жизнеспособным и творческим человеческим типом. Более того, по Залыгину, именно крестьянская община и мужик-хозяин были способны создать гармоничный социум, обустроенный по «природному указу», ибо крестьянин, обладавший, по позднейшему выражению писателя, «симбиотическим»[1048] (в противоположность аналитическому) мышлением, умел «читать» этот указ наиболее верно:
Об Устинове говорили – он знающий мужик и умный. Но о себе Устинов знал такую хитрость: то ли от матери, то ли от отца, то ли от самой природы был он приучен слушаться наиглавнейшего разума, который сама природа и есть![1049]
Писатель не случайно ввел в повествование визуальный образ организованной совершенно земли – план Лебяжинской лесной дачи:
Устроенная и отчетливая земля… Вот черная тонкая линия, и по одну сторону от нее что-то одно, а по другую – другое, и ясно видно: кончился луг, и началась пашня, кончилась пашня, и начался выпас, а вот и выпас кончился – началось озеро. Всему на свете есть начало и есть конец, свой порядок и название. Каждая земля и вода знают про себя, что они такое, к чему предназначены[1050].
Этот план успешно читают неграмотные мужики, чем немало удивляют приезжего лесотехника:
…тот Казанцев, Петр Нестерович, как встретит любого мужика, так и к нему: «Вот план твоей местности, погляди на его и скажи – где тут должна быть такая-то заимка? В натуре она есть, а на плане еще не отражена?» <…> И что ты думаешь, – мужик обязательно укажет то место. Ну, не с первого, так со второго разу – обязательно! И старший техник межевания удивляется: «Мужик неграмотный, а план читает?» Я ему объяснял: «План земли мужику даже понятнее грамоты!» Тот не согласен: «Я в землемерном училище сам-то на второй год только научился хорошо читать план! Нет, Устинов, тут что-то есть – инстинкт!» Я спрашиваю: «Какой?» Он объясняет, но издалека только догадаться и можно, что это такое: ну, как у собаки чутье, тот инстинкт! Наверно, со словом истина соприкасается![1051]
Инстинкт, каким, с точки зрения Залыгина, руководствуется крестьянин, также является составляющей метиса, способного защитить, по мнению «деревенщиков», от идеологической догматики. Однако концепция справедливого «природного» мироустройства в «Комиссии», помимо апелляции к метису крестьянства, поддерживалась еще и скрыто негативной оценкой наличествующего социально-исторического опыта: социум в нынешнем его состоянии (уничтоживший, если следовать логике романа, в Гражданской войне человеческую «середину», охваченный тотальной враждебностью) не мог выработать сколько-нибудь продуктивных, позитивных норм общежития. Такие нормы Залыгин ретроспективно отыскивал в природе и разрушенной утопии крестьянского мира. Это объясняет, почему в составленном членами Лесной комиссии Обращении провозглашалась первичность природного закона по отношению к социальному:
Ведь истинное назначение власти – разумный закон и порядок, а закон и порядок не могут быть без убережения людьми всей природы и земли, на которой они существуют, а именно к этому убережению стремится наша Комиссия. И кому, как не крестьянину, кормильцу человечества в целом, а среди него – властей и правительств, заниматься таким убережением?
Мы убеждены, и даже глубоко, что в разумном будущем человек сперва положит в основу тот либо другой закон природы, а уже после приспособит к нему свой человеческий закон. <…>
…Наша Комиссия обращена к природе, то есть к девственной чистоте и к самому разумному в мире порядку, и вот именно это и позволило нам оказать хотя и малое, а все-таки влияние на беспорядок повседневной жизни нашего сельского общества…
Центральная природная метафора залыгинского романа – лес – отсылает к ставшему классикой советской литературы «Русскому лесу» Л. Леонова. Риторика романа и публицистики Леонова, уподоблявшая лес «другу» и «помощнику», воскрешена в «Комиссии», но функции сюжетообразующих метафор в этих произведениях несколько различны. У Леонова смыслопорождающим является сопоставление леса и народа, двух «органических» начал, одно из которых принадлежит природной жизни, другое – социальной, но органико-биологическая метафора первична, она вбирает в себя все остальное. Залыгин же испытывает больший интерес к социальным навыкам и практикам, которые позволяют «народу» полноценно расти и развиваться. Поэтому в поле его зрения, при декларативном подчас внимании к «природному человеку» Устинову и «инстинкту» крестьянина-хозяина, – «природное», которое сближено, но не отождествлено, с «гражданским», – самодеятельно-низовым и демократическим (пиетет к нему, видимо, был унаследован писателем от родителей-земцев[1052]). У Залыгина, на мой взгляд, в отличие от некоторых его коллег по «деревенской прозе», вообще не было нигилизма в отношении способностей общества к социальному творчеству и гражданской самоорганизации, другое дело, что то и другое, как он считал, должно было получать импульс от «природы» и в ней же находить «образцы», на которые стоит ориентироваться. Рассогласование социоисторического и природного виделось ему громадной проблемой (в этом он как раз типичный «деревенщик»)[1053], но это вовсе не отменяло для него необходимости постепенного реформирования «социального».
Тем не менее, финал «Комиссии» показывает, как «природное» опровергается «социальным», а утопия – историей. Развязка романа полностью соответствует сюжетному трафарету советских произведений о Гражданской войне, предполагавшему обязательную дискредитацию Белого движения: колчаковцы и белочехи – носители жестокости и несправедливости – уничтожают Комиссию, спонтанно возникший институт народовластия, подтверждая этим еще раз свою «антинародную» сущность. Такой финал, судя по всему, был рассчитан Залыгиным на возможность двойственной интерпретации. Если использовать для его истолкования коды советской историографии, то выяснится, что «Комиссия» убедительно доказывала ограниченность крестьянского сознания, тщетно пытавшегося уйти от законов классовой борьбы и ограничиться наивными полумерами, вроде сохранения леса, ремонта общественной школы и борьбы с самогоноварением. Но при этом система персонажей сконструирована Залыгиным с таким расчетом, что главным идеологом вражды в романе предстает большевик Дерябин, наиболее радикально настроенный член Лесной комиссии, а не безликие колчаковцы, появившиеся в заключительных эпизодах повествования. После убийства неизвестными Николая Устинова Дерябин, объясняя свою позицию оппонентам внутри Комиссии, отвергает именно гражданский, наиболее для автора романа ценный (внеполитический), аспект ее деятельности:
А я вот что – я выскажу нонче всю правду! До конца! Хватит всем нам, а мне так и особенно, вполголоса разговаривать, думать, а для людей утаивать – что и как! Я скажу – игрушка была наша Лесная Комиссия, вот что! Вот мы и доигрались в свою игрушечку! Вместо того чтобы самим до конца идти по пути самой главной переделки человечества, вместо того чтобы до конца ликвидировать Гришку Сухих, разных там Кругловых, а может, даже и тебя вот, Иван Иванович, и уже объявиться военной действующей силой против деспотов, – мы занимались речами, да лесинами разными, да самогонными аппаратами[1054].
Учитывая идеологическое «двойничество» отвергших «природный указ» красных и белых (первые в рамках романного повествования проповедовали борьбу до полного истребления противника, а вторые действовали в соответствии с этим принципом), финал можно трактовать как констатацию аномальности избранного исторического пути, продвижение по которому делает невозможным гражданские инициативы. Позднее И. Брудный, пытавшийся истолковать роман Залыгина в контексте экологических произведений «деревенщиков» 1970-х – первой половины 1980-х годов, уверенно обнаружил в «Комиссии» почти диссидентские смыслы. Залыгин, по его мнению, зашел настолько далеко, что стал утверждать, будто законность партийного правления находится под угрозой из-за бессмысленного небрежения окружающей средой[1055]. Возможно, подобное прочтение «Комиссии» несколько радикализирует позицию ее автора, но текст дает для этого основания. В любом случае оно еще раз демонстрирует, насколько уместным оказывался природоохранный дискурс в качестве инструмента критики существовавшей системы.