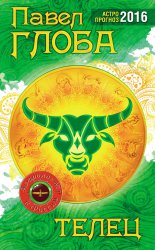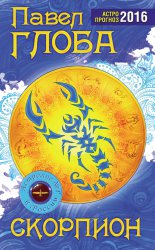Писатели-«деревенщики»: литература и консервативная идеология 1970-х годов Разувалова Анна
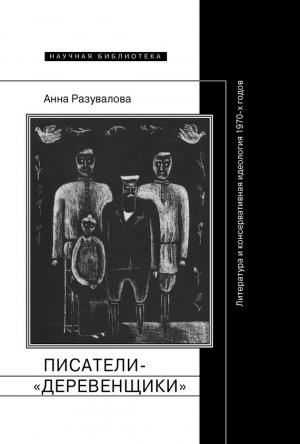
Упреки «деревенщикам» в непонятной любви к «задворкам» цивилизации в самом деле периодически раздавались на протяжении 1960-х и 1970-х годов[589], но все же Астафьев заострил внимание лишь на одной, задевшей его писательское самолюбие, стороне вопроса. Факты, тем не менее, свидетельствуют и об обратном – наличии у писателей-«неопочвенников» поддержки со стороны критики и, как показали Николай Митрохин и Ицхак Брудный, представителей официальных инстанций[590]. Роль символических преемников русской классической литературы, на которую критика «долгих 1970-х» совместными усилиями ввела «деревенщиков», также давала им ряд явных и неявных преимуществ. В этой главе речь пойдет о дискурсах традиции и наследования в процессах индивидуальной и групповой самоидентификации «деревенщиков». А поскольку новые интерпретации русской классики и базирующиеся на них схемы самообъяснения вырабатывались и распространялись критиками и публицистами, деятельности последних в этой главе также будет уделено особое внимание.
«Консервативный поворот» и «классикоцентризм»[591] «долгих 1970-х»
Чтобы убедиться в «классикалистских» предпочтениях культуры «долгих 1970-х», достаточно бросить беглый взгляд на периодику. Газеты и журналы сообщают о праздновании во всесоюзном масштабе юбилеев классических авторов, бурно обсуждают постановки классики на театральной сцене и в кино, предлагают новые варианты прочтения известных со школы текстов, в очередной раз констатируют благотворность влияния классического искусства на современность. Советские школьники, юноши и девушки брежневской поры, внимающие стихам Пушкина и что-то открывающие в этот момент в себе, – выразительная сцена из фильма Динары Асановой «Ключ без права передачи» (1976), ставшая визуализированной эмблемой интеллигентского переживания контакта с классикой-Культурой в годы «застоя». «Предстояние» героев перед памятником Пушкину, вслушивание в стихи современных поэтов знаменовали перемещение из казенно-правильного мира советской школы, ассоциируемой с государством, в пространство настоящих чувств и жизни.
Дискуссии о классике в позднесоветском газетно-журнальном пространстве возобновлялись регулярно, но оставляли впечатление пробуксовывающих на месте, – из года в год при помощи одних и тех же аргументов обсуждалась одна и та же «нестареющая» проблема «классика и современность». К классике как исторически специфицированному явлению эти дебаты имели косвенное отношение. Длившийся десятилетиями разговор о ней был ориентирован на другое – постоянное воспроизведение формул объяснения мира и человека, выработанных классикой и очерчивающих более или менее единое смысловое пространство для ее читателей, как «профессиональных», так и знакомых с ней в объеме школьной программы. По сути, русская классика, в качестве «великого наследия» окончательно апроприированная советскими институтами, в «долгие 1970-е» стала одним из главных факторов поддержания коллективной культурной идентичности разных слоев и групп.
«Классика всегда определяется тем, для чего ее используют»[592], – заметил Антуан Компаньон, и существование русской классики в культуре «застоя» подтверждает точность этого наблюдения. Интеллигентская среда и массовый читатель разделяли уверенность в том, что именно классика способна дать ответы на вопросы и запросы, исходившие от противоположно ориентированных социальных групп. Несменяемость авторитетов, составлявших классический пантеон, регулярность празднуемых юбилеев, продуцировали смыслы, связанные с утешительной для власти идеей стабильности существующего порядка. Одновременно диссидентствующая часть советской интеллигенции черпала из произведений А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, А.И. Герцена поучительный опыт «тайной свободы». В признании всеобщей значимости отечественной классики были солидарны тогда и традиционалисты, и «новаторы». Основополагающий тезис доклада Петра Палиевского, с которым он выступил в ходе дискуссии «Классика и мы» (1977) – «не столько мы интерпретируем классику… сколько классика интерпретирует нас»[593], – вызвал единодушное согласие у всех, кто бурно оппонировал друг другу в ходе сопровождавшегося скандалами заседания. «Опора на нравственный авторитет классики, аргументация от традиции»[594] (курсив автора. – А.Р.), по определению Галины Белой, стали интеллектуально-эстетическими приоритетами 1970-х, а неизбежные издержки «классикализации» культуры этого периода в иронической формуле суммировал Станислав Рассадин: «трепет перед классикой стал такой же модой, как прежнее отрицание ее»[595].
Очередная «нобилитация» классики протекала в контексте позднесоветской «нобилитации традиции»[596]. В 1970-е культурный радикализм 1920-х годов стал официально рассматриваться как возмутительный «перегиб» и проявление нигилизма, вовремя пресеченные Лениным[597]. О небезобидности переворачивания культурной иерархии, в результате которого классику уже как-то раз сбросили «с парохода современности», часто напоминала правая критика в лице П. Палиевского, Вадима Кожинова, Михаила Лобанова, Юрия Селезнева и др.[598] Впрочем, идея безусловного авторитета русской классики находила самый широкий отклик у многих групп позднесоветской интеллигенции[599], в том числе и тех, кто не исповедовал «неопочвеннических» идеалов, но полагал, что культурный консерватизм, то есть поддержание иерархично устроенной классикоцентричной культуры, есть единственно разумная политика, позволяющая, во-первых, поставить преграду «упрощению», «безвкусице», «пошлости», во-вторых, изжить неискорененную с 1920-х годов «левизну»[600]. Консенсус на почве защиты классики от современной «антикультуры» порождал неожиданные союзы. Так, во время дискуссии «Классика и мы» в унисон с Палиевским и Лобановым выступила Ирина Роднянская, проработавшая с 1971 по 1976 год в «прогрессивном» ИНИОНе и публиковавшаяся в «Новом мире»[601]. В своей речи она уподобила классику «незыблемой пристани в водах <…> культурного релятивизма»[602] и высказала несогласие как с формалистским видением проблемы наследования через «канонизацию» и «остранение», так и с современными социологическими штудиями (в частности, книгой Игоря Кона «Социология личности», 1967), поскольку оба подхода, с ее точки зрения, подтачивали главенство классической литературы. Как видим, типичная для консерватизма апелляция к «устойчивым» структурам[603] (классика здесь выступает гарантом сохранности традиционной аксиологической иерархии) сплотила в «долгие 1970-е» разные интеллектуальные группы, но правые силы продвинулись в этом направлении дальше остальныхи попытались обосновать классикоцентристским аргументом уникальность исторического пути России: если великая классика XIX века, предсказавшая все проблемы современности, есть главное достояние России[604], то надо предпринять меры по ее защите от «искажений».
Примечательным образом оживление интереса к «традиционным ценностям» и классической литературе в «долгие 1970-е» совпало с очередной интенсификацией употребления критиками, искусствоведами и обществоведами понятия «народность». В качестве идеологического клише «народность» в русской культуре XVIII–XIX веков имела долгую и замысловатую историю[605], перипетии которой в позднесоветских парафразах «народности» каким-то образом учитывались. В обновленной версии 1960 – 1970-х годов «народность» соотносилась с «простонародностью» и «демократизмом», генерируемыми антиэлитаристским настроем. Историко-генетически он был связан, помимо прочего, со сталинским национал-большевизмом[606] и легитимировал «народ» в качестве главной, но социально трудно опознаваемой исторической силы. Кроме того, «народность» в этот период понималась в духе известного пушкинского высказывания[607] – как воплощение специфичных для национальной культуры форм мышления, чувствования, поведения. Формирующийся правый лагерь с 1960-х годов рассуждал о «народности» как синониме «национального своеобразия», хотя употребление последнего понятия было более жестко регламентировано[608]. «Наращиванием народности в литературе», «все большим ее влиянием на общественное, даже политическое сознание, несмотря на преследования со стороны антирусской (будущей “демократической” прессы)»[609], датировал конец 1960-х годов М. Лобанов, тем самым откровенно обнаруживая этноцентристские смыслы «народности», то «корневое», «русское», что было важно для правых сил и не имело в интернационалистском официальном политическом лексиконе приемлемого обозначения. Но даже тогда, в конце 1960-х – 1970-е годы, был заметен дискурсивный сдвиг, возникший в результате удачного манипулирования этим концептом: приспособив давно ставшую элементом официального «новояза» «народность» к своим целям[610], «неопочвенники» представили ее как отличительное свойство русской культуры, а нацию (не класс), «раскинувшуюся поверх социальных барьеров», перевели в ранг «основной движущей силы истории»[611].
Подобно дихотомии «традиции и новаторства», понятие «народность» в «долгие 1970-е» было элементом критико-литературного дискурса нескольких интеллектуальных групп: ее использования чуждались исследователи-структуралисты, зато официозная, «неопочвенническая» и либеральная критика, жонглируя этой категорией, ранжировали явления современной литературы и объясняли телеологию отечественной культуры. Согласно Ю. Селезневу, одному из ведущих критиков национально-консервативного направления, стихийная народность древнерусского периода в XIX веке сменилась народностью сознательной, воплощенной «передовыми вестниками»[612] духовных сил народа (аристократами, не порвавшими с «почвой», – Пушкиным, Гоголем, Достоевским, Толстым). На следующем этапе новое качество народности возникло в начале ХХ века, после искушения декадансом и авангардистскими концепциями. Наконец, во второй половине ХХ века на литературной сцене появились авторы, поднявшиеся «непосредственно от земли и станка к высотам (курсив автора. – А.Р.) отечественной и мировой культуры…»[613]:
Процесс обновления в нынешней литературе, связанный в последние полтора-два десятилетия главным образом с так называемой «деревенской» прозой, без преувеличения можно определить словом «возрождение» (пусть и с маленькой буквы): возрождение в народности (разрядка автора. – А.Р.)[614].
«Деревенщики» в роли преемников: Особенности критического дискурса
Если ориентироваться на прозрачную схему Ю. Селезнева, место главных наследников русской классической литературы национально-консервативная критика отвела писателям-«неопочвенникам», хотя другого мнения по поводу культурного генезиса «деревенской прозы» не было и у критиков противоположных взглядов – споры могли идти о том, что именно в традиции XIX века особенно актуально для «деревенщиков»[615], но их общее следование в русле классической традиции казалось несомненным, а на фоне безликого письма эпигонов соцреализма еще и отрадным. «Деревенщики», в самом деле, по многим параметрам идеально подходили на роль «продолжателей» – структурно их тексты были дистанцированы от литературы, претендовавшей на элитаризм (в СССР это произведения, ориентированные на модернистски-авангардистскую эстетику), и литературы массовой, однако именно такое их устройство в наибольшей степени отвечало представлениям о «классическом». По существу, «деревенская проза» соединила умеренные значения новизны (в основном, тематической, связанной со злободневными общественными проблемами) с апелляцией к традиционному / традиционалистскому «образу мира в его целостности, единстве с “изначальным” и “высшим”, соответствующими конструкциями пространства-времени, экспрессивными средствами – эстетическими конвенциями, языковыми нормами»[616]. «Формулой» текстов, которые можно «подключить» к классической традиции, по мнению Бориса Дубина, был баланс между «отдельными, отобранными, переосмысленными и переоцененными элементами и “элитарного”, и “массового”»[617]. «Деревенская проза», несомненно, отвечала этому критерию, поскольку нравоучительность и бытописательскую зоркость «массовой» словесности сумела связать с отказом от «идеологической позитивности»[618] и интересом к языку социально-географической периферии.
С почти единогласным мнением советской критики о «деревенщиках» – «наследниках» резко диссонировали суждения литературоведа Юрия Мальцева в эмигрантском «Континенте». Мальцев усомнился в возможности зачислить «промежуточных» (то есть идеологически не «советских», не «антисоветских») писателей в разряд продолжателей классической литературы, ибо в их творчестве «во всем, что касается техники письма, культуры выражения, эстетического кругозора и творческой фантазии», он наблюдал «явный регресс»[619]. С точки зрения Мальцева, подобно тому, как советская культура неумело подражает русской культуре, «деревенщики» лишь имитируют верность заветам классики. На деле же они глубоко испорчены необходимостью мимикрировать, дабы сохранить возможность публиковаться в государственных издательствах. Критик моралистически выставлял «деревенщикам» счет за конформизм и максималистски разоблачал их двуличие, отнимавшее право наследовать русской классике[620]:
Интересно посмотреть, как эти писатели сами понимают традиции реализма. Можаев, например, говорит о «глубине идей и жизненной достоверности» произведений этих новых реалистов, к числу которых принадлежит и он сам, говорит о «достоверном, бескомпромиссном изображении действительности» и «высшей гражданственности». И тут же дает пример этой гражданственности, дважды подобострастно упомянув в своей статье «вдохновенную» книгу товарища Брежнева[621].
Понятно, что сами по себе «деревенщики» Мальцева занимали мало: проблематизация идеи наследования ими русской классической литературе была частью с жаром утверждавшегося антисоветского идеологического дискурса, наиболее радикальные выразители которого из эмигрантской среды отсутствие открытой конфронтации с властью считали свидетельством постыдного компромисса. Поэтому страстная инвектива Мальцева по поводу «деревенщиков» – псевдонаследников русской прозы XIX века легко сворачивалась до риторического вопроса: если наиболее талантливые и честные советские авторы без особого успеха тщатся выдать себя за наследников классики, то не является ли это лучшим доказательством полного бессилия советской культуры? Немного позднее, в 1986 году, руководствуясь не столько этико-идеологическим максимализмом, сколько эстетическим антитрадиционализмом, Саша Соколов попытался уязвить «деревенщиков» замечанием о «заскорузлости» реалистического письма и следовании «традиции» Арины Родионовны, но не Пушкина (первая, согласно Соколову, вела к бесконечному тиражированию образа мужика, в то время как вторая могла бы сделать современную русскую прозу частью европейской культуры[622]).
Однако и в среде советских критиков в тот момент, когда «деревенщики», казалось бы, миновали фазу упреков в «ретроградстве» и снискали справедливую репутацию «наследников» классики, раздавались голоса сомневавшихся в продуктивности движения в русле традиционализма. На этот раз нарекания исходили от Александра Проханова, в дальнейшем лидера постсоветских «имперцев». Это обстоятельство заставляет взглянуть на его упреки «деревенщикам» с точки зрения конфликта позднесоветского, в лице «деревенщиков» пассеистического и антимодернистского, национализма и советско-постсоветского, по большей части воинственно модернистского имперского государственничества[623]. Первые тексты Проханова, закрепляющие его в статусе профессионального писателя (рассказ «Свадьба», 1967, повести «Радуйся», «Иду в путь мой», 1971), тематически еще были связаны с модной «национально-традиционалистской» проблематикой второй половины 1960-х[624]. «Психологические открытия» и «экзистенциальные озарения» случались с героем Проханова во время его путешествий по «исконной» России, поездок в деревню, где он слушал песни, общался с «простыми» людьми и пробивался к долгожданному осознанию культурной подлинности и связи времен («Радуйся»). Однако уже в очерках «Неопалимый цвет» (1972), изображавших процессы обновления в деревне, Проханов не смог удержаться от иронии в адрес писателей, которые «балалаечными устами поют <…> грустно-щемящую прощальную песню»[625] в адрес русской печи. В романе «Кочующая роза» (1974–1978) герой с выраженными автобиографическими характеристиками еще более решительно отмежевывался от элегического любования прошлым и в характерной патетически-цветистой манере обосновывал перспективность модернистской позиции:
Нарождается новое слово, новейшее… Новая реальность, из-под праха, из-под всех обветшалых мыслей, из-под всех бурьянов, могил. Я видел сегодня ее рожденье. Эта реальность пустила корень в нефтяные пласты и недра, до самой мантии, магмы. А соцветьем уходит прямо в космос, в кометы, в спектры сияний. Она фантастична, свежа, молода, как бабочка, в радужных отсветах. <…> А те – все назад, назад! Цепляются за предания, за родовую память. Из Рюрика уроки хотят извлечь. На том, не ими нажитом состоянии хотят сегодня разжиться… Я отказался! Пусть они там со своими святынями, древностями, пусть по святцам детей нарекают. Я их люблю по-прежнему. Они нужны как музеи[626].
Через несколько лет, когда Проханов статьей «Метафора современности» открыл дискуссию «Деревенская проза: большаки и проселки» (1979)[627], последние сомнения на счет адресата его романной инвективы развеялись. «Цепляющимися за предания», разумеется, оказались «деревенщики». Характерную для второй половины 1960-х годов риторику обвинений в «отсталости» Проханов через десятилетие реанимировал и пустил по второму кругу, оснастив ее техницистскими обертонами[628]. Он поставил в вину «деревенской прозе» нежелание замечать позитивные сдвиги в области промышленно-технологического развития и прозрачно намекнул на тупиковость тематического и характерологического традиционализма «неопочвенников»:
Может создаться впечатление, что именно боль распада создает ту поэтическую ситуацию, в которой современной нашей культуре хорошо. Она начинает дышать, творить. Возникает литература, «школа». Почему?
Если спросить об этом самих представителей «школы», пусть не учителей, а учеников, то услышишь ряд объяснений. Ну, скажем, таких: путь искусства пролегает через душу, а не через экономику и политику, и главным образом через душу больную, скорбящую, как было всегда в русской литературной традиции. Задача искусства – ловить постоянное, вечное, отыскивать его в сиюминутных случайных явлениях, а именно такими, не выверенными вечностью явлениями выглядят перемены в сегодняшнем селе, и именно такими, вечными, незыблемыми выглядят основы мужицкого самосознания, сохраняемые если не жизнью, то литературой. Русская литература – продолжают нас убеждать – всегда была равнодушна к тому пласту жизни, где зарождалась политическая, государственная идея, а писала «маленького человека»… Много чего еще говорят, объясняя торжество нынешней «деревенской школы» <…> Мне кажется, современная наша культура допускает заведомое сужение кругозора, предвзятость и самоограничение, каноническое пристрастие к определенному человеческому типу[629].
В развернувшейся вслед за статьей Проханова полемике большинство оказалось не на его стороне[630]. У пропагандируемого «деревенщиками» поиска «правды» в глубинах «народной жизни», любования уходящим, этнически и культурно специфичным крестьянским миром, уничтожаемым цивилизационными новшествами, у их эстетизированного пассеизма и ностальгии была обширная группа потребителей-(по)читателей, часть которых искренне полагала, что эскапистское «возвращение к истокам» поможет обрести утраченное в ходе бурных исторических перемен[631]. Технократический модернистский энтузиазм Проханова находился вне пределов социального и культурного опыта такого читателя, соответственно и жанрово-стилевой гибрид (гео)политического и производственного романа с элементами условной поэтики, в создании которого Проханов позднее преуспеет, обретет своего читателя уже в постсоветскую эпоху[632].
В качестве сообщества «деревенщики» отличали себя от конкурирующих групп прокламируемым уважением к авторитету классики, однако поначалу их традиционализм существовал как неясная интенция, лишь постепенно оформляясь в более или менее отрефлексированную позицию, правда, так и необозначившуюся литературным манифестом. Происходило это при деятельном участии правой критики, роль которой в придании «неопочвенническому» классикоцентристскому традиционализму дискурсивной завершенности была огромна. Лидер и теоретик национал-консерваторов В. Кожинов полагал, что с шестидесятнической модой на антитрадиционализм нужно бороться: выросшая из неприятия антикосмополитической кампании конца 1940-х – начала 1950-х годов и насаждавшегося тогда культа русского искусства, она уже привела к «увлечению различными явлениями зарубежных литератур»[633] и демонстративному охлаждению к отечественной традиции. Кожинов цитировал типичные для «оттепельных» умонастроений и саморазоблачительные, с его точки зрения, ответы литераторов на анкету «Молодые о себе» (Вопросы литературы. 1962. № 2): «Не думаю, чтобы писателю была полезна близость с литпредшественниками»[634], или «Русская классическая литература своим величием часто гипнотизирует современного писателя. Опыт же ХХ века давно требует своего языка, способного художественно синтезировать время»[635]. Появление в литературном процессе 1960-х годов писателей, олицетворявших «корневое» начало, нарочито чуждавшихся претензий на выработку нового языка, критиками национально-консервативного крыла было преподнесено как верный признак давно ожидаемой «смены вех»[636], перехода от «прогрессизма» и утопизма к традиционализму и «реставрации» (политически это совпало с кризисом непоследовательных десталинизаторских усилий).
Если маркирующий «долгие 1970-е» дискурс наследования классике рассматривать в аспекте его воздействия на процессы самоидентификации авторов-«неопочвенников», то неизбежно встанет наивный вопрос: как ощущали себя в роли преемников классики художники, полагавшие, что они прорвались к культуре «из низов»? Признание Астафьева: «Меня тоже иногда называют учеником и преемником какого-нибудь классика… Но сам я никогда не осмеливался и не осмелюсь потревожить прах великих писателей…»[637], на мой взгляд, вовсе не проявление деланной скромности, но косвенное свидетельство того, как трудно было освоиться с ролью преемника даже состоявшемуся автору (процитированное признание относится к 1974 году). Думается, присвоенный критикой «деревенщикам» статус наследников стимулировал у них – мучительно боровшегося со своей «непросвещенностью» Астафьева[638] или сетовавшего на пробелы в образовании Василия Белова[639] – серьезные внутренние усилия по самоидентификации «на фоне Пушкина». «За нашей спиной стоит такая блистательная литература, возвышаются горами такие титаны, – уверял Астафьев, – что каждый из нас, прежде чем отнять у них читателя хотя бы на день или час, обязан крепко подумать над тем, какие у него есть на это основания?»[640]
Далее я сосредоточу внимание на образе классики, выстроенном «неопочвенническим» сообществом, и ее роли в формировании коллективной идентичности «деревенщиков». Такой подход оставляет за рамками исследования апробированную отечественным литературоведением проблематику: «традиции Толстого (Пушкина, Гоголя и др.) в творчестве Абрамова (Шукшина, Солоухина и др.)», которая обычно исследовалась компаративистски, в аспекте эволюции поэтики или преемственности «нравственно-философских исканий». Меня же в большей степени будет интересовать, как апелляции к русской классике, истолкование ее «идеологии», мотивов, приемов работали на самолегитимацию «неопочвенников», в чем заключалась специфика рецепции классики XIX века «деревенщиками» (конечно, при условии, что такая специфика вообще существовала). Сначала будет охарактеризована мотивная топика «неопочвеннической» критики и публицистики, сосредоточенных на осмыслении феномена классики и проблеме «преемственности», затем – варианты проблематизации «деревенщиками» опыта классической литературы.
Литературный канон и самолегитимация национально-консервативного сообщества в «долгие 1970-е»
«Деревенщики», на мой взгляд, не создали самостоятельного, легко вычленяемого дискурса о классике. Они много писали о ней, прежде всего в публицистических жанрах, доступные нам дневниковые и эпистолярные материалы также говорят о рефлексии «деревенщиками» как принципов классического письма, так и созданных в XIX веке и по-прежнему активно используемых моделей коммуникации «художник – власть», «художник – общественность». В основном суждения «деревенщиков» о классике варьировали широко распространенные в позднесоветском обществе традиционалистские культурные представления, которые включались в (квази)теоретические конструкции и энергично популяризовались критикой национально-консервативного лагеря. Впрочем, это не было всецело ее прерогативой, поскольку традиционалистское понимание роли классического искусства было, в общем и целом, массовым явлением. В его распространении нужно видеть результат не столько перекрестного влияния разных групп, сколько общности изначальных эпистемологических установок (они предопределили сходное понимание творческого субъекта, произведения, реальности и сферы вымысла, адресата, целей творчества и т. п.). Специфично устроенное позднесоветское литературное пространство также придавало прочность и популярность эстетическому традиционализму. Вместе с тем рассматривать рецепцию «деревенщиками» классики как нечто вторичное не стоит. Практики усвоения ими классического наследия и практики «отстранения» от него несли отпечаток социокультурной специфики данного сообщества, которую необходимо описать.
Выше уже говорилось, что «неопочвенники», в отличие от либерально настроенной интеллигенции и «ортодоксов», борьбу против «посягательств» на русскую классику XIX века – реальных или воображаемых, имевших место в прошлом или прогнозируемых – сделали центральным пунктом своей программы. Задним числом нельзя не отметить продуманности такого шага: поле литературной критики оказалось в позднесоветской культуре едва ли не главной публичной площадкой, где можно было, пусть завуалированно, обнаруживать свои политико-идеологические притязания[641]. Это объясняет, почему национал-консерваторы и сами живо инициировали дискуссии о классическом наследии, и целенаправленно участвовали в дебатах, организуемых периодическими изданиями. Собственный образ классики они отстаивали в полемике с официальным литературоведением, руководствовавшимся принципами марксистско-ленинской эстетики, и сциентистски ориентированной структуралистской научной средой[642], а свои коллективные усилия фокусировали на трансформации закрепленного в советское время литературного канона. Последняя была не только целью, но способом легитимировать новую интеллектуальную группу, хотя, конечно, «неопочвенниками» не осознавалась в инструментальных категориях.
Трансформации отечественного литературного канона в 1960 – 1970-е годы и реинтерпретации русской классики рельефно отразили общие изменения в идеологии и культуре этого периода. С одной стороны, с «оттепельными» практиками расширения канона за счет реабилитации авангардистов Сергея Эйзенштейна, Всеволода Мейерхольда, назначения современных «штатных» новаторов и официальных продолжателей линии Владимира Маяковского было покончено – в подцензурной периодике стали преобладать развенчания модернизма / авангарда (менее агрессивные, чем прежде) и апология реализма (более ритуализованная, чем прежде). И хотя прервать декретированием развитие модернистски-авангардистских явлений и их рефлексию в научно-критической мысли было невозможно, официозные и идеологически ангажированные правыми идеями критики периодически громко сомневались в законности их присутствия в литературном процессе и напоминали об «объективно» существующей иерархии методов и стилей. С другой стороны, привилегированным прочтениям классики в свете высказываний Энгельса, Ленина и революционеров-демократов в позднесоветский период была щедро отдана сфера школьного и вузовского обучения литературе, но вне ее диапазон идеологически допустимых суждений о классике стал более широким (в значительной мере это было заслугой «оттепели», реабилитировавшей многих писателей – эмигрантов первой волны, к примеру, Ивана Бунина и Марину Цветаеву, давшей импульс новым прочтениям классики, в том числе в кинематографе). Контролировавшие культурное поле партийные идеологи делали попытки отодвинуть на периферию генетически связанные с утопиями авангарда идеи и артефакты, демонстрировали приверженность сложившейся в предыдущую эпоху (хотя отнюдь не неизменной) традиции прочтения литературной классики через призму основоположников марксизма-ленинизма, но предпочитали не карать слишком жестко отступления от «стандарта» в трактовках литературных сюжетов. Официальная культурная политика в «долгие 1970-е» становилась более всеядной и давала возможность, при определенной риторической сноровке, узаконить интерес к фигурам и идеям, которые несколько десятилетий назад нещадно критиковались за «ограниченность» и «чуждость». Вариантов гибридных идеологии и стиля в культуре «долгих 1970-х» существовало множество. Фрагмент из статьи «патриотического Талейрана»[643] Феликса Кузнецова в качестве иллюстрации уместен здесь более других лишь в силу близости автора национально-консервативным группам гуманитариев и вытекающего отсюда стремления соединить интерес к «подозрительным» персонажам, вроде Константина Леонтьева и Василия Розанова, с «партийным подходом»:
Мы освоили как наше достояние такие идеологически сложные фигуры прошлого, как Тютчев или Фет; мы пытливо всматриваемся в наследие раннего славянофильства или «почвенничества», в противоречия творчества Аксакова и Киреевского, Самарина и Ап. Григорьева. Наша литературоведческая мысль стремится с социально-классовых позиций разобраться в воззрениях даже таких откровенных идейных недругов революционного, освободительного движения, убежденных противников социализма, как Василий Розанов, Константин Леонтьев, Николай Бердяев. <…> Этот благотворный процесс обогащения культурного наследия сочетается в нашем подходе к ценностям прошлого с утверждением нашего революционного социалистического первородства, принципов партийного, конкретно-исторического подхода к литературному и общественному процессу минувших лет…[644]
Идеологические «игры» с национальным литературным каноном, в которые «неопочвенники» включились весьма активно, использование канона для легитимации текущей культурной политики были распространенной практикой обращения с классическим наследием. Позднесоветская правая интеллигенция могла в этом опираться на опыт канонизации русской классики в XIX столетии[645] и более близкий прецедент – сталинское «воскрешение» классики[646]. Поколению, родившемуся в 1925–1935 годах и составившему ядро национально-консервативного лагеря в 1970-е[647], он был, безусловно, памятен[648].
Весомость своей позиции национально-консервативный лагерь, представленный несколькими яркими фигурами, связанными с академическими институциями, пытался подтвердить, манифестируя приверженность «верным» принципам прочтения русской классики. Заявка на определение таких принципов содержалась в «антиструктуралистских» и «антиформалистских» статьях В. Кожинова и П. Палиевского[649], публиковавшихся в ходе длительных дебатов о структурализме с начала 1960-х до начала 1970-х годов[650]. Питер Сейферт возражения Палиевского против распространения методов «математического» анализа на литературу небезосновательно считает «чистым витализмом»[651], но меня статьи «асфальтовых националистов»[652] больше интересуют с точки зрения трансляции консервативных ценностей на языке литературоведческих категорий. Подводя итог эпизоду «академических войн» в СССР начала 1960-х годов, связанному с институционализацией структурализма, Максим Вальдштейн замечает:
В целом, структуралисты подверглись критике не столько за их не-марксизм, сколько за покушение на установленные дисциплинарные границы и полемику с романтическими и реалистическими принципами, фундировавшими российскую и советскую гуманитаристику (произведение искусства является неповторимым образом, или даже «отражением» реальности в ее «типичных особенностях», оно создается уникальным художественным гением, который, подобно гегелевской «великой личности», может ощутить дух времени и выразить его с помощью своего незаурядного мастерства…)[653]
Эстетику, главные положения которой перечислил Вальдштейн, Палиевский и Кожинов рассматривали как порождение классической (академической) гуманитарной традиции. Предполагалось, что, если очистить ее от налета грубой политической схоластики, она может дать исследователю действенные инструменты анализа. Неудивительно, что Кожинов и Палиевский без крайней нужды не цитируют классиков марксизма-ленинизма, и идеология их статей реконструируется не столько по упомянутым именам «основоположников», сколько по категориальному аппарату. Консервативное неприятие «абстрактного» сциентистского подхода, сосредоточенность на конкретном, холизм, подозрительность к новациям находят здесь выражение в рассуждениях о «произведении» литературы как о «целостном» организме, «враждебном расчленению», несущем «запрограммированное» «саморазвивающейся природой»[654] знание о мире, в антитезах «индивидуальности» и «единичности»[655], интуиции и разума, в утверждении ограниченности формализации и необходимости соблюдать установившееся дисциплинарное деление[656]. Со временем оба литературоведа начнут более прямо выказывать политические подтексты близкой им эссенциалистской «органической» эстетики. В статье «Об эстетике авангардизма в России»(1972) Кожинов, к примеру, будет лукаво уверять, что ОПОЯЗ и ЛЕФ нужно защитить от обвинений в «чуждости» революции: «Участники этих течений не только были “за Октябрь”, но и были убеждены в том, что именно они создают новую, революционную эстетику»[657]. Правда, благонамеренное желание автора восстановить опороченную репутацию «революционеров от искусства» преследовало противоположную цель – скомпрометировать оппонента указанием на его «идейную» связь с «революционаризмом». Если Михаил Лифшиц все-таки разглядел в авангардизме единственное достоинство – разрушение старой России, то Кожинов, отождествляя политическое (революцию) с эстетическим (искусство авангарда), задавал вопрос, ради которого, возможно, и писал свою статью: «…что же именно разрушила подобная эстетика и, кстати, что построила?»[658].
Поскольку классика, по мнению национал-консерваторов, была главной мишенью широко понимаемых «революционеров» – ниспровергателей традиции[659], отстаивать ее неприкосновенность следовало на всех фронтах, в том числе академическом. В своих статьях Кожинов и Палиевский доказывали непригодность формалистско-структуралистского подхода для прочтения классических текстов. Формализация Юрием Тыняновым, Виктором Шкловским, Борисом Эйхенбаумом представлений о традиции и преемственности виделась им глубоко ошибочным шагом. «Абсолютизированный рационализм»[660] формального метода, полагал Кожинов, инороден классическому искусству, ибо исключает из оборота специфичные для последнего категории («мера», «гармония», «снятие противоречий»[661]). ОПОЯЗовские идеи «литературной борьбы», «канонизации» оценивались литературоведом скептически, поскольку их приверженцы игнорировали металитературную категорию «ценности», которая должна предшествовать любому анализу. Развивая идеи П.Н. Медведева (М.М. Бахтина), высказанные в работе «Формальный метод в литературоведении», Кожинов заявлял о подмене опоязовцами сущности предмета анализа: ОПОЯЗ сконцентрировал внимание на проблеме рецепции современниками литературных текстов, на «литературном быте», «автоматизации», «остранении» и стал рассматривать не «историю литературы», а «литературную моду». Но только первой доступно постижение «подлинных ценностей», «художественности», в то время как вторая ограничена областью «социального» – текущего, сиюминутного, иерархически более низкого. Размышлять же о творчестве Пушкина следует, согласно Кожинову, во-первых, как о явлении «истории литературы», во-вторых, исходя из признания его высшей ценностью национальной культуры:
Пушкин «входил» в моду и «выходил» из нее, но для истории литературы в собственном смысле его поэзия никогда не теряла своего живого величия. <…>
Литературу – в отличие от литературной моды – нельзя мерить тем эффектом, который она производит на современников.
В подлинных ее творениях всегда сохраняется объективная художественная ценность, готовая в любой момент ожить для читателей. И именно эта ценность – истинный и главный предмет историко-литературной науки[662].
Взаимосвязи между «ядром» канона – русской классикой и современными традиционалистскими явлениями национал-консерваторы устанавливали по линии «онтологического» и ценностного родства. Но чтобы убедительно «состыковать» классику и современность, то и другое необходимо было описать как порождение национальной традиции в ее «беспримесном» виде, то есть до советско-еврейских «искажений» и «модернистских извращений»[663]. В итоге литературный канон продуманно «десоветизировался» (из него исключались имена советских классиков, например Маяковского или Эдуарда Багрицкого)[664]. Современное авангардистское искусство, скомпрометированное своей «космополитической» стилистикой, также отбраковывалось по причине отсутствия национальных корней. Апогеем стремления национал-консерваторов в условиях цензурных ограничений публично «десоветизировать» и «этнизировать» отечественный литературный канон стала дискуссия «Классика и мы» (1977). Станислав Куняев впоследствии говорил о ее антисемитском посыле, довести который до сведения оппонентов его соратники планировали, обсуждая проблему «традиция и современность»:
Еврейское лобби, чувствуя все нарастающую поддержку «мирового сообщества», наглело все больше и больше[665], поэтому в конце 1977 года, когда Вадим Кожинов позвонил мне и предложил выступить в дискуссии, которая называлась коротко и емко: «Классика и мы», я решил бросить этой мафии в лицо все, что думаю о ней. Спасибо Кожинову, организовавшему наш бунт[666].
Предвосхищая популярные в 1990-е годы рассуждения о русской и русскоязычной литературе, Куняев в выступлении на дискуссии брался доказать неустранимое, так сказать, «врожденное» различие аксиологических систем русской литературы XIX века и поэзии Багрицкого, причисление которого к классикам он трактовал как очередное свидетельство «паразитических» наклонностей нового (в подтексте – еврейского по этнической основе) искусства[667]. Кроме того, в ходе скандальной и, разумеется, не попавшей на страницы советской прессы дискуссии русская классическая литература была последовательно представлена ареной непрекращающейся идеологической борьбы, в которой традиционалистам коварно противодействуют силы, находящиеся внутри страны и за ее пределами. Палиевский, делавший основной доклад, утверждал, что центральной коллизией национальной культуры ХХ века является покушение авангардизма на традицию:
…когда культура находилась в состоянии жесточайшего потрясения (после Октябрьской революции 1917 года. – А.Р.), когда выдающиеся представители этой культуры, будучи выразителями этой народной культуры высоких образцов, не поняли все-таки многое из того, что происходило в стране, и покинули ее пределы, когда в результате, действительно, очень серьезного исторического сдвига культура потерпела просто даже очень серьезный и материальный урон – в этот момент в образовавшееся пространство вошли в качестве активно действующих сил представители левых авангардных течений…[668]
Как уже говорилось, модификация культурного канона традиционалистами была теоретически фундирована, правда, не столько формулированием новых аналитических принципов, сколько критикой подхода оппонентов. Наибольшую подозрительность и соответственно шквал критических замечаний вызывала, в частности, операция «интерпретации». В глазах интеллектуалов национально-консервативного толка это «крайне сомнительное»[669] искусство было ни чем иным, как продуктом «международного авангардизма» и антиподом традиции[670]. Порожденная современной культурой, интерпретация казалась выражением ее субъективизма, шаткости иерархических принципов и проницаемости границ, произвола сосредоточенной лишь на себе самой нарциссической индивидуальности творца. В созданных авангардистами и их последователями полемических интерпретациях классики Палиевский и Кожинов, Лобанов и Селезнев усматривали не только свидетельство паразитирования на традиции («…Мейерхольд не нужен Булгакову, зато Булгаков очень нужен Мейерхольду»[671]), но нечто более серьезное – намерение разрушить мировоззренческие основания национальной культуры. Шквал «ревизионистских» прочтений классики (в литературоведении, театре, кинематографе), по их мнению, был свидетельством активизации идейного противника и приравнивался к идеологической диверсии. Отсюда миссия традиционалистов – оборонять классическое наследие от новоявленных «интерпретаторов»[672]. Для этого, утверждал в ходе дискуссии «Классика и мы» Селезнев, неприемлемым интерпретативным схемам нужно противопоставить иные, адекватно трактующие классическое наследие:
Можно ли и нужно ли интерпретировать сегодня классику? Безусловно, и можно, и нужно, и даже необходимо. <…> для того, чтобы мы сегодня забыли об этих временах («авангардистского погрома классики». – А.Р.), нужны были другие интерпретации и нужен был не мир с этими интерпретациями, а война, и война не на жизнь, а на смерть[673].
Если восстанавливать логику Селезнева, верная интерпретация возникает, когда в процессе анализа код интерпретатора совпадает с кодом автора интерпретируемого текста. В подобных ситуациях понятие «интерпретация» освобождается от унаследованных от авангардизма негативных родовых черт. Однако, замечает А. Компаньон, такой подход, по сути, снимает вопрос об интерпретации, ибо он тавтологичен: если мы знаем или можем узнать, что хотел сказать автор, если смысл текста приблизительно равен авторской интенции, то незачем и истолковывать текст[674]. Тем не менее, именно устранение авторской интенции приверженцами «интерпретации» более всего возмущало интеллектуалов-традиционалистов[675]. Они полагали, что в подобных случаях происходит недопустимая подмена, и авторская интенция замещается какой-либо иной – интенцией читателя, интерпретатора, что ставит под вопрос сложившиеся, образующие «традицию», схемы рецепции классических текстов.
Установив на какое-то время контроль над издательской политикой серии «Жизнь замечательных людей», национал-консерваторам удалось ознакомить читательскую аудиторию с восстанавливающими «истинное значение классики» интерпретациями. В серии «ЖЗЛ» на рубеже 1970 – 1980-х годов вышли работы Юрия Лощица об И.А. Гончарове, М. Лобанова об А.Н. Островском, Ю. Селезнева о Ф.М. Достоевском[676]. В этих книгах со всей очевидностью просматривалась единая идеологическая ориентированность авторов, та самая «тенденция», возникновение которой насторожило партийно-бюрократические структуры. Новые романизированные биографии русских классиков были нацелены на ретроспективную легитимацию национально-консервативной традиции и притязаний ее сторонников: в широкий обиход, учитывая массовый характер издания, вводился ряд знаковых для русских консерваторов имен (например, Михаил Погодин, Аполлон Григорьев и др.), ставился под сомнение авторитет революционеров-демократов[677], скомпрометировавших себя политическим радикализмом, читатели приобщались к консервативному видению основных идеологических коллизий XIX века, главными выразителями национальной идентичности становились исторические персонажи с государственно-патриотическими настроениями, абсолютизировался «антибуржуазный» и «антилиберальный» настрой русской классики и, наконец, консервативный опыт применялся к оценке современных процессов. Официальные идеологические инстанции небезосновательно усмотрели в книгах Селезнева, Лобанова, Лощица нарушение интерпретативных схем, основанных на суждениях предтеч марксистско-ленинской эстетики – Белинского и Добролюбова, и отреагировали официальным разбирательством[678].
Топика преемственности
Реинтерпретированная национал-консерваторами русская классика, в которой всячески акцентировалась «антибуржуазная» (читай – антимодернистская) доминанта, нуждалась в наследниках – настороженность по отношению к социальным и культурным инновациям, фрустрацию переменами необходимо было интегрировать в «созданную для себя традицию»[679] и тем самым узаконить. Для выстраивания дискурса преемственности между русской классической литературой и «деревенской прозой» образ наследников следовало дописать в нужном идеологическом ключе: акцентировать их причастность национальной культуре, близость к «истокам» и «народу», традиционализм и антимодернизм. Проза «деревенщиков» и репрезентируемое ими представление о писателе – «совести нации», отвечающем на острые духовные запросы общества, интерпретировались национально-консервативной критикой как доказательство «животворности» традиции и обоснование первенства тех, кто ее чтит. «Деревенщики» же, вступая в отношения риторического взаимообмена, в критических и публицистических статьях интеллектуалов национально-консервативного толка находили формулы самоопознания, которые, впрочем, не торопились принимать на веру. Ниже рассматриваются структурные дихотомии, характерные для «неопочвеннического» дискурса о классике и современности. Они вычленены на материале критико-публицистических статей, эссеистики и эпистолярия представителей данного направления – писателей, литературоведов, критиков. «Деревенщики», таким образом, оказываются и трансляторами этого дискурса, и культурным «материалом» для его формирования.
Наиболее точно и сжато представление национально-консервативной среды о русской классике сформулировал П. Палиевский, который в дискуссии «Классика и мы» назвал ее «народной культурой высоких образцов»[680]. Дефиниция, снимающая антитезу «высокого» и «низкого» (точнее, «низового»), имплицитно заключала в себе представление о классике как об искусстве, направленном «вверх», эталонном, но вместе с тем укорененном в «почве» и адресованном народу. В соединении с непременными констатациями «объемности» и «глубины» классики перед нами – модель литературной системы почти тотального характера, самоценной, замещающей собой всё и вся[681]. В видении классики как «всеохватывающего» искусства нет ничего нового: приписывание социально-интегративных функций сопровождало ее становление в качестве культурного института[682]. Практически нормативным стало понимание классики, согласно которому она – «совершенное», не знающее спецификации читательских групп искусство. «С каких это пор настоящему, подлинному искусству стало не все равно, кто сидит в зале, профессор ли киноведения или колхозный механизатор?»[683] – задавал риторический вопрос В. Белов. Такое искусство мыслилось обращенным к «совершенному» же читателю – «народу», конструкту идеальной целостности.
Созданный «неопочвенниками» образ русской классики с той или иной степенью изощренности также варьировал идеи ее консолидирующего воздействия. Рассматривая эстетику – поэтику – стиль классических, прежде всего пушкинских, произведений, литературоведы национально-консервативного плана обращали внимание на традиционные параметры классичности – «целостность», «гармонию», «органичность»: «пушкинское начало – явление целостное, проявляющее себя в самых казалось бы несовместимых стилевых планах…»[684]; пушкинский метод – «стиль объединения противоположностей…»[685] Суждениям эстетического порядка легко отыскиваются структурные эквиваленты из области идеологии, более того, эстетическое является проекцией идеологического, и наоборот. Например, пушкинская «гармония», умение «объединять противоположности», согласно Палиевскому, есть следствие намерения поэта «обобщить» русскую историю, а это в свою очередь делает его «началом национального самосознания»[686]. Стилевые «целостность» и «гармония» как бы предвосхищают социальные функции символического «собирания», «объединения», продуктом которых оказывается «народ» («нация»). Абсолютизированную идею символического «собирания» содержит и набросок статьи Федора Абрамова о Пушкине:
1. Объединяющее значение Пушкина для русской нации. <…>
2. В Пушкине – и поэзия, и проза. <…>
3. Пушкин – поэт всех возрастов, всех поколений, всех народов. <…>
4. Размежевание литературы на группы, на кружки, на течения… Акмеизм, имажинизм, нынешняя чересполосица… Как все это мелко, когда мы вспоминаем о Пушкине!
5. Пушкин – консолидатор, великий объединитель[687].
Пушкину, продолжает Абрамов, как никому свойственно «единство… национального и государственного мировосприятия, которое было утрачено в последующем развитии русской истории и литературы»[688]. Если метафорика «трансцендентной целостности»[689], согласно Ф. Кермоуду, цементирует представления об империи и ее искусстве – классике, то характерная для Абрамова идея «имперского», или «государственнического», характера классического искусства возникает вполне ожидаемо. Классика сама по себе становится символическим нацие– и государствообразующим фактором:
Пушкин задал направление всей русской поэзии, сердцевиной которого является государственность (даже не национальность), или, иными словами, патриотизм в высшей форме его проявления[690].
У «деревенщиков», находившихся между «народной массой» и образованным слоем, был глубоко личный интерес к идее культурной «цельности», соединению «народного», «почвенного» и культурно-рафинированного. Тот же Абрамов пристрастно наблюдал за попытками разрешить – в рамках индивидуальных биографических проектов – конфликт различных социальных и культурных традиций. Идеальное совмещение взаимоисключающих начал он видел в аристократе Льве Толстом, вернувшемся к «естественности мужика, естественного человека»[691], и в современном классике Александре Твардовском, «в котором, может быть, впервые в нашей литературе объединились почвенничество и интеллигентность… крестьянин и интеллигент»[692]. Напротив, человеческим и художническим поражением он считал писательское развитие Михаила Шолохова, который, с его точки зрения, не сумел интериоризвать присущий интеллигенции взгляд на мир[693]. Мифологизированное соединение противоположностей («почвенничество и интеллигентность») поддерживало романтический образ гения, рожденного народом и народу равного: гений – это «нация в одном человеке»[694]. Нация же в свою очередь уподоблялась Абрамовым «патриархальной семье» без социальных перегородок, где «просвещенное дворянство и народ <…> слиты воедино»[695].
Возникновение «народности» среди обязательных свойств подлинно классического искусства обусловливалось все той же способностью классики к символической интеграции сообщества. Настойчивое напоминание о «народности» Пушкина, Лермонтова, Тургенева или Достоевского в позднесоветской газетно-журнальной периодике легко счесть штампом, однако для некоторых «неопочвенников» это понятие сохраняло эвристичность, ныне трудноразличимую из-за ритуализованности использования этого слова. Будучи атрибутом консолидирующей «народ» классики и наследующей ей литературы, «народность» виделась альтернативой современным процессам социокультурной фрагментации. Отсюда использование «деревенщиками» «народности» в полемических антимодернизационных контекстах. Среди авторов-«неопочвенников» о «народности» русской классики с наибольшим энтузиазмом писал Владимир Солоухин. Его националистические и антикоммунистические взгляды отличались последовательностью, как, впрочем, и политические коннотации «народности» в его публицистике. Однако среагировать на них мог далеко не каждый читатель: поскольку полноценное развертывание националистического дискурса в условиях позднесоветской цензуры было невозможным, он воспроизводился писателем отрывочно, с опущенными логическими звеньями. Соответственно прозрачный для автора культурно-политический контекст, в который он помещал «народность» русских классиков, был непрозрачен для реципиента. Солоухин раз за разом повторял:
…Пушкин был народен в самом глубоком и всеобъемлющем значении этого слова. Народ <…> есть единый, общественный, исторический, духовный организм, и пример Пушкина это как нельзя лучше доказывает[696];
Когда вспоминаешь все написанное Тургеневым… приходит крайне необходимая мысль о целостности и цельности народа как единого и в конечном счете нерасторжимого организма[697];
Лермонтов был глубоко народен уже в самых ранних проявлениях своего гения[698], –
но реконструировать стоящую за этими утверждениями антитезу «народности» и «размывания народа», которого добивается мировое еврейство[699], мог только читатель, осведомленный в идеологии национализма. Для Солоухина же, мыслящего биологическими метафорами, «народность» классики знаменовала «целостность» национального организма, работу инстинкта самосохранения, отторгающего все, что может угрожать единству.
Интенсивная эксплуатация национально-консервативной критикой 1970-х тех смыслов классики, которые были связаны с семантикой «целого», «общезначимого», «объединяющего», позволяла успешно критиковать изменения в структуре культурного пространства. «Неопочвенников» беспокоило обособление от «ствола» национальной культуры массовой и элитарной культур, чья «ничтожность» явственно обнажалась контрастом с классическим искусством. «…Неуютно псевдокультуре рядом с классикой, – объяснял Ст. Куняев смысл подобных сопоставлений, – все комплексы неполноценности и самозванства выпирают наружу…»[700]. Национал-консерваторы были убеждены, что массовая и элитарная культуры являются побочным эффектом выхода на историческую сцену «просвещенного мещанства»[701] – «безнациональных», претендующих на интеллектуальность групп, заявивших о себе в ходе урбанистической и образовательной революций. М. Лобанов утверждал, что «просвещенное мещанство» в своих культурных пристрастиях движимо сиюминутной конъюнктурой, модой и, в конечном итоге, ложными ценностями, которые агрессивно навязывает окружающим. Ценностная и эстетическая антитеза псевдокультуре, создаваемой «просвещенным мещанством», – русская классическая литература, требующая для своего постижения глубины и способности возвышаться над повседневным, – превращалась в средоточие «антимещанского» пафоса, о чем, например, в не характерной для него патетической манере писал Василий Шукшин:
Как же мы должны быть благодарны им – всей силой души, по-сыновьи, как дороги они всякому живому сердцу, эти наши титаны-классики. Какой головокружительной, опасной кручей шли они. И вся жизнь их – путь в неведомое. И постоянная отчаянная борьба с могучим гадом – мещанином. Как нужны они, мощные, мудрые, добрые, озабоченные судьбой народа, – Пушкин, Толстой, Гоголь, Достоевский, Чехов… Стоит только забыть их, обыватель тут как тут. О, тогда он наведет порядок! Это будет еще «то» искусство! Вы будете плакать в зале, сморкаться в платочек, но… в конце счастливо улыбнетесь, утрете слезки, легко вздохнете и пойдете искать автора – пожать руку. Где он, этот чародей? Где этот душка! Как хорошо-то было! Мы все переволновались, мы уж думали… Но тут встает классик – как тень отца Гамлета, – не дает обывателю пройти к автору. И они начинают бороться. И нелегкая это борьба. Обыватель жалуется. Автор тоже жалуется. Администрация жалуется. Все жалуются. Негодуют. Один классик стоит на своем: не пущу! Не дам. Будь человеком[702].
Риторика Шукшина в данном случае предполагает, что он по-настоящему понимает классику и, как «приобщенный», «просвещенный», располагающий определенным культурным «багажом», с позиции интеллигента имеет право, апеллируя к авторитету воображаемого классика, требовать от обывателя большей серьезности, глубины, ответственности в процессе превращения все в того же интеллигента. По сути, Шукшину, как и другим «деревенщикам», хотелось, отстраняясь от условного обывателя и интеллектуала, персонифицировавших соответственно «массовость» и «элитарность», идти «третьим путем», который был давно известен и ассоциировался с опытом охватывающей всё и всех классики.
Изменение приоритетов внутри сложившейся иерархии разных видов искусств (тут один из важных симптомов – экспансия кинематографа, давшая о себе знать в «буме» экранизаций классики[703]), с точки зрения национально-консервативной критики, было детерминировано вкусовыми предпочтениями нового массового зрителя. Последний, как им казалось, утрачивал культуротворческий инстинкт, но с умножившейся силой жаждал развлечений[704]. Подобная демократизация вкусов претила традиционалистам не меньше, чем элитаризм. Экранизированная, освоенная и «присвоенная» кинематографом, «омассовленная» доселе невиданным способом[705] классика в новом визуальном варианте казалась им упрощенной и опошленной. Правда, спектр мнений относительно феномена экранизации в традиционалистски ориентированной среде был довольно широк. Крайнюю позицию в дебатах об экранизации занимал, к примеру, связанный с либеральными «Вопросами литературы» критик Серго Ломинадзе. Во время дискуссии «Классика и мы» он, к удивлению правых[706], объединился с ними в принципиальном вопросе – негативном отношении к интерпретации – и стал доказывать невозможность найти визуальный эквивалент литературному образу[707]. В среде последовательных «неопочвенников» также были фигуры (например, В. Белов), не допускавшие компромисса: перевод литературы на язык кинематографа сопряжен с нарушением установленных жанрово-видовых границ и потому эстетически ущербен[708]. Однако в «неопочвеннических» кругах высказывались и менее «фундаменталистские» идеи: прекрасно знавший природу кино– и литературного образа В. Шукшин считал необходимым создавать «кинолитературу», которая могла бы гарантировать «неприкосновенность» классическому литературному первоисточнику и одновременно открыть возможности развитию кинематографа:
Кино поистине восьмое чудо света, не надо только ему гоняться за литературой. Тем скорее оно обретет свою литературу, не будет на плоский экран проецировать объемные фигуры, созданные магией слова[709].
В. Кожинов полагал, что качественные экранизации классики возможны при условии, что их авторам удастся избежать искушения «массовостью» и «элитаризмом». В его понимании, хорошая экранизация должна сохранить качество «народности» классического оригинала, то есть стать визуальным аналогом «больших нарративов», сложившихся некогда в литературе[710].
В кино– и театральных постановках, то есть в ситуации «межсемиотического перевода» (Р. Якобсон), когда режиссер трансформирует литературный первоисточник относительно языка другого искусства и другой системы «автор» – «реципиент», «посредничество» интерпретатора, заново истолковывающего классическое произведение, наиболее очевидно и наиболее уязвимо. Неудивительно, что традиционалистская критическая мысль постоянно возвращалась к критериям «идеальной» сценической интерпретации (либо экранизации) классического наследия[711]. У противников экспериментального «перечитывания» концепция «режиссерского театра» и авторы полемических трактовок классики часто представали в ироническом освещении: интерпретатор, уверенный, что его прочтение извлекает классику из «хрестоматийного небытия»[712], оказывался пародией на подлинного творца. И тут опять идеологически противостоявшие друг другу критики сходились в неприятии «посредничества»: С. Ломинадзе упрекал Юрия Любимова в том, что того мучит «комплекс демиурга»[713], а гротескная фигура режиссера-«соавтора», за которой легко угадывался Вс. Мейерхольд, в написанной М. Лобановым биографии А.Н. Островского примечательно наделялась чертами мелкого беса[714]. Упреки методологического и этического плана в адрес режиссеров-«посредников», как правило, сводились к одному – искажению первоначального авторского замысла, «вчитыванию» в первоисточник значений, автором не предусмотренных. Во время дискуссии «Классика и мы» состоялся примечательный обмен репликами между Анатолием Эфросом и аудиторией:
А. Эфрос: А я часто думаю: я не видел «Леса» Мейерхольда. И я не сторонник, между прочим, такой режиссуры, такого интерпретаторства. Но я часто думаю – скажите, пожалуйста, а вот Островский, который у нас совершенно не ставится, почти совершенно не ставится, а если ставится, не имеет никакого резонанса или почти никакого резонанса?! Так, может быть, лучше «Лес»?! Ведь он же даст пищу целым годам вперед?!
(С места: А может быть, «Лес» Островского?! (выделено в тексте стенограммы. – А.Р.))
Слушайте, вы тогда не знаете, что такое театральное искусство!
Если вы говорите «Лес» Островского – «Лес» Островского лежит на полке! Вы его можете прочесть! Кроме того, если тут утверждается, что классик живой, то он дышит, он живет, он с вами разговаривает! С вами лично!!!
С. Ломинадзе: Правильно, но зачем посредничество?
А. Эфрос: Без посредничества сидите дома и читайте![715]
Любопытно, что традиционалистская рефлексия проблем «перевода» литературного произведения на язык другого вида искусства осуществлялась опять же через обыгрывание семантики «целостности». Говорилось, что главный «принцип» произведения – «целостность»[716] – разрушается, когда интерпретирующей инстанцией игнорируется единство «формы и содержания», неповторимость авторской индивидуальности. Разрушение классических представлений о феноменологии «произведения», по мнению либерала-традиционалиста Ломинадзе, является грозным симптомом грядущего «размыкания звена культурной традиции»[717]. «Классическое произведение, веками представлявшееся венцом писательского труда, все очевиднее наделяется презумпцией незавершенности (курсив автора. – А.Р.)»[718] – возмущался он. Национал-консерваторы, в отличие от коллег, сочетавших интеллигентскую либеральность с теоретико-эстетическим традиционализмом, целенаправленно пытались устранять эти «разрывы» на уровне дискурса и последовательно конструировать «традицию», вбиравшую все ценное (с их точки зрения) из современной литературы.
Теоретические тонкости, проблематизировавшие феномен новых прочтений классики в кино и театре, писателям-«деревенщикам» были, видимо, малоинтересны. Рассуждая о ее экранизациях и новых театральных постановках, они обычно руководствовались непосредственным читательским и зрительским опытом, хотя концептуализация этого опыта основывалась на единых для традиционализма постулатах «целостности» произведения и привилегированности авторского замысла по отношению к читательской рецепции. В. Астафьеву, например, «переделка» классического текста казалась допустимой, если режиссер не претендовал «переоткрыть» классика или стать конгениальным ему. В этом случае вполне приемлемыми были модификации и жанра, и стилистики. Астафьев вспоминал, как смотрел в Варшаве «Месяц в деревне» И. Тургенева и «капустник» по В. Шекспиру. Вольное переиначивание пьес английского драматурга его нисколько не смутило, поскольку задумывалось как «потеха, забава, не претендующая на обобщения и глобальность»[719]. Он пояснял свою позицию знакомому театральному критику:
Одно дело, когда делается «по поводу» и совсем другое, когда «всерьез» осовременивают, кастрируют, переосмысливают того же Шекспира, Пушкина, Толстого, Достоевского, Чехова. Даже дописывают за них! Это уже, простите, наглость самозванцев, именующих себя новаторами![720]
С. Залыгин также считал, что есть «честные приемы»[721] «использования» классического наследия, отличающиеся от «пресловутого и прямо-таки вошедшего в моду “перечитывания“ классики»[722]. К «честным приемам» он относил введение в число действующих лиц современной пьесы классического персонажа, ибо – «герои классических произведений вечно живут среди нас»[723]. В общем, о полном отрицании «деревенщиками» любых новаций в работе с классикой речи не идет. Другое дело, что принять новацию они были готовы в определенной форме – адаптированную к реалистическому типу образности, пропущенную через фильтр традиции[724], утратившую явные следы индивидуально-субъективного опыта и потому на выходе нередко обретавшую «дидактический» характер (как в случае с «честными» приемами Залыгина). Тем не менее, скепсис по поводу «перечитывания» классики на новый манер, продиктованный пиететом перед биографической личностью классика и символическим статусом творца, был у «деревенщиков» силен. В принципе, их отношение к наследию можно назвать квазирелигиозным[725]: за техническими новациями, вроде игры с культурными кодами или демонтажом прежних контекстов, им виделось «осквернение святыни», и об этом они выносили суждения этического порядка:
…вся вообще классика – это личности их создателей, единственные и неповторимые, их можно и должно изучать, в них можно и должно вчитываться, но «перечитывать» их на свой собственный голос, на свой вкус и ум, да еще сокращать, да еще дополнять, а потом преподносить это «прочтение» как собственное творчество и достижение – нельзя, это уже не искусство, а скорее всего антиискусство.
Перечитывать таким образом Толстого имел право и мог сам Толстой, он это и делал, а нам опять-таки достается вчитывание в его собственное перечитывание[726].
Признание классики сакральной ценностью предполагалось общекультурным регламентом ее восприятия, хотя здесь, вероятно, давал о себе знать и характер приобщения некоторых «деревенщиков» к культуре[727]. Социальное функционирование классической литературы, как известно, подчинено двум различным режимам – она является частью школьного образования, знакомство с ней определяет базовый уровень образовательных компетенций, но одновременно она символизирует высшие достижения национальной культуры и обладает практически сакральным статусом. «Деревенщики», лишенные возможности получить вовремя нормальное образование, приобщались к классике путем самообразования, в том числе посредством «проработки» канонизированных авторов. «Белов – сегодня, безусловно, один из наиболее образованных и культурных писателей»[728], – утверждал впоследствии Ю. Селезнев и ссылался на наличие у писателя огромной библиотеки, где находятся «не просто прочитанные, но проработанные тома классиков отечественной и мировой литературы…»[729]. По логике критика, погружение в мировую классику в каком-то смысле вывело Белова из прежней, предзаданной социальной биографией сетки координат, и поместило его на новый уровень – подлинного продолжателя классической традиции. Лапидарное определение Белова содержало аллюзии к знаменитой гоголевской фразе о Пушкине: «Да, Белов – это русский крестьянин, но – в его возможностях, в его развитии»[730].
«Проработка» классических текстов по внешним признакам могла напоминать «учебу у классиков» в 1920-е – начале 1930-х годов с тем существенным отличием, что «деревенщики» поставили перед собой цель «вживания» в наследие, а не усвоения суммы технических приемов. Демонстративное знакомство с классикой на уровне обязательных цитат они по умолчанию полагали уделом урбанизированного читателя-мещанина, жаждущего самоутвердиться в роли культурного человека, а высокомерно-развязное отношение к ней – отталкивающей чертой современного интеллектуала. Идеалом им представлялась интериоризация опыта классического искусства, влекущая за собой преобразование личности. Потому грозившие деформацией основ профессиональной идентичности слишком явный прагматизм в отношении к классике или отношение к ней как к одному из элементов культуры их не устраивали.
Поворот к классике и традиции в «долгие 1970-е» сопровождался полномасштабной апологией реализма. Еще с начала 1960-х годов реалистическому искусству оказывалась долговременная пропагандистская и институциональная поддержка, но, даже несмотря на это, его исключительные права приходилось отстаивать – причина не только в конкуренции с литературными явлениями модернистского генезиса[731], но в глобальной трансформации самого реализма. Публикация книги Роже Гароди «Реализм без берегов» (1966) и официальный отпор ее автору-«ренегату», словно сходящие с конвейера работы официозных литературоведов[732] о соцреализме, состоявшие по большей части из анализа произведений Маяковского, Шолохова и опровержения «домыслов» противников главного метода советской литературы, свидетельствовали, что при помощи термина «реализм» все сложнее было схватить многообразие современных художественных практик, номинально развивавшихся в реалистическом русле. Реалистическая система претерпевала процессы внутренней дифференциации и требовала спецификации языка описания. Такая спецификация в критике и литературоведении «долгих 1970-х» шла, но осторожно, в границах дозволенного, без решительного отказа от термина «социалистический реализм». «Апофеозом расширения границ», по наблюдениям Марка Липовецкого и Михаила Берга, стала книга Дмитрия Маркова «Проблемы теории социалистического реализма» (1975), в которой автор провозгласил соцреализм «исторически открытой системой художественных форм»[733] и тем самым, с поощрения высших политических инстанций, «“впустил” в соцреализм эстетику модернизма»[734]. Тем не менее, в сложившуюся практику использования термина «реализм», маркировавшего круг идеологически и эстетически приемлемых явлений, каких бы то ни было уточнений (кроме традиционных «социалистический», «критический», а также спорадических упоминаний о возможном дозированном присутствии мифологических элементов) внесено не было. Диффузный в смысловом отношении термин был даже удобен возможностью, актуализируя разные смысловые ряды, вписывать его в различные дискурсивные образования и не нарушать при этом сложившихся конвенций.
Советская критика, особенно ее национально-консервативное крыло, с энтузиазмом приняла «конститутивные черты реализма» за «самоочевидную меру классичности»[735]. В работах теоретиков национально-консервативного лагеря Палиевского и Кожинова формулировалась концепция, позволявшая утвердить первенство реализма в русской литературе[736]. Конечно, взгляды этих ученых не стоит упрощать: от пропагандистских «прописей» о торжестве реализма они – в плане научной аргументации и риторики – были далеки. Тот же Кожинов обосновывал отсутствие эвристического потенциала у общепринятого термина «критический реализм», предлагая пользоваться определениями «ренессансный», «просветительский», рассуждал о сосуществовании и взаимодействии в русской литературе XIX века принципов барокко, реализма, романтизма. Но обычно дифференцированное и объемное видение литературного процесса распространялось на исторически отдаленные периоды, концептуализация же современной литературы осуществлялась через призму противостояния реалистических и модернистски-авангардистских течений. И тут традиционалистам было важно доказать «онтологическую» приоритетность реализма – его способность с минимальными искажениями объективировать в художественном образе сущность бытия – то есть преподнести реализм в качестве искусства, консервативного по природе, чуждого притязаний на перемоделирование мира. Признание безусловных преимуществ реализма само по себе – характерно консервативный жест, поскольку для консервативного мышления мир изначально заключает в себе бесконечную множественность смыслов, и стремление авангардистов приписать ему новые, «авторские» смыслы выглядит неоправданной самоуверенностью. Реалистический образ, в котором онтологическое и гносеологическое находятся в балансе, противопоставляется образу авангардистскому, основанному на «волюнтаристской» деформации действительности. Такой ход рассуждений облегчал сближение реализма в традиционалистском дискурсе с антиутопизмом. В их отождествлении, популярном, кстати, у разделявших некоторые традиционалистские установки интеллектуалов, выразился осознававшийся многими кризис рационалистического социального проектирования. Неудивительно, что на идею «онтологичности» реализма мы можем натолкнуться в работах философа и социолога Юрия Давыдова, организационно к национально-консервативному лагерю никакого отношения не имевшего. Тем не менее, его рассуждения о том, что культура ХХ века определяется парадигматическим противостоянием «утопии» и «реализма», на специфическом для советской философии культуры языке варьировали аргументы, актуальные для «неопочвеннического» «оправдания» реализма. Давыдов утверждал, что в современной культуре легко просматриваются два подхода: в рамках первого литературный процесс все больше уподобляется «литературному производству», в рамках второго (представленного, среди прочих, «деревенщиками») искусство развивается в ориентации на «изначальные структуры человеческого бытия и межличностного общения»[737].
Речь идет о подходе, который предполагает высокую степень уважения к тому, что есть, что остается пребывающим (теперь в этом случае принято говорить об «инварианте») в человеческом бытии и постигается не в меру нашей способности того, как оно поддается нашей переработке, нашему «перекомбинированию», не говоря уже о воссоздании по новой «идеальной», модели (она же – утопия)…
Этот подход и является реалистическим в самом широком смысле, восходя к «мимесису» Аристотеля, если понимать под ним подражание космосу… Этот смысл понятия «реализм» изначально противостоял – и противостоит! – плоско-позитивистскому толкованию, для которого реальным является только то, что мы можем пощупать, попробовать на вкус, зафиксировать как «эмпирический факт»… Такой реализм неизменно противился суетливому и тщеславном устремлению перекраивать реальность (саму реальность, то есть, если иметь в виду собственно человеческую реальность, условия возможности существования человека как человека), торопясь навязать ей очередную скороспелую «схему», «безумную идею» и пр. <…> Этот реализм одинаково присущ и реалистическому направлению в литературе и искусстве ХХ века, и соответствующему направлению в литературоведении и теории литературы. Однако нельзя не видеть и того, что в наш век этот – подлинный, а не плоско-позитивистский, и превращенный в лубочную картинку – реализм был самым серьезным образом потеснен литературно-художественными (и, соответственно, теоретическими) направлениями, которые, апеллируя к «современной науке», противопоставляли реальности сущей и пребывающей реальность конструируемую и «построяемую»[738].
Главные представители «классического» реализма в позднесоветской прозе – «деревенщики» тоже были склонны понимать реализм как мировоззрение и своеобразную художественную оптику, позволявшую «воспроизводить» мир с минимальными искажениями, неизбежными в текстах с высокой долей «литературности». Никто из них не пытался теоретизировать по поводу реализма, и в их публицистике примечательно преобладали определения объекта споров либо «от противного» (это не примитивное жизнеподобное искусство, это не натурализм, это не бытописательство и т. п.), либо – «в самом широком смысле». Предельно широкую дефиницию реализма в интервью с португальским писателем Марио Вентурой давал С. Залыгин. Аккуратно следуя штампам советской публицистики, он делал реализм вариантом логоцентризма, оттесняя вопрос о поэтике, в которую облекается логоцентристское мироощущение, на второй план:
…реализм нашего времени – это прежде всего подлинная необходимость той идеи, которую раскрывает писатель, четкость его гражданской позиции, социального взгляда и мышления. Средства же художнические могут быть разные[739].
Не смущаясь тавтологичностью подобного определения, можно сказать, что для Залыгина и многих его коллег по «деревенской» школе в реализме первичной была «реалистическая» установка по отношению к действительности. Наличие «антиутопических» смыслов в трактовке Залыгиным реализма тоже принципиально. Другое дело, что обнаруживал их писатель, выстраивая головокружительные риторические конструкции, которые позволяли ему сказать желаемое, но не впасть в крамолу. Например, в речи Залыгина на VIII съезде советских писателей (1986) критика капитализма за недостаток реализма, выражение почтения к русской классике – «неприступному острову в море антиреализма»[740] и рассуждения о природе, в которой много «социализма» и «реализма», в конечном итоге трансформировались в доказательства научно-экономической несостоятельности проекта переброски северных рек, совершенно «нереалистического» по своей сути. Залыгин часто допускал намеренную и концептуально важную для него неточность, взаимно заменяя слова «реальный» и «реалистический» и освобождая понятие «реализм» от напрашивающихся ассоциаций исключительно с «художественным методом»:
…возможности нашего дальнейшего существования на земле – это возможности реалистического мышления и действенной практики, и вот уже реализм перестает быть только «течением» или «направлением» искусства, а становится единственно возможным средством обеспечения будущего. Ведь именно недостаток реализма – в оценке положения человечества в этом мире, в оценке всех явлений цивилизации – привел нас к нынешнему, крайне опасному для человека и человечества положению.
Фантазией, изыском и модерном, сюрреализмом и даже неореализмом тут дела не решишь – если кто и поможет, так только старый, добрый классический реализм. А ведь он-то сейчас и находится в наибольшем дефиците.
Мир может быть разрушен, потому что он реален, что реальны средства, ядерные и иные, его уничтожения. Значит, и спасен он может быть только средствами реальными и реалистическими[741].
Еще одним достоинством реалистического типа образности критики национально-консервативного толка считали ее «натуральность», «родственность» явлениям естественно-природного порядка. У «деревенщиков» эта идея также нашла горячий отклик. Через параллели с природными закономерностями В. Солоухин раскрывал суть классики и современного искусства. Абстракционизм и натурализм, пояснял он, следуют законам уничтожения или омертвения материи в самом прямом, естественнонаучном, физическом смысле. Они знаменуют собой
две критические точки, на которых кончается жизнь: точку замерзания и точку кипения, когда предмет либо окаменевает, либо испаряется, теряя форму. <…>
Истинная, теплая, полнокровная, живая жизнь (ей соответствует классика. – А.Р.) находится не в точке замерзания и не в точке кипения, но где-то посередине шкалы[742].
Если под литературностью понимать «сделанность», «технологичность», то выходило, что реалистические принципы «не-литературны», «органичны». Соответственно национальная литературная традиция, воплотившаяся в русской классике и ею завещанная современности, реконструировалась в аспекте «содержания», «нравственного посыла» – важно что, а не как. Выступая в дискуссии «Классика и мы», М. Лобанов доказывал:
…русская литература, поглощенная прежде всего тем, ч т о сказать, а не к а к (разрядка в тексте стенограммы. – А.Р.) сказать, и дала образцы непревзойденного искусства. После русской литературы девятнадцатого века с ее внутренним содержанием <…> изжила себя всякая литературность…[743]
Мысль об «органичности» реалистического письма особенно занимала «деревенщиков», у которых «естественность» еще со второй половины 1960-х стала маркером художественной манеры и поведения. Причем наиболее последовательно «органичность» основой характерологии создаваемых героев и чертой поэтики стремился сделать С. Залыгин, самый «умозрительный» среди «деревенщиков». В рецензиях, которые «деревенщики» писали друг на друга, Залыгин определял близких (не по манере, но по установке) авторов минимумом «литературности». В посвященной В. Белову статье он утверждал:
В литературе почти всегда существует мера литературности – для одного писателя она больше, для другого меньше. Для Белова она сводится к минимуму, эта литературность. Он больше занят наблюдением над жизнью своего героя и мыслью о нем, чем поиском новых форм литературы и своего собственного письма, чем поиском сюжета, захватывающих и завлекающих сцен, новых приемов литературной техники[744].
По Залыгину, литературность – яркий признак современного письма, однако современный язык еще не обладает «силой и способностью выражать непреходящие национальные черты»[745]: опыт национальной жизни медленно и постепенно седементируется в традиционных языковых формах, которые «сливаются» с реальностью и со временем начинают работать на ее «узнавание», а не «остранение». Если формалисты понимали художественный язык как «прием», «набор отклонений от нормы, разновидность лингвистического насилия»[746], то Залыгин пропагандировал своеобразный антиформализм, согласно которому словесная реальность не может и не должна быть самореференциальной, а художественный язык реализма потому и художествен, что не допускает насилия над бытием. «Реализм» и «реальность» становились как бы эквивалентными друг другу. Поэтому о другом близком ему прозаике, В. Астафьеве, Залыгин замечал, что тот «переводит» реальную жизнь в реалистическую литературу[747]. Такой «перевод» становится возможен и творчески продуктивен именно в силу совпадения «естественного» языка и «естественной» реальности. Для Астафьева, писал Залыгин, жизнь «безусловно реальна, а литература в той же самой мере – реалистична»[748]:
Эта кажущаяся простота отношений между жизнью и искусством в действительности совсем не проста. Многие крупнейшие художники исповедовали ее всю жизнь, а другие приходили к ней после долгих и мучительных поисков.
Тот же, кто с нее начинает, должен – независимо от возраста – обеспечить такое начало собственной биографией.
Искусство для них – это не новая и не иная какая-то жизнь с иными измерениями, это прежде всего осмысление и переживание все того же опыта с помощью новых – художнических – средств[749].
Сам же В. Астафьев неоднократно свидетельствовал о любви к письму, в котором «литературность» не ощутима, делая при этом существенную оговорку – такой «простоте» необходимо учиться, она не дается спонтанностью и мнимой «стихийностью» таланта:
Я считаю, что чем меньше в литературе ощущается самой литературы, тем больше работал автор, тем больше дал ему господь бог.
<…> научиться писать правду – это не простой процесс: вот, мол, я сел, начал молотить на бумаге, и у меня и правда пошла и естественность. Нет, этому учатся долго, учусь и я[750].
Традиционалистская установка на «натурализацию» реалистического письма полемически корреспондирует со многими идеями зарубежного структурализма-постструктурализма, в частности с идеями Ролана Барта, усилившими на Западе интерес гуманитариев к социальной природе искусства. Барт полагал, что знак, скрывающий свое искусственное происхождение (как это свойственно реализму), авторитарен по сути и обслуживает идеологию, которая в свою очередь старается приравнять социальную реальность к Природе, внушая мысль об ее «естественности». В итоге реалистический знак, скрывающий факт деформации действительности, становится одним из инструментов социальной власти[751]. В позднесоветской традиционалистской мысли, испытывавшей по преимуществу интерес к «бытийному», логика анализа «социального», связанного с механизмами осуществления власти, была иной. Критике – не за мимикрию под действительность, а за насилие над бытием, реальностью, приносимой в жертву фантазиям художника, – подвергался модернистский знак. Наоборот, «естественный», мимикрирующий под природу знак оказывался свидетельством мудрого смирения перед бытием, подчинения его законам, консервативных «примирения» с действительностью, «принятия».
Отождествление принципов эстетики с принципами природного существования (на чем, собственно, базировалась «натурализация» реализма) вело к заключению о его «здоровой природе». «Здоровье», моральное прежде всего, в историко-литературном плане опять-таки соотносилось с классическим искусством, в то время как деградация – с явлениями искусства современного. Сложно сказать, были ли знакомы «деревенщики» с изложением идей М. Нордау, скорее всего нет, но в СССР у идей «нравственного здоровья» классики и девиантной природы современного искусства были собственные источники. В советской культурной жизни имело место несколько мощных кампаний по разоблачению «антинародного» модернистского искусства (1936, 1962), где обыгрывались мотивы его неустранимой болезненности. Имидж авангарда как болезненно-извращенного самовыражения подкреплялся цитированием реплик первого лица государства, Н.С. Хрущева, произнесенных на выставке в Манеже в декабре 1962 года[752]. Уподобление современного искусства «болезни духа»[753], патологии нервной системы муссировалось в резонансном памфлете М. Лифшица «Почему я не модернист» (1966) и его совместной с Лидией Рейнгардт работе «Кризис безобразия: От кубизма к поп-арт» (1968). Обязательное разоблачение «извращений» абстракционизма и его противопоставление классическому искусству содержалось в предназначенных для массового читателя книжках из серии «Популярная библиотечка по эстетике»[754].
Национально-консервативная критика и сама предложила в конце 1960-х – 1970-е годы несколько ярких образцов развенчания модернистски-авангардистского «лжеискусства». Прежде всего следует назвать знаменитую статью Палиевского «К понятию гения» (1969), где критик раскрывал мистификаторскую, с его точки зрения, природу модернизма и культа «безумного» художника. К соматическому аспекту психических патологий модернистов автор статьи проявлял безразличие, поскольку был твердо убежден, что демонстрация собственных «отклонений» имеет куда более приземленную цель – саморекламирование. Палиевский не скупился на язвительные оценки:
Что гений обязан косить умом, кажется, ни у кого уже сомнений не вызывает, так прочно это с той поры (со времен В. Хлебникова. – А.Р.) распространилось… При этом ничуть как будто и не предполагается, что эта сумасшедшинка может иметь другую, куда более интересную струну: стойкое и целенаправленное использование или, вернее, исполнение беспомощности – в уверенности, что ей рано или поздно будут, как зачарованные, помогать, иначе – серьезную и смело рассчитанную игру, в которой можно и проиграть, если попадешь на достаточно трезвых людей, но можно и выиграть все, добравшись до какого-нибудь центра массовой информации, – и тогда уже не выпускать его, пропагандируя себя и себе подобных до полного зачумления[755].
Яростно обрушивался на авангард – «продукт разрушения нашей цивилизации»[756] еще один выдающийся представитель национально-консервативного лагеря художник Илья Глазунов (при этом его собственный метод сложно назвать реалистическим). «Деревенщики» также с большей или меньшей экспрессивностью судили о классике и модернизме / авангарде посредством оппозиции «здорового» и «больного». В. Белов, рассказывая о посещении Италии, с негодованием отзывался об искусствоведах, посмевших приписать классическому гению Микеланджело дурную наследственность или изобразить его болезненно неуравновешенным, завистливым, раздражительным человеком[757]. Залыгин восхищался «естественностью и природностью» личности Толстого и считал, что его проза – это крепкие «якоря реализма, логики, природности, естественности», без которых неизвестно бы куда «унесло современную литературу»[758]. В дискурсе о реализме Залыгин актуализировал представления о «норме», которая, оставаясь не формулируемой внятно эстетической категорией, ассоциировалась с «нормальностью» – признаком душевного здоровья. «Искусство, идеал которого – нормальная жизнь, должно дорожить и своей собственной нормальностью»[759], – уверял он. В легко читаемом подтексте таких утверждений – взгляд на модернизм / авангард как на живописание «человеческих аномалий»[760]. Подобное искусство, по Залыгину, обречено удаляться от центра, где сосредоточено «типичное», на культурную периферию[761], к «соблазнам гипертрофирования, парадоксам и алогичности…»[762]. Размещенное в символическом центре «типичное» у Залыгина было категорией сколь эстетической, столь и идеологической и в проекции на социальную реальность становилось обозначением «срединного», то есть чуждого крайностям, устойчивого, основательного. Об этом проницательно в свое время размышлял Игорь Дедков, метафорически трактуя изображение коллективизации в повести Залыгина «На Иртыше» (1964) как разрушение «середины» («Корякин и Митя-уполномоченный избавляются от Чаузова, как от ненадежной “середины”»[763]) и отмечая стремление некоторых критиков (П. Палиевского, Льва Аннинского) к ее реабилитации.
«Естественность», «природность», «нормальность» – весь этот спектр значений закреплялся национально-консервативным лагерем за русской классикой и реализмом в полемике с культурой авангарда и ее последователями. Политизация и этнизация дискурса об авангарде стали фирменным знаком национально-консервативной критики 1970-х, которая солидаризировалась с упреками в адрес левого искусства со стороны представителей других «идеологизирующих», по Карлу Мангейму, групп (от «неосталинистов» до философа-марксиста М. Лифшица), но была радикальнее и в каком-то смысле прагматичнее, чем они. Располагая официально предоставленной возможностью критиковать авангардистское искусство, национал-консерваторы использовали ресурсы советской системы против самой же системы, оттого в их антиавангардизме всегда был налет политической фронды. В этом отношении показательно свидетельство Серея Семанова, в котором наслаиваются, в типичной для национал-консерваторов манере, антиавангардистский, антисемитский и антисоветский дискурсы. Семанов вспоминал о проходившем в 1969 году в Тбилиси заседании Советско-Болгарского клуба творческой молодежи, в ходе которого открылось разительное несовпадение взглядов советской и иностранных делегаций:
Вадим (Кожинов. – А.Р.) первым обратил внимание на то внешнее обстоятельство, что слишком многие представители православного славянского народа выглядели… ну, как будто они родились не на Балканском полуострове, а несколько юго-восточнее его. Когда открылись дебаты, и очень оживленные, то от болгар мы услышали вдруг ссылки на уже полузабытый нами «исторический ХХ съезд», <…> жалобы, «как трудно проходил в Болгарии Брехт», и все такое прочее, что было для нас уже скучным вчерашним днем. С нашей стороны раздавались крутые речи о сбережении и развитии традиционной культуры и нравственности, резкое поношение модернизма во всех его формах и проявлениях, включая таких «социалистических» классиков, как Мейерхольд, Эйзенштейн и сам Брехт[764].
Николай Грибачев, доказывая большую прозорливость Всеволода Кочетова, вспоминал об оценке им «оттепельных» дискуссий о «бедности» соцреалистической эстетики: «Делают вид, что целят в эстетику, – объяснял Кочетов, – а огонь ведут по идеологии…»[765] Однако подобной тактики – «целить в эстетику, а огонь вести по идеологии» – придерживались не только те, кто покушался на дорогой Кочетову и Грибачеву соцреализм. Консервативная критика, разоблачавшая авангардистское искусство, действовала похожим образом: обличая эстетику авангарда, она метила в революционный утопизм и – учитывая логику его развития – в официальную советскую идеологию, включавшую реликты левого политического мышления. Во время дискуссии «Классика и мы» Палиевский фактически идентифицировал авангард с радикальными политическими практиками, при помощи которых создавалось советское государство[766]. В подтексте настойчивого сближения авангарда и революции лежала простая мысль, которую, конечно, в открытую тогда никто не решился озвучить: авангард – это искусство революции, потому он бесплоден. Речь Палиевского стала редким по откровенности образцом «реставраторского» пафоса. Хотя само по себе восприятие 1920-х годов как периода, когда в политической жизни было допущено немало «перекосов», исправленных в 1930-е годы и послевоенный период, широко распространилось в позднесоветской публицистике[767], Палиевский антитезу «революционного террора» 1920-х (в том числе в области культуры) и «реставрацию» 1930-х упорно экстраполировал на современность и пророчил близость очередного столкновения с приверженцами авангардизма.
Не входя в подробности традиционалистской критики авангарда, по-своему логичной и риторически изобретательной, замечу, что неприятие «деревенщиками» модернизма / авангарда имело свою специфику[768]. Противостояние современному искусству в их случае в меньшей мере обусловливалось соображениями политическими и в большей мере – вкусовыми, но так как вкус – результат действующих социальных классификаций (П. Бурдье), то, конечно, и социальными. Исключение составлял, пожалуй, только В. Солоухин, полагавший, что знать о политическом содержании современного авангардистского искусства совершенно необходимо. Другое дело, что откровенно обнаружить в 1970-е годы свои взгляды он, по цензурным соображениям, не мог, хотя в автобиографической повести «Последняя ступень» (1976, опубл. 1995) воодушевленно описывал действо в салоне Кирилла Буренина (Ильи Глазунова). В сцене из повести Буренин несколькими движениями руки воспроизводит абстракционистское изображение, названное в одном из западных журналов выдающимся произведением искусства, и этим убеждает окружающих, что абстракционизм – «халтура и шарлатанство»[769]. Кирилл без обиняков заявляет – уничтожающее национальный дух абстрактное искусство появилось и процветает не без поддержки тайных влиятельных структур, работающих на поддержку мирового еврейства:
Значит, кому-то выгодно, нужно, чтобы шведы, немцы, русские, японцы, греки забыли про свои национальные духовные ценности и производили бы наднациональную абстрактную живопись. Кому-то выгодно, чтобы все, забыв про свои национальные признаки, смешались в одну бесформенную массу[770].
По сути, развивая логику, прокламировавшуюся в 1950-е – начале 1960-х неосталинистской группировкой писателей и художников (Иван Шевцов, Александр Герасимов и др.), Глазунов и Солоухин подводили под нее антикоммунистический фундамент, оборачивали культурно легитимный антиавангардизм в политически нелегитимный антисоветизм.
Большая часть «деревенщиков», по-видимому, о политических подтекстах антиавангардизма была осведомлена, но все же не они были определяющими в отторжении от современного искусства. Вообще, когда речь заходила о модернизме / авангарде, «деревенщики» руководствовались не столько строгими литературными дефинициями течений (модернисты Блок и Ахматова оказывались для них достаточно «народными», а само разграничение модернистского и авангардистского искусства вовсе не учитывалось), сколько инстинктивным отталкиванием от интеллектуальной усложненности, рафинированности, требующих от читателя или зрителя специальной подготовки. В. Астафьев, в наибольшей степени склонный к рефлексии социальных различий, многие явления современной культуры, несущие на себе следы – идеологические и стилевые – модернистски-авангардистских изысков, сразу квалифицировал как «снобистские». В 1961 году он замечал по поводу письма, присланного ему дочерью погибшего на войне друга:
…после такого письма уже не захочется писать для литературных снобов или для заморской публики, которую одно время почти уверили молодые, но ранние наши писатели, будто земля наша кишмя кишит мальчиками и девочками, не знающими куда себя девать и что делать[771].
Астафьев здесь предельно внятно специфицировал своего читателя – «простого человека», способного к глубокому переживанию прочитанного, и своих оппонентов – представителей «исповедальной прозы» и их героев, чьи «нравственные поиски» объясняются незнанием подлинных жизненных трудностей. В сходном ключе писатель высказывался и о повестях Валентина Катаева 1960-х годов, мотивируя неприязнь к подобной литературе ссылкой на классическую «простоту» национальной традиции: «Это, по-моему, литература сноба и для снобов. Я такой не люблю, нерусская это писанина. Русская и в сложности своей проста…»[772]
П. Бурдье утверждал, что нигде социальная стратификация не проявляет себя столь ярко, как в отношении к авангарду, поскольку для его понимания необходимо знание интеллектуальных кодов и определенных рецептивных режимов, имеющих мало общего с непосредственным эмоциональным восприятием[773]. Французский социолог считал, что эстетическая диспозиция, приобретаемая ранним приобщением к культурным благам и образованием, резко противоположна массовому вкусу, ориентированному на непосредственное переживание и жизнеподобные эстетические формы, в том числе классические, рутинизированные и растиражированные в процессах школьного обучения и популяризации классического искусства. «Деревенщики» по понятным причинам всегда оставались сторонниками искусства, рассчитанного на эмоциональное переживание, а не интеллектуальное декодирование (в этом сказывались вкусовые пристрастия «демократических» слоев населения). Принципы их эстетической программы («простота», «безыскусность», дозированное использование художественной условности) формулировались с явным учетом вкусов читателя или зрителя «из народа». В. Шукшин, к примеру, признавался, что ему не близка «усложненная, символичная, ребусная»[774] манера в кино («Неотправленное письмо» Михаила Калатозова, «Иваново детство» Андрея Тарковского, «Мольба» Тенгиза Абуладзе). Свою антипатию к «поэтическому кинематографу» он мотивировал его неуместно сложным интеллектуальным рисунком, блокирующим эмоциональную отзывчивость зрителя:
Происходит своего рода тренаж разума, даже радость по поводу догадки. Но меня, однако, такие разгадки скоро раздражают. <…> Мне и в литературе не нравится изящно-самоценный образ, настораживает красивость…[775]
Противопоставление «рационализма» модернистски-авангардного искусства и «органики» реализма также восходит к описанному Бурдье инвариантному конфликту «формы», маркирующей культуру привилегированных групп, и «субстанции», определяющей вкусовые предпочтения подчиненных[776], и возвращает нас к первоначальному противостоянию «деревенщиков» городской творческой элите. В свете конфликта «формы» и «субстанции» становится понятным недоверие Шукшина к типу «интеллектуального актера», воплощенному любимцем интеллигенции Иннокентием Смоктуновским. За Смоктуновским режиссер и писатель готов был признать «легкость необыкновенную, демократичность, свободу»[777] (правда, первая часть комплимента вызывает аллюзии на самохарактеристику гоголевского Хлестакова), но эти свойства казались ему сознательно культивируемыми, а потому неорганичными. Напротив, актеры, наподобие Жана Габена, чью пластику Шукшин возводил к культуре французского крестьянина, завораживали его[778]. «Правдивость» актерской игры, создаваемого литературного текста или даже бытового поведения исключала формальные ухищрения, и об этом Шукшин одно время твердил с «народнической» бескомпромиссностью: «Стыдно, например, “выделывать ногами кренделя”, когда народу плохо»[779]. Реакция интеллектуала, эстета, профессионального зрителя – критика, с вызовом заявлял он, для него менее значима, нежели реакция зрителя рядового:
Меня вообще больше интересует реакция непрофессионального зрителя. Живые люди – страшные критики, потому что каждый из них пропускает искусство через собственный, всегда уникальный жизненный опыт, и в столкновении с этим реальным жизненным опытом обнажаются стереотипы мышления художника. Критиков не боюсь – у них свои штампы…[780]
Александр Куляпин делает справедливое замечание о нарастании «литературности» в творчестве Шукшина последних лет и явном запаздывании критики, которая по инерции продолжала обсуждать «простоту» и «правдивость» шукшинских произведений[781]. Но художественная практика и нормы публичной самопрезентации не обязательно жестко зависят друг от друга, и в случае Шукшина усложнение интертекстуальной поэтики не отменяло потребности в публичном дистанцировании от интеллектуальной рафинированности эстетов.
Как известно, в период становления «деревенская проза» резко отступила от соцреалистических шаблонов в выборе героев и изображении характеров и сместила интерес с «молодых агрономов, живущих нововведениями», на «старых крестьян, живущих воспоминаниями»[782]. Потом на протяжении почти двух десятилетий авторы-«неопочвенники» создавали различные типы героев (достаточно упомянуть опыты В. Шукшина), но национально-консервативная критика обычно фокусировала читательское внимание на вариациях поэтизированного «народного характера», который сводился к узнаваемым моделям с классической литературной генеалогией (Платон Каратаев, герои-праведники Лескова, «цельные натуры» из пьес Островского, Аким из толстовской «Власти тьмы»). Механизм легитимации подобного выбора был прежним – ссылка на суждение классика, бесспорное в силу того, что принадлежит классику. Внимание к «народному» крестьянскому типу, которым славилась «деревенская проза», вообще является отличительной чертой русской литературы, доказывал Ю. Селезнев, и далее превращал этот тезис в аксиому при помощи соответствующих цитат из классиков:
Подлинно русскому писателю, утверждал революционный демократ (В.Г. Белинский. – А.Р.), «Россию нужно любить на корню, в самом стержне, основании ее», а корень ее, основание – «простой русский человек, на обиходном языке называемый крестьянином или мужиком».
Родоначальник социалистического реализма Горький, продолжая все ту же мысль, указывал: «нам снова необходимо крепко подумать о русском народе, вернуться к задаче познания духа его»[783].
Впрочем, именно в области характерологии традиционализм «деревенской прозы» проявился весьма убедительно: социальные качества крестьянского типа, описанного классиками, были существенно конкретизированы «неопочвенниками», а правая критика придала им универсальный характер. В итоге эти качества стали не зависящими от контекста этическими нормами, следование которым, по идее, должно было обеспечить желанную «преемственность» поколений и «связь» времен (отсюда призывы «не растерять», «сохранить верность» и т. п.). Дело еще в том, что «базовый характер»[784], в изображении которого были так сильны «деревенщики», обычно – проекция сформированного культурой идеального образа Я, в то время как отступления от такого литературного «инварианта» связаны с осмыслением различных форм «инаковости». С этой точки зрения споры о герое, «национальном характере» – это споры о возможностях существования «инаковости», о социокультурном Другом и его статусе в культуре.
Невозможно пройти мимо того факта, что параметры идеального «народного характера» в 1960-е годы выявлялись в полемике «деревенской» школы, чью идеологическую позицию «изобретала» национально-консервативная критика, с прозой «исповедальной»[785]. В ходе длительного спора вопросы о типе современного человека в произведениях Василия Аксенова, Анатолия Гладилина, Анатолия Кузнецова, о его ценности поднимались постоянно. Правая критика подчеркивала короткую культурно-генеалогическую «историю» подобного героя. Его происхождение выразительно датировалось эпохой 1960-х, когда «отрицались преемственность поколений, роль традиций, культурное наследие прошлого, правда, в основном недавнего…»[786], иначе говоря, все то, на чем новые лидеры общественного мнения выстраивали свою групповую идентичность и чем предлагали руководствоваться читателю. Вызванный к жизни либерализацией общественного климата и десталинизаторскими тенденциями, герой «исповедальной прозы» вызывал у них, в основном, снисходительно-раздраженную оценку – инфантильный индивидуалист, нигилист, эгоцентрик с необоснованными претензиями на исключительность[787]; его поступки, истолкованные в свете «народной морали», выглядели предосудительными, искания – поверхностными, стиль самовыражения – нарциссическим. Попытки персонажей Аксенова и Гладилина высвободиться из-под власти навязываемых авторитетов, сформировать «приватное» пространство или пространство дружеского сообщества поверялись мифологизированной «народной жизнью», в которой ему всякий раз не находилось места, поскольку манифестируемые им ценности были слишком далеки от «народных»[788].
Новому, порожденному современной городской цивилизацией герою-интеллектуалу адресовались и замечания эстетического свойства. Правой критике он казался художественно «недовоплощенным», схематичным. Палиевский, например, настаивал, что ученые – персонажи фильма Михаила Ромма «Девять дней одного года» (1961) психологически плоски, поскольку являются носителями сухого сциентизма и их изображение подчинено моде на героя-интеллектуала:
…те лица, которые фигурируют там (в фильме. – А.Р.) под видом очень сложных и духовно богатых людей, на самом деле представляют собой удивительно примитивные, слегка «подкрашенные» под индивидуальность абстрактные «типы»…[789]
«Удивительно аскетичными в своем отношении к природе, материнству, к разнообразным общечеловеческим страстям»[790] находил Виктор Чалмаев персонажей Даниила Гранина. Герой-интеллектуал, верящий в научный прогресс и способный ради него на жертвенные поступки[791], Палиевского и его единомышленников, действительно, не мог серьезно увлечь. Доверие современных авторов к сциентистским утопиям казалось им недостойным художника, а сама идея прогресса, входившая в официальный идеологический репертуар, с оглядкой, но планомерно ими компрометировалась («…всякий прогресс относителен и в ходе прогресса люди всегда не только приобретают, но и нечто теряют, <…> “прогрессивное” – это далеко не всегда значит “хорошее”…»[792]). Вычитанная из русской классики антитеза «умного сердца» и «бессердечного разума» также активно привлекалась для доказательства «безжизненности», «неукорененности» героя-интеллектуала в отечественной культуре. Тактика дискредитации такого персонажа не отличалась изощренностью: его следовало типологически сблизить с персонажами-рационалистами XIX века, наподобие гончаровского Штольца, а затем обличить его эмоциональную бедность ссылкой на прозрения литераторов-классиков.
В нашумевшей статье Павла Глинкина, где антитеза двух типов персонажей дублировалась метафорами земли и асфальта, упорно проводилась существенная для правой критики идея – центральным героем литературы должен стать «простой человек», а его порождает только «почва». Для доказательства своей мысли критик перетолковывал на «почвеннический» лад сравнительно недавние инициативы по исправлению норм партийной жизни, которые, как выясняется, наконец-то были приведены в соответствие «со стабильными народными представлениями о справедливости»[793]:
В недрах народной жизни всегда таятся добрые, гуманные начала. Они в душевном складе простых людей. Прямота, благожелательность, великодушие, когда нужно оказать защиту и помощь страждущему, суровая непримиримость к вероломству и жестокости возвышают человека в глазах народа… Вспомним хотя бы, помимо повести Белова («Привычное дело». – А.Р.), книги Ильи Лаврова, Виктора Курочкина, Бориса Бедного, Михаила Алексеева, Анатолия Ткаченко, Василия Матушкина… В характерах их персонажей тоже отразилась реальная жизнь, но взяты из нее для исследования не рефлектирующие юнцы, изнывающие под бременем надуманных и, по существу, ничтожных хлопот, а богатый опытом, душевно развитый человек с обостренным гражданским сознанием, сын своего народа[794].
Целенаправленное конструирование правой критикой «народного» («национального»[795]) типа началось, пожалуй, с повести В. Белова «Привычное дело» (1966). В. Кожинов в статье «Ценности истинные и мнимые» назвал «полноту и цельность»[796] определяющими чертами характера Ивана Африкановича и заявил, что тот воплощает «единство бытия и сознания, которое утрачивается людьми иных профессий»[797]. Кожинов недоумевал по поводу вопроса, поставленного критиком Федором Левиным, о героях, подобных Дрынову («у них ли мы найдем ответы на сложнейшие вопросы, стоящие перед нашим обществом…»). Он напористо опровергал оппонента:
…именно у «них»… именно в их бытии и сознании искали «ответов» и Толстой, и Некрасов, и Пришвин, и Шолохов. Ибо ясно, что вся культура в конечном счете есть освоение жизни народа, ее осознание и воплощение в слове. И когда идет «поверка» ценностей, у культуры вообще нет иного выхода, как возвратиться к своим «истокам»[798].
Возражая Кожинову, Владимир Гусев обращал внимание на то, что Белов, написавший «цельного» Ивана Африкановича, вообще-то не столько целен, сколько мечтает о цельности, и тогда – «…где же мечты В. Кожинова о цельном мужике, к которому надо приобщиться заблудшим интеллигентам?»[799]. «Назрели уже и другие, острейшие и больные темы. Опять и опять встает <…> проблема интеллектуально-сложного человека. Русская классика, которой бьет нас В. Кожинов, держалась не только на интересе к народу, но и на этом»[800], – заключал критик.
В дискуссию о «цельности» «человека из народа», начатую Кожиновым зимой 1968 года, в августовском номере журнала «Дон» вступил Л. Аннинский, который, с одной стороны, объявил внимание к метафорической «почве» родовой чертой русской классики («Есть вековая традиция русской литературы, с ее раздумьями о человеке-страннике и о почве – не в социальном, а в этическом плане»[801]), а с другой стороны, отвел от Белова подозрения в «элементарном и плоском почвенничестве»[802], превращавшем народный быт в объект сентиментальной стилизации. Аннинский внутри художественного мира Белова нашел дилемму, разрешение которой, как он полагал, обусловит дальнейшую писательскую эволюцию. Дилемма заключалась в выборе беловским героем точки «моральной опоры», которая либо изначально давалась традицией, либо определялась персональным выбором. Персонажи «Деревни Бердяйки» и «Дожинок», по мнению Аннинского, следовали культурному стереотипу обычая, «органике» традиции, но оттого в кризисных ситуациях оказывались этически уязвимы. Напротив, Иван Африканович, незатейливо реагировавший на все жизненные перипетии фразой «привычное дело», в трагических условиях смерти жены вдруг находил в себе способность к осознанию экзистенциального смысла случившегося:
Последнее раздумье Ивана Африкановича содержит – номинально – те же самые идеи, что <…> были восприняты всем деревенским миром по традиции. Это идеи неистребимой самоценности природной, народной жизни, не имеющей начала и конца. Но прежде эти идеи были размыты, растворены, разведены в миру, во всех, во всем. Теперь они встали как моральный закон перед отдельным человеком. Он должен решать, он – а не «что-то» за него. Он и решает. Не потому, что так решали деды. И не потому, что подтолкнули обстоятельства. Человек решает из себя, из внутреннего чувства правды и смысла, из своего нравственного самосознания, которое сильнее обстоятельств[803].
Аннинский проводил неожиданные параллели между героем Белова, моментально провозглашенным идеалом «неопочвенничества», и героями Андрея Битова и В. Аксенова, от «неопочвеннических» стандартов весьма далекими, поскольку полагал, что проза всех трех авторов реализовала общую тенденцию – движение от внешнего человека к внутреннему[804], другими словами, от поведения, регулируемого социальными правилами традиции и обычая, к поведению, санкционированному личностным выбором.
«Сознательности» и индивидуализма в Иване Африкановиче не хватило также И. Дедкову, который не соглашался с попытками В. Чалмаева и П. Глинкина интерпретировать Дрынова как «здоровый народный идеал нравственности»[805] и напоминал эпизоды повести, где герой открывал свою «неидеальную» сторону[806]. Позднее Екатерина Старикова переадресовала претензии в «неразвитости» сознания «идеальной», казалось бы, Катерине –
чистой, доброй, прекрасной Катерине… Да как же она-то позволяет творить над собой все, что с ней творят эти самые обстоятельства? Рожать без конца, работать без краю, терпеть безгранично – какая такая внешняя сила заставляет ее стремительно приближаться к явному самоубийству? Помимо обстоятельств, сила эта – неразвитость ее личного самосознания, непонимание нравственной ценности собственной личности, как, впрочем, и любой другой личности[807].
Кстати, инерция восприятия Белова и его героя как персонификации «органического» мышления была свойственна и критикам, чьи убеждения не подпадали под определение «неопочвенных». Например, Виктор Камянов, вроде бы возражая последовательно «почвенническому» прочтению повести, тем не менее также не вышел за пределы «органицистской» риторики:
Что же до Ивана Африкановича, то в общей системе замысла он не просто тип стабильного, «неискоренимого» земледельца, а в первую очередь человек, для которого всякая материя жива и открыта либо готова открыться его душевному опыту, хранитель традиции грамотного обращения с жизнью, умеющий слушать и постигать ее собственные требования…[808]
В начале 1980-х годов Ю. Селезнев, суммируя все, что говорилось в критике о герое Белова, будет опровергать упреки оппонентов, несправедливо, по его мнению, приписавших Ивану Африкановичу «социальное младенчество» и оскорбительно сравнивших его по уровню развития самосознания с коровой Рогулей[809]. По его мнению, «Привычное дело» есть не что иное, как критика индивидуалистического сознания, и философскую генеалогию повести следует вести от прозы Достоевского, с которым Белова роднит неприятие гипертрофированного рефлексирующего «я»[810]:
Если под личностью понимать единственно такое самосознание, которое обосабливает отдельного человека от мира, так сказать, автономную личность, чье сознание делит мир на Я и Не-Я, то в этом смысле Иван Африканович не личность. <…> Не от этого ли «самосознания» родились многочисленные варианты личностных ценностей «единственного» Штирнера, Раскольникова, Ставрогина, Верховенского, ницшевского Заратустры, с одной стороны; с другой – самосознания «подпольного человека», с третьей – экзистенциального героя…[811];
Иван Африканович активен как личность тогда, когда он в коллективе, и раскрывается его личность через коллектив, его и можно определить как коллективную личность, в отличие от личности автономной (курсив автора. – А.Р.)[812].
Так, неисторизованные аналогии с героями русской классики и ссылка на ее авторитет работали в качестве главного аргумента в пользу жизненной «продуктивности» одних типов и «ущербности» других. Первичная в классике «социальная педагогика целостного, классического человеческого характера»[813] превращалась у правой критики в инструмент разоблачения «буржуазности», хотя для этого надо было подверстывать «целостных» героев «деревенской прозы» к столь же «целостным» классическим героям, иногда ценой упрощения одних и других.
Еще одним, лишь на первый взгляд неожиданным, результатом «неопочвеннического» прочтения русской прозы XIX века стало обнаружение в ней «опасной» разлагающе-революционизирующей тенденции. Ее происхождение объяснялось излишней увлеченностью некоторых героев (Пьера Безухова, например) интеллектуальными «исканиями», тягой к «обновлениям», вызвавшими, по мнению критики, разрушение «корневой» системы отечественной культуры:
Русская литература XIX века полна напряженных исканий смысла жизни, правды, способов устроения человеческого счастья и т. д. И эти искания зачастую вступали в глубокий конфликт с традиционно-существовавшим укладом. Отрицательная сила этих исканий играла революционизирующую роль[814].
Сама по себе ревизия классики на предмет ее «виновности» в случившихся исторических катаклизмах, с одной стороны, выдавала сильнейшую зависимость от литературного дискурса, с другой, являлась попыткой критиковать fiction-повествование, воображенный словесностью мир, с позиций незамеченной, «репрессированной» реальности. До «неопочвенников» В. Розанов[815] и Иван Солоневич с разной степенью категоричности уже судили литературу XIX – начала ХХ века за наивный максимализм и избирательное внимание к «жизни», но позднесоветская правая критика внесла в эти суждения различимый рессентиментный мотив. Создавая образ «здоровой», консервативно настроенной русской прозы XIX века, она неожиданно натолкнулась на разрыв – классики, как оказалось, испытывали подчас подозрительный интерес к тому, что национал-консерваторы считали издержками интеллектуального восприятия мира. Правая критика предъявила «интеллектуально-сложному» классическому герою претензии за безответственные «моральные спекуляции и всякие умственные “обновления”»[816] и примечательным образом озвучила их от лица «человека из народа», вынужденного в силу сложившегося социального порядка искупать «грех» чужого умствования (в таком ключе – как расплату Григория Мелехова за содеянное пресыщенными идеалистами-интеллектуалами – Лобанов толковал «Тихий Дон»[817]). «Революционизирующую» роль исканий предлагалось нейтрализовать «органичностью», которой не свойствен вкус ко сколько-нибудь сложной рефлексии и которая в итоге сворачивалась к программному «антиинтеллектуализму»:
…мы видим субъективность, даже гипертрофированную, этих исканий, которая представляется личности ее высшим благом – свободой… Искания превращаются в скитания, в странствие мысли с утверждением своей свободы, с сильным нигилистическим элементом в отношении культурно-исторических традиций[818].
Как видим, индивидуализм и рефлексивность противоречили «цельности» личности по версии национально-консервативной критики. Это объясняет по преимуществу спокойное отношение последней к хронологически более ранним образцам «деревенской прозы» – роману Ф. Абрамова «Братья и сестры» (1958) и повести С. Залыгина «На Иртыше» (1964). «Социологическое» письмо этих авторов и их герои – далекий от «цельности», не лишенный надрыва Михаил Пряслин, цельный, но никак не смиренный и не наивный Степан Чаузов, позднее наделенный трикстерскими чертами, существующий наособицу от «коллектива» можаевский Федор Кузькин, не были обойдены вниманием правой критики, но не были и канонизированы ею[819]. Напротив, Ивана Африканыча из «Привычного дела» и Олешу Смолина из «Плотницких рассказов» В. Белова, бабушку Катерину Петровну из «Последнего поклона» В. Астафьева, старух из повестей В. Распутина, которые репрезентировали, так сказать, «в чистом виде» домодерные ценности, высокую адаптивность к экстремальным социальным обстоятельствам («природность», терпение, смиренность, «артельность»), национал-консерваторы провозглашали воплощением лучших черт национального характера. У Лобанова, например, весьма критичный настрой в отношении шукшинских «театрализованных» рассказов («Миль пардон, мадам!», «Шире шаг, маэстро!», «Страдания молодого Ваганова», «Даешь сердце»), излишнего «доверия к культуре», проявившегося в «цитатности» «Царь-рыбы» Астафьева, «эффектированного психологизма» повести Распутина «Живи и помни» уступал место утвердительному пафосу, когда речь заходила о более традиционных, в плане выбора героя и стилистики, вещах этих же авторов – «Сапожках» и «Материнском сердце», «Последнем поклоне», «Прощании с Матерой»[820]. Лобанов почти ультимативно формулировал:
Богатство характеров, самобытность их возможны только на органичной жизненной почве. Жизнь может и не давать материала для богатства характеров. Тогда уже не помогут никакая авторская умозрительность, никакая изобретательность… <…>
Свое время – свои типы. И задача писателя созидать их из наличного материала, из сущего, а не из призрачного[821].
Главные антитезы, при помощи которых героя «деревенской прозы» национально-консервативная критика сталкивала с героем современного урбанизированного мира, – индивидуализм / общинность, отчужденность (от почвы) / укорененность, иначе говоря, ценности модерные vs. ценности традиционные[822]. В итоге «более чем противоречивые герои Василия Белова, Валентина Распутина, Федора Абрамова, Василия Шукшина» у правых изображались «хранителями священной народной духовности, которых со всех сторон атакуют демоны модернизации: инородцы, интеллигенты, город и советский режим»[823]. Для создания национал-патриотами собственной характерологии эти оппозиции имели практически нормативный характер. Они, подобно клише, налагались на тексты, «вчитывались» в них. Сравнительно поздней вариацией и своего рода апофеозом разработанной схематики «народного типа» стала статья Ст. Куняева о Владимире Высоцком, где «ложный кумир» миллионов слушателей разоблачался столкновением с «подлинно национальной» прозой В. Шукшина:
Шукшин никогда окончательно не терял из виду идеала, преображения своего героя, недаром он вместе с ним мучительно искал и нашел в конце концов в «Калине красной» пути возрождения души и личности, докопался до корней нравственности народной. Лирический же герой большинства песен Высоцкого, за исключением немногих песен о войне и мужском товариществе… как правило, примитивный человек – полуспившийся Ваня, приблатненный Сережа, анекдотическая Нинка и т. д. Надрыв этого человека – окончательный разрыв с идеалом, в лучшем случае замена его правилами полублатного коллективизма[824].
Но в приведенном фрагменте почти все основывается на предзаданных антитезах: начиная с трактовки «Калины красной» до патетичной стилистики статьи. Слабо сообразующиеся с сюжетно-мотивной реальностью прозы Шукшина (особенно поздней) оценки его героя Куняевым подчинены отработанной риторике превознесения «народного типа», но начисто пренебрегают интересом прозаика к маргинальным персонажам. На самом деле «полуспившегося Ваню, приблатненного Сережу, анекдотическую Нинку» несложно найти в поздних рассказах Шукшина, но это бы значило обнаружить надуманность эффектной антитезы «народного» и «псевдонародного».
Интересно, что во второй половине 1970-х годов «неопочвенническая» критика в лице самых дальновидных ее представителей, не оставляя поэтизации «органического типа», попробовала найти нового героя, безусловно «почвенного», но стоящего на высоте текущих идеологических задач. В статье о «Царь-рыбе» Астафьева Ю. Селезнев высказал надежду на появление такого героя – «дееспособного»[825] «идеолога, сознательного бойца за истинно духовные, творческие начала жизнеустройства»[826]. Оказалось, что «природно-стихийный» Аким из «Царь-рыбы» уже не мог служить образцом и поведенческой моделью. Причина – не только в избранном Астафьевым ракурсе изображения маргинализированного персонажа, обнажившем социальную незрелость последнего[827], но и в возросших амбициях национально-консервативных кругов. Формирующееся тематическое поле, связанное с экологической проблематикой (ее актуальность доказывала астафьевская «Царь-рыба»), замечательно кумулировало охранительный пафос и тотализовало его – национал-консерваторы получали карт-бланш для идеологического узаконивания своих притязаний, преподносимых как деятельность по сохранению природы / народа / русской культуры. Претерпевающий бесчисленные жизненные тяготы и плохо осознающий их причины (либо осознающий, но не противящийся происходящему) герой «из народных глубин» стадиально устаревал; возникала потребность в герое-идеологе, способном внятно транслировать новую программу. Его появление и стремился спроектировать Селезнев.
«Деревенщики» и проблематизация дискурса о классике
На уровне дискурса «преемственность» «деревенской прозы» по отношению к русской классике являла собой идеальную «связь времен», но «преемниками» она иногда переживалась как не лишенное напряженности притяжение-отталкивание. Крайний случай травмированности столкновением с «высокой» культурой, олицетворенной классикой, имел место в биографии В. Шукшина: во время вступительных экзаменов во ВГИК великовозрастный абитуриент с Алтая к удивлению приемной комиссии обнаружил незнание толстовской «Войны и мира» («Анны Карениной» по другой версии)[828]. Незнание классического текста подстегнуло Шукшина, если воспользоваться его словами из рассказа «И разыгрались же кони в поле» (1964), поскорее наверстать упущенное – «измордовать классиков»[829]. Биограф Шукшина отмечает, что тот в студенческие годы прочитал
и Библию, и собрания сочинений Толстого, Достоевского, Чехова, Глеба и Николая Успенских, Решетникова, Горбунова, Лескова, Горького и многих-многих других.
Прочитал? Нет, правильнее будет сказать – изучил (разрядка автора. – А.Р.). Настолько внимательно, что некоторые эпизоды, некоторые образы русских классиков, помимо его воли, неосознанно перешли, в качестве литературных реминисценций, в его собственные произведения[830].
Наблюдение В. Коробова существенно уточнили А. Куляпин и О. Левашова, которые отметили, что фрустрированность культурной отсталостью стала у Шукшина «источником “вытеснения” литературных влияний в сферу бессознательного»[831]. Это предопределило оригинальную стратегию работы писателя с русской классикой:
…отношение Шукшина к классической литературе амбивалентно. Внешне он, пользуясь любой возможностью, подчеркивает свой пиетет перед отечественной классикой. <…> Но подсознательный бунт против «отцов-классиков» все же вырывается порой на поверхность. Любопытно стоящее на грани пародии сравнение писателя-классика с «тенью отца Гамлета» в <…> статье «Монолог на лестнице»…[832]
Исследователи совершили нетривиальный по отношению к писателю-«деревенщику» ход – рассмотрели его прозу не через категорию «преемственности», а при помощи концепции Харальда Блума о «страхе влияния». Идею Блума о бунте художника против традиции, выражающемся, среди прочего, в нарочито неверном цитировании классических произведений, они подтвердили тонкими интерпретациями шукшинской прозы. В ее обширном и более богатом, нежели у других «деревенщиков», интертексте, связанном с русской классикой, были найдены множественные случаи так называемых «иллюминативных» цитат. Цель их использования – в разрушении привычных рецептивных контекстов классических образов и продуцировании новых контекстов, которые смогли бы объяснить возникающие смысловые аномалии (так, в повести-сказке «До третьих петухов» (опубл. 1975) в доказательство краха народной и книжной культуры перед читателем появляются «совсем не карамзинская Бедная Лиза, не гончаровский Обломов, не пушкинский Онегин»[833]). В перечне шукшинских приемов, которые можно счесть «терапевтическими», отстраняющими и «остраняющими» некогда травмировавшую классику, исследователи называют интерпретации, взрывающие нормативное прочтение (писатель, к примеру, намеренно не учитывал авторскую интенцию, толкуя рассказ Достоевского «Мужик Марей», и делал из него вывод, противоречащий тексту, но согласующийся с эстетикой и идеологией самого Шукшина)[834], или деканонизацию классиков как стереотипизированных культурных персонажей, наподобие Пушкина, которого у Шукшина «не читают, а “проходят”»[835].
В полярных модальностях выдержано отношение к классическому наследию у еще одного «деревенщика» – В. Астафьева. С одной стороны, он, подобно Шукшину, при каждой возможности подчеркивал любовь к классике («нет у меня слов и чувств, которыми можно было бы выразить мое отношение к Достоевскому! Благоговение!»[836]), глубоко переживал свою «недообразованность», препятствующую полноценному ощущению себя преемником («Какой я дикий и неграмотный человек, хотя и работаю после таких вот писателей, как Чехов»[837]). С другой стороны, ему казалось, что классика, несмотря на ее глубину и универсальность, не передает травматичности социального и культурного опыта современного человека. Сначала этот зазор между классической прозой и новым «жестоким» реализмом, с которым соотносил себя Астафьев, определялся им в ключе «наивного социологизма». Автобиографический герой-подросток из астафьевской «Кражи» (1966), тайком читающий «Блеск и нищету куртизанок», делился своими читательскими впечатлениями с учителем:
– Надоело уже читать про буржуев. Все про буржуев да про господ. Редко когда попадется интересная книжка про простых людей.
– Тут ты, положим, хватил! Книг о простых людях написано море. Золя не читал? И не читай – рано еще. И Бальзака тоже рановато бы. А Тургенева, Горького, Чехова небось вот не читал.
– Проходили, – махнул рукой Толя. – Горький босяков описывает. Ничего мужики, только говорят, говорят, и все. И пьяные и трезвые говорят, да такое говорят, что башка трескается – ничего не поймешь. А Тургенев ваш, как дамочка, все у него мужики какие-то смирненькие да покорненькие…
– Тут ты, положим, тоже хватил. Рудин? Базаров? Инсаров, наконец? Смирненькие?
– А Герасим? – подхватил Толя. – У него собаку утопили, а он… А этот, как его? У Гоголя-то? Акакий Акакиевич? Герой! Шубу последнюю у него сблочили… А он?! И все какие-то![838]
Разумеется, интерпретировать этот диалог нужно в контексте повести, не свободной от советских риторических и рецептивных штампов (к ним, помимо прочего, относится «революционизация» тургеневских Рудина, Базарова), различая сознание автора и персонажа, но игнорировать желание героя читать о «своих» и о «себе» тоже не стоит. В наивной претензии Толи Мазова к классике зафиксировано несовпадение раннего и травматичного опыта его изгойства (экзистенциального и социального) и литературно совершенной классической формы, в которую заключалось повествование о фантастичной для детдомовца-сироты жизни. Спустя несколько десятилетий Астафьев резко ответит критику И. Дедкову, упрекнувшему писателя в использовании обсценной лексики в романе «Прокляты и убиты» и напомнившему о Толстом, который, изображая войну, мог обходиться без брани и натуралистических подробностей:
…вы судите за натурализм и грубые слова, классиков в пример ставите. Вы-то хоть их читали, а то ведь многие и не читали, а в нос суют. Не толкал плот посуху, грубой работы, черствой горькой пайки не знал Лев Толстой, сытый барин, он баловался, развлекал себя, укреплял тело барское плугом, лопатой, грабельками, и не жил он нашей мерзкой жизнью, не голодал, от полуграмотных комиссаров поучений не слышал, в яме нашей червивой не рылся, в бердской, чебаркульской или тоцкой казарме не служил… Иначе б тоже матерился. Пусть не духом, но костью, телом мы покрепче его, да вот воем и лаем. А он, крутой человек, балованный жизнью, славой, сладким хлебом, и вовсе не выдержал бы нашей натуральной действительности и, не глядя на могучую натуру, глубинную культуру и интеллектуальное окружение, такое б выдал, что бумага бы треснула…[839]
Астафьев, резко отстаивая свою правоту, трансформировал образ Толстого в соответствии с материалом и целями полемики. В итоге Толстой оказался обязательно-цитируемым писателем-классиком, которого все «в нос суют», барином, графом, чья «могучая натура» и «глубинная культура» были сформированы иным культурным и социальным климатом. Такой образ Толстого предельно внятно намечал социальную дистанцию между классикой и современным «жестоким письмом», точнее, между различным опытом переживания и символизации насилия человеком XIX и ХХ веков. В иных полемических контекстах (например, рассуждая о литературной «чернухе» 1990-х годов) Астафьев доказывал обратное – необходимость классической «изящной словесности», основанной на «благородстве в обращении со словом и в отношениях с читателем»[840]. Но, так или иначе, прозаик не сомневался в детерминированности вкусов и читательских предпочтений «средой» и мог при случае с эпатирующей прямотой подчеркнуть непонимание текстов, любить которые вменялось конвенциями, «сакрализовавшими» классику. Критика Александра Макарова, например, он обескуражил такой аттестацией Чехова:
…считаю этого классика скучным, однообразным нытиком. <…> Все его взлохмаченные, умно рассуждающие доктора, везде одинаковые, рассказ «Невеста», который вы и многие другие понимают шедевром, напишет нынешний средний писатель, а Гоша Семенов, Юра Казаков да Сережа Никитин – так еще и лучше[841].
Очевидно, что нападки Астафьева на Чехова не ставят под сомнение ни классику как культурный институт, ни ее значение. С их помощью писатель лишь отстаивал право без оглядки на авторитет классики и принудительные суждения экспертов формировать культурные предпочтения, не смущаясь их несоответствием общепринятым нормам. Другими словами, выпады в адрес Чехова важны не содержательно, а функционально: традиция классики не отвергается, но отношение к ней становится более дифференцированным, сочетающим «зависимость» и «эмансипацию», дающим возможность для собственного творческого самоосуществления: «Коварные эти мужики, мастера-то, нет-нет да и вышибут из седла самоуспокоенности, шпыняют под бока, гляди, мол, как надо писать-то. Ну, авось да небось, и мы свою полоску вспашем»[842]. Тем не менее, констатация ограниченности оптики авторов-классиков, на мой взгляд, является примером типично консервативного «бунта». Изменение традиции признается необходимым – подразумевается, что она должна вобрать в себя новый «жизненный материал», но природа этих изменений экстенсивна – следует расширять освоенную литературой площадь (новые темы, ситуации, мотивы) при условии сохранения верности классическому письму либо при его «органической» модификации, без намеренной, сознательной проблематизации.
Возвращаясь к рефлексии социальной дистанции между классиком и условным писателем и читателем «из народа», в число которых Астафьев включал и себя, надо заметить, что она не была чем-то из ряда вон выходящим. Воспоминания В. Белова о В. Шукшине также содержат пример вкусовых суждений, педалирующих «социальное»:
Рассуждая о сюжетной беллетристике, Шукшин кипятился: «Не хочу я читать эту надуманную литературу! Не верю я им, беллетристам!» Я спрашиваю: «Бунин – беллетрист?» – «Да, но Есенину я верю больше. Все-таки он барин, Бунин-то…»[843]
Заботливо построенная национально-консервативной критикой телеология русской культуры интегрировала разные культурные пласты, слои и страты в единое символическое целое[844] и потому основывалась на микшировании различий социальных и сословных ориентаций ее производителей. В мифологизированной истории отечественной культуры классика вырастала из национальной «почвы», затем эту «почву» оплодотворяла, та давала «всходы», то есть обеспечивала приток новых творческих сил, в итоге «верхи» и «низы» дружно трудились на утверждение национального величия. Интересно, однако, что «деревенщики», стремившиеся узаконить свое пребывание в культуре в том числе и через наследование классике, не старались вовсе сгладить естественный культурный разрыв между собой и «высокой» литературой: классическое наследие признавалось безусловным центром национальной культуры, но в самосознании «деревенщиков» исключительно значимым было ощущение себя «периферийщиками»[845] как в плане социальном, так и в пространственно-географическом. Потому для их творческой самоидентификации «на фоне Пушкина» были важны как механизмы отождествления, так и механизмы различия. Присущее «деревенщикам» сочетание пиетета перед классикой с обнаружением «слепых» для нее зон (о чем упоминал Астафьев) было следствием этой амбивалентной позиции. В зонах, которые по разным причинам не попали «под контроль» русской классики, «деревенщики» пытались работать с дополнительными смысловыми ресурсами – конструировать региональные литературные традиции или, к примеру, утверждать особую весомость крестьянской традиции, но делали они это, избегая деконструкции или актов трансгрессии, скорее всего, даже не предполагая их возможности. По существу, они риторически развивали и совершенствовали дискурсы, которые позволяли их связь с «высшими» уровнями отчественной культуры сделать более внятной и обоснованной.
Критики, читатели, наконец сами «деревенщики» массовый приход в литературу писателей крестьянского происхождения воспринимали по аналогии с литературными фактами 1920-х годов – деятельностью Сергея Есенина и новокрестьянских поэтов:
В некотором смысле весь комплекс крестьянских вопросов литературы «нэповской оттепели» вернется в общественное и гуманитарное сознание «тихой лирикой» и деревенской прозой 1960 – 1970-х годов, рожденными эпохой второй советской оттепели[846].
Центральной фигурой, с оглядкой на которую «деревенщики» могли выстраивать собственную творческую идентификацию, не опасаясь иронических замечаний в «несоразмерности», стал С. Есенин[847], там более что в 1970-е годы массовая любовь к поэту наконец-то «синхронизировалась» с его официальным признанием в качестве большой литературной величины: в 1965 году в Константинове открылся мемориальный дом-музей Есенина, огромными тиражами выходили его сочинения, одна за другой появлялись монографии[848], празднование юбилеев вышло на уровень мероприятий всесоюзного масштаба. «Деревенщики» фольклорные формы есенинской поэзии, «органичность» ее образно-символической системы и интонационного строя посчитали стилевым образцом, идеально согласованным с их вкусами, и выражением «архетипических» свойств национальной литературы[849]. «…Недаром исконно русские поэты, выходцы из народа, отличались таким литературным ладом, такой душевностью, что народ наш пел и принимал их без подписки, принимал, как себя самого, – пояснял Астафьев. – И не знает до се наш простой люд таких поэтов, как Маяковский и ему подобные, хотя они и со “смыслом”, а вот Есенина знает»[850]. В «затеси» «Есенина поют» (1982) Астафьев в духе близких ему романтических представлений о поэзии изобразил поэта выразителем народной драмы, которому в силу его дарования назначено страдать за всех:
Отчего же это и почему так мало пели и поют у нас Есенина-то? Самого певучего поэта! Неужто и мертвого все его отторгают локтями? Неужто и в самом деле его страшно пускать к народу? Возьмут русские люди и порвут на себе рубаху, а вместе с нею и сердце разорвут, как мне сейчас впору выскрести его ногтями из тела, из мяса, чтоб больно и боязно было, чтоб отмучиться той мукой, которой не перенес, не пережил поэт, страдающий разом всеми страданиями своего народа и мучаясь за всех людей, за всякую живую тварь недоступной нам всевышней мукой, которую мы часто слышим в себе и потому льнем, тянемся к слову рязанского парня, чтоб еще и еще раз отозвалась, разбередила нашу душу его боль, его всесветная тоска[851].
У Астафьева романтическая атрибутика текста (поэт выше земных распрей, он – «Богово дитя»[852]) нейтрализовала политико-символические подтексты, связанные с судьбой Есенина, однако они для самоопределения «деревенщиков» были весьма важны. В. Белов вспоминал совместную поездку с Шукшиным в Вологду и примечательный разговор о Есенине и Алексее Ганине:
Макарыч хмуро слушал трагическую историю о гибели Ганина, а есенинскую судьбу он и без меня знал назубок.
Судьбы русской культуры плотно увязаны с гибелью Пушкина и Есенина. А сколько их было, не менее трагических жизненных финалов, завершавших путь наших национальных творцов! Предчувствия не оставляли и самого Шукшина. После создания сказки («До третьих петухов». – А.Р.) эти предчувствия явно обострились…[853]
Трагические жизненные истории Есенина, Ганина, новокрестьянских поэтов (Николая Клюева, Сергея Клычкова, Петра Орешина) убеждали «неопочвенников» в целенаправленности искоренения крестьянства – хранителя «русскости»[854] «интернациональной» властью и переносились на современную культурную ситуацию, в которой они наблюдали прежнюю картину: «толстокожая марксистская критика» и продвигаемая ею «городская, преимущественно интеллигентская эстетика»[855] все так же ставят заслоны «подлинной (народной) правде»[856].
Писатели крестьянского происхождения хорошо понимали, что ограничение крестьянства в правах было результатом не только репрессивной политики советской власти, но давнего социального и риторического дисбаланса, при котором крестьянин всегда оказывался объектом подчинения и описания, пусть даже и почтительного. Изменить принципы, регулирующие право на культурно легитимное высказывание, и было их задачей. Любопытным свидетельством таких намерений стал инициированный Залыгиным в начале 1980-х годов проект книжной серии «Из литературного наследия». Начаться этот проект, идеально вписавшийся в общую для этого периода и охватившую разные сферы (от архитектуры до книгоиздания) тенденцию к «мемориализации» прошлого, должен был с публикации произведений писателя-самоучки из крестьян Сергея Терентьевича Семенова (1868–1922). Его «Крестьянские рассказы» в начале ХХ века несколько раз переиздавались с предисловием Толстого, отдельные произведения выходили уже в советский период, но к началу 1980-х его имя практически ничего не говорило массовому читателю, так что публикация прозы забытого крестьянского автора была актом просветительским[857]. Тем более любопытно, как Залыгин, написавший вступительную статью к тому прозы Семенова, мотивировал необходимость появления книги. Если оставить в стороне обязательные для риторики подобных проектов рассуждения о памяти, конституирующей человеческое общество, на первом плане окажется признание ограниченности художественного зрения классики:
Разумеется, классика необходима любой литературе, нет классики – нет в полном смысле слова и литературы, нет присущего нации литературно-художественного языка, ни даже соответствующего литературного мышления, однако же при всем при том создает ли классика полную картину реальной жизни народа? <…>
Думаю, что нет – классика неизбежно опускает то бытописание, без которого последующие поколения не смогут понять жизнь своего народа, его эволюцию и происхождение. <…>
Пьер Безухов, Андрей Болконский, Родион Раскольников, братья Карамазовы, Хорь и Калиныч, три чеховские сестры – все это герои настолько известные, что без них мы часто не представляем и самих себя, но ведь кроме них всегда существовали и такие, кто, может быть, никогда не задумывался над проблемами жизни, как их понимали Толстой, Достоевский, Тургенев или Чехов, но тем не менее осуществляли самое жизнь.
И не сложилось ли такого положения, при котором классик неизбежно возводит на пьедестал своих героев, то есть всех тех, кто так или иначе выражает его мысли, все же остальные остаются в неизвестности?
А если так, не поискать ли этих остальных у писателей не гениальных, однако же таких, к которым мы можем испытывать ничуть не меньшее доверие?[858]
В замечании Залыгина об «упущенных» классикой героях крылась своеобразная «корысть»: перечисляя социально-психологические типы, не попавшие в поле зрения классической литературы, он получал возможность узаконить героя собственной прозы ссылками на «неучтенную» культурную традицию:
Наша так называемая деревенская проза, так же, впрочем, как и дореволюционная литература, не сумела создать художественного образа таких людей, как тот же Семенов, или Бондарев (Т.М. Бондарев, философ-самоучка из крестьян. – А.Р.), или Василий Яковенко, организатор и руководитель Тасеевской Советской социалистической волостной республики, впоследствии – нарком земледелия РСФСР.
В нашей литературе нет не только их, людей выдающихся, нет и образа, если так можно сказать, рядового мудреца, без которого редко-редко обходилась сколько-нибудь крупная деревня <…>
В других литературах я такие образы встречал, а в нашей – нет…[859]
Залыгина интересовал культурный генезис «пишущего крестьянина», к какому он относил героя своей статьи и встреченных им в 1930-е годы крестьян, не знакомых с нормами производства письменного текста, но остро чувствовавших потребность перенести свою жизнь на бумагу. В итоге Залыгин, соединив крестьянского писателя Семенова с типом деревенского мудреца-грамотея, с одной стороны, и с русскими классиками, с другой, предложил еще одну риторическую структуру для обоснования «преемственности»: