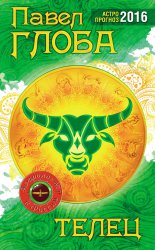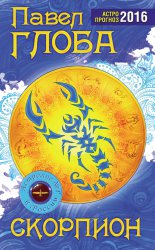Писатели-«деревенщики»: литература и консервативная идеология 1970-х годов Разувалова Анна
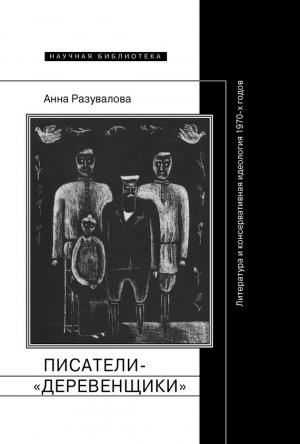
«Прощание с Матерой» – экологический по форме, консервативный по содержанию манифест «неопочвенничества»
Вызвавшая широкий отклик, разобранная критиками и литературоведами на цитаты повесть В. Распутина «Прощание с Матерой» стала, на мой взгляд, наиболее интересным опытом интегрирования экологического дискурса в традиционалистские культурно-философские построения. В середине 1970-х советская критика обозначила очередную актуальную тенденцию в развитии литературного процесса: мейнстрим теперь образовывали произведения о взаимоотношениях человека и природы. Повесть Распутина как нельзя лучше соответствовала этой тенденции, но воплощала ее в эстетически и идеологически нетривиальной форме. На мой взгляд, после публикации именно этой вещи бесспорным стало изменение статуса «разговоров» о «природе и человеке» – теперь уже совершенно определенно «экологическая проблематика стала формировать публичный дискурс»[1056].
Тематически весьма характерная для «деревенской прозы» 1960 – 1970-х годов, повесть Распутина, по точному замечанию Александра Большева, от произведений В. Астафьева, В. Белова, С. Залыгина, В. Солоухина отличалась программностью и апокалиптическим пафосом, в которых исследователь усмотрел влияние Константина Леонтьева, внимательно прочитанного автором «Прощания с Матерой»[1057]. Распутин не просто соотнес чреватое экологическими проблемами затопление земель в ходе строительства ГЭС с разрушением «природного», традиционного мира, но придал этой коллизии притчеобразный характер:
«Прощание с Матерой» – не столько повествование о некоем конкретном затоплении одного сибирского острова, сколько философская повесть, ставящая вопрос о границах и нравственных пределах прогресса. Насыщенно-символическое ее звучание расширяет смысл происходящего до судьбы целой земли, прощания с натурально-природным укладом[1058].
Писатель предложил связную антимодернистскую концепцию, которая трактовала движение человечества по пути прогресса как тотальную деградацию, наступающую вследствие дисбаланса между социальными изменениями и «традицией», механизмами освоения и воспроизведения культурного опыта. Понятно, что проговаривание такого рода идей требовало эстетически убедительного и при этом бесспорного для цензуры повествовательного ракурса, и Распутин нашел его. Фабулу он построил вокруг экстремальной и провоцирующей на смелые мифологические параллели ситуации затопления Матеры (деревня семиотически изоморфна традиционному обществу), а убедительность основополагающей для повести консервативной риторики усилил, передав право развернутого высказывания страдающей стороне – старухе Дарье и ее односельчанам. Антимодернизационный пафос повести был очевиден, поскольку Распутин сделал серьезный выпад не против «издержек» модернизации, но попытался доказать, что производство таких «издержек», когда «некоторая часть существующего населения» объявляется «несоответствующей» новым проектам или «нежелательной»[1059], составляет суть модернизационного процесса.
В литературоведческих работах, посвященных «Прощанию с Матерой», отмечалось, что коллизия повести наметилась в очерке «Вниз и вверх по течению» (1972)[1060], но в нем ведущей повествовательной инстанцией оставался главный герой, наделенный автобиографическими чертами, – состоявшийся писатель, который навещал переехавших из затопленной деревни родителей в новом поселке. Жанровые элементы путевого очерка оправдывали отсутствие идеологического фокуса в произведении, композиционно являвшемся серией эпизодов одного путешествия. Деталей, свидетельствовавших об экологическом неблагополучии родных мест, до неузнаваемости измененных строительством ГЭС (вроде упоминаний о лесе, оказавшемся на дне искусственного моря, необходимости уплывать подальше от берега к середине водоема, чтобы зачерпнуть чистой воды, и т. п.), в очерке по понятным причинам было больше, чем в повести, но, не спроецированные на историософский фон, они остались подробностями нелепой, несколько фантасмагоричной новой жизни старой деревни. Тем не менее, возникновение в очерке «Вниз и вверх по течению» образа сбитого переменами с прежних опор, деморализованного и дезориентированного мира было характерно для писателя, который постепенно склонялся ко все более критичной оценке последствий цивилизационного развития и тем самым опровергал себя прежнего. Дело в том, что в дебютном сборнике очерков Распутина «Костровые новых городов» (1966) встречались ситуации, структурно сопоставимые с изображенными во «Вниз и вверх по течению» и в «Прощании с Матерой», но их драматизм, возможно, даже внятный автору, снимался оптимистичным дискурсом покорения природы и романтизацией героев-преобразователей. В очерке «А потом пройдет поезд» автор упоминал о домике пожилых супругов, который мешает строительству железнодорожного пути и потому подлежит сносу (думается, ассоциативных связей с пятым актом «Фауста» и историей Филемона и Бавкиды Распутин не мог не заметить): «Две комнаты, кухня – и все это в том месте, где будут останавливаться вагоны. Чистые половики, а будут рельсы»[1061]. Если хозяйка предназначенного на снос домика выказывала недовольство ситуацией: «Мой муж тридцать лет проработал на железных дорогах… И вот надо же – мы и попали»[1062], то хозяин был уверен в небесполезности жертвы, которой от них требовала ударная стройка: «Ничего… Переберемся на другое место. Государство не обидит. Зато дорога будет хорошая. Уж работать – так на хорошей дороге»[1063]. Через десять лет, в «Прощании с Матерой» промышленное освоение Сибири методами, игнорирующими специфику местного культурно-хозяйственного уклада, структуру и потребности экосистемы, наконец, самих людей, представлялось автору более чем сомнительной практикой и побуждало к нагнетанию эсхатологических смыслов конфликта между «традицией» и научно-технологической составляющей цивилизации.
В основу историософской концепции «Прощания с Матерой» Распутин положил центральное для консервативной мысли убеждение (и переживание) – разрушение прежнего природного, социального, культурного порядка влечет за собой утраты, масштаб и серьезность которых несопоставимы с сомнительными приобретениями. В повести эти идеи исходят от Дарьи, точка зрения которой, если рассматривать сюжетно-композиционный план произведения и его риторическую организацию, часто совмещается с точкой зрения автора. Естественно, критика обратила внимание на эту досадную «оплошность», допущенную писателем, и укорила его в недостатке объективности. «Он страстно и безоглядно принял правду своей героини, – рассуждал Евгений Сидоров, – и при этом высказал о жизни много верного, наболевшего, но в тенденциозности своей невольно переступил, на мой взгляд, черту объективности»[1064]. Сходный упрек адресовал писателю Валентин Оскоцкий, который посчитал, что «психологически обусловленной ограниченности Дарьи в повести никто и ничто не противостоит»[1065]. Однако Распутин совершенно сознательно уходил от объективности в том ее понимании, которого придерживались критики, указывавшие на отклонение автора от конвенционального для советской литературы изображения мира. Желательным для нормативно-ориентированной советской эстетики было бы уравновешивание «ретроградной» точки зрения Дарьи столь же убедительно продекларированной апологией движения, развития, прогресса, но автор «Прощания с Матерой», заметив, что не дело художественного произведения расставлять точки над i[1066], лишает свою героиню оппонентов, которые в состоянии разговаривать с ней на равных. В повести одним из антагонистов Дарьи выступает ее внук Андрей, однако его эмоциональные высказывания в защиту социальной мобильности, оптимизм в отношении научно-технического прогресса варьируют доводы официального публичного дискурса, то есть «чужого» слова, не опосредованного личным опытом персонажа, и оттого в спорах он выглядит неубедительно.
Распутин первым из «деревенщиков» отказался от исторического антуража при исследовании травматичного уничтожения традиционного мира. Ведь с 1960-х годов «деревенская» литература пыталась осмысливать эти болезненные процессы, обращаясь к событиям коллективизации и современному массовому исходу из села («На Иртыше» Залыгина, повести и рассказы Ф. Абрамова, «Привычное дело» Белова, рассказы Шукшина). «Прощание с Матерой», запечатлевшее исчезновение уцелевшего фрагмента традиционного мира, обнажило условность хронологической локализации травмы, ее трансисторическую природу. По словам впервые обратившей внимание на это обстоятельство Марии Литовской,
Распутин принял на себя сложнейшую обязанность зафиксировать заключительный этап этого распада (патриархального общества. – А.Р.)… При этом он выбрал, может быть, самый непростой путь осмысления проблемы: не через рассказ о «перегибах» советской власти на разных этапах ее развития, не через изображение явного запустения обезлюдевших деревень и отчаянных попыток приспособиться к чужой и чуждой городской жизни тех, кто эти деревни покинул. Писатель показывает, как человек с патриархальным сознанием, столкнувшись лицом к лицу с новой жизнью, сопротивляется, шаг за шагом меняется, не выдерживает, погибает, а вместе с ним навсегда уходит мощный пласт человеческой культуры[1067].
«Естественный, родной <…> мир»[1068], который человечество обменивает на приобщенность к потребительским благам и «полукосмическую виртуальность»[1069], обладает, с точки зрения писателя, ценным качеством «природности», приравненной к «первородности», поэтому пренебрежение им или покушение на него Распутин описывает метафорами с религиозной семантикой – «осквернение», «падение», предательство «вечного» во имя «преходящего». «Вот стоит земля, которая казалась вечной, но выходит, что казалась, – не будет земли»[1070], – констатирует он ситуацию в «Прощании с Матерой»; «на двух сокровищах стояла Аталанка – на Ангаре и на тайге – и ни того ни другого не осталось»[1071], – воспроизводит автор в очерке «Откуда есть-пошли мои книги» то же травматичное переживание исчезновения природного ландшафта, казавшегося если не вечным, то способным пережить человека.
Современная идеология, оправдывающая уничтожение деревень, подобных Матере, необходимостью двигаться по пути индустриального и научно-технического развития, по мысли писателя, является разновидностью революционной идеологии «ломки», объектом которой был и остается традиционный мир. В период перестройки несомненной для него преемственности между революционным энтузиазмом по поводу «переделки» мира и современными призывами к «покорению природы» Распутин уже не скрывал:
Научно-техническая революция свершилась у нас на слабой, полупогребенной духовно-исторической почве – отсюда и явление людей беспородных, потерявших национальные и отеческие корни…[1072];
Неужели века цивилизации не оставили в человеке памяти, которая подсказала бы, что всякий массовый психоз <…> никогда ни к чему хорошему не приводил? Что для благоденствия требуется умная, осторожная и долговременная созидательность, а не атака с ходу? Что скрывать – это (строительство целлюлозных комбинатов, загрязняющих Байкал. – А.Р.) была война, еще одна гражданская война против собственных полей и рек, ценностей и святынь, которая, перекидываясь с местности на местность, длится до сих пор…[1073]
В специальных исследованиях распутинской повести неоднократно анализировалось знаковое противопоставление, во-первых, природного пространства Матеры, обжитого, сакрализованного в силу самой его отдаленности от «большого» мира, искусственному новообразованию поселка для переселенцев, во-вторых, человека традиционного общества, – новому типу людей, чья психологическая конституция и ценностная система определены «неукорененностью», «беспамятством» (отсюда в «Прощании с Матерой» мотивы усталости, «изнуренности»[1074], как бы «бессубъектности» движений и поступков современного человека). Последняя антитеза имеет несомненный романтический генезис. Люди прошлого в «Прощании с Матерой» предстают куда более масштабными и глубокими натурами, нежели современный человек, даже в лучших своих воплощениях (например, Павел Пинигин). В повести вообще преобладает романтическая риторика обесцвечивания, измельчания личности по мере утраты связей с прошлым, предками, родовой памятью, природой, хотя семантика этого традиционного контраста осложняется общим для консерватизма убеждением в коренном несовершенстве человеческой натуры. Характерно, что, воплощая авторскую волю, Дарья ищет – ни больше ни меньше – субстанциальное ядро личности, и наблюдаемая ею чрезмерная пластичность человеческой природы лишь обостряет трагическое мирочувствование героини. Так, она в полной мере осознает существенность влияния на характер внешних обстоятельств, «положения» («Как мало, выходит, в человеке своего, данного ему от рождения, и сколько в нем от судьбы, от того, куда он на сегодняшний день приехал и что с собой привез»[1075]), будучи исключительно целостной и сильной натурой, Дарья, тем не менее, не испытывает иллюзий по поводу целостности и цельности личности («Человек не един, немало в нем разных, в одну шкуру, как в одну лодку, собравшихся земляков, перегребающих с берега на берег, и истинный человек выказывается едва ли не только в минуты прощания и страдания…»[1076]). По Распутину, традиционный, основанный на родстве с природой, труде и памяти образ жизни был, среди прочего, замечателен максимальной приспособленностью для «собирания» личности, он как бы препятствовал ее возможному «развоплощению». Наиболее чуткие герои повести почти физически переживают невозможность быть тождественным себе прежнему и с сознанием ответственности «справлять» собственную жизнь. Болезненным ощущением исчезнувшей прочности жизни делится в повести Павел, который, в отличие от придерживающихся своей правды Дарьи и Андрея, вынужден выступать медиатором между двумя мирами (он чаще, чем кто-либо из героев повести, плавает на Матеру и обратно) и жить в ситуации мучительного отсутствия «коренной правды»[1077], то есть неких бесспорных природных принципов, регулировавших человеческое бытие:
Что и говорить – жизнь настала облегченная. Пришел с работы, умылся и можешь полеживать, в потолок поплевывать, никаких забот, никаких переживаний… Только при этой облегченности и себя чувствуешь как-то не во весь свой вес, без твердости и надежности, будто любому дурному ветру ничего не стоит подхватить тебя и сорвать, – ищи потом, где ты есть; какая-то противная неуверенность исподтишка точит и точит: ты это или не ты? А если ты, как ты здесь оказался?[1078]
Поразительна категоричность, с которой в «Прощании с Матерой» отрицается новый мир, точнее, возможность полноценного существования в нем. Психологически идиосинкразия на перемены мотивируется возрастом и социальным опытом Дарьи. Не случайно Павел, соглашающийся с законностью перемен, но недоумевающий по поводу их непродуманности и поспешности, не может вообразить жизнь матери вне Матеры:
Павел хорошо понимал, что матери здесь не привыкнуть. Ни в какую. Для нее это чужой рай. Привезут ее – забьется в закуток и не вылезет, пока окончательно не засохнет. Ей эти перемены не по силам[1079].
Если Павел надеется, что «жизнь, на то <…> и жизнь, чтобы продолжаться, она все перенесет и примется везде»[1080], то Дарья, напротив, уверена, что существование в согласии с прежними этическими и социальными нормами в «подменном» мире невозможно. Неприятие ею «чужого» и «дальнего» мира как безнадежно «лежащего во зле», безусловно, имеет религиозные подтексты, которые отсылают, в частности, к старообрядчеству[1081]. Ощущение героиней собственной вытесненности из жизни достигает апофеоза в финале повести, где автор намеренно сталкивает читательское ожидание гуманного варианта сюжетной развязки, подсказываемой здравым смыслом (катер найдет дорогу в тумане и заберет оставшихся на острове людей), и необычайно мощно выраженную иррациональную догадку героев, не видящих для себя завтрашнего дня («Дня для нас, однако, боле не будет»[1082]) и готовых погибнуть вместе с островом:
– Где мы есть-то? Живые мы, нет?
– Однако, что, неживые.
– Ну и ладно. Вместе – оно и ладно. Че ишо надо-то?
– Мальчонку бы только как отсель выпихнуть. Мальчонке жить надо. <…>
– Нет, Коляню я не отдам. Мы с Коляней вместе[1083].
Подчеркнутое Распутиным при помощи мотивов, восходящих к утопическим нарративам, идеальное совмещение в пространстве Матеры «природного» и «социального» делает ее самоценной «органической» единицей. Большинство глав повести программно открывается картинами природно-погодных изменений, в согласии с которыми всегда жили деревня и остров. Нарушение природного ритма и хозяйственного цикла, выпадение Матеры из него, по ощущениям Дарьи, становится одной из главных примет наступивших для деревни «последних времен»:
Все это бывало много раз, и много раз Матера была внутри происходящих в природе перемен, не отставая и не забегая вперед каждого дня. Вот и теперь посадили огороды – да не все: три семьи снялись еще с осени, разъехались по разным городам, а еще три семьи вышли из деревни и того раньше, в первые же годы, когда стало ясно, что слухи верные. Как всегда, посеяли хлеба – да не на всех полях: за рекой пашню не трогали, а только здесь, на острову, где поближе. И картошку, моркошку в огородах тыкали нынче не в одни сроки, а как пришлось, кто когда смог: многие жили теперь на два дома, между которыми добрых пятнадцать километров водой и горой, и разрывались пополам. Та Матера и не та: постройки стоят на месте, только одну избенку да баню разобрали на дрова, все пока в жизни, в действии, по-прежнему голосят петухи, ревут коровы, трезвонят собаки, а уж повяла деревня, видно, что повяла, как подрубленное дерево, откоренилась, сошла с привычного хода[1084].
«Царский листвень», соотнесенный с мифологическим «древом мира» («Неизвестно, с каких пор жило поверье, что как раз им, “царским лиственем”, и крепится остров к речному дну, одной общей земле, и покуда стоять будет он, будет стоять и Матера»[1085]), и анимистическое воплощение духа острова – Хозяин также делают Матеру уцелевшим фрагментом древнего «естественного» пространства. Писатель, по-видимому, рефлексировал на культурные корни собственного восприятия природы и был готов признать в нем и рудименты архаического, «первобытного» ее переживания (природа есть самостоятельный, автономный мир)[1086], и воздействие христианского креационизма (природа – творение Бога), но в любом случае ядро этих представлений составлял взгляд на природу как на воплощение смысла, красоты и гармонии, эволюционно предшествующее зависимому от нее человеку, взгляд, полемичный по отношению к антропоцентризму и позитивистскому намерению рационально объяснить «тайны природы».
Если говорить о структуре и семантике метафор, актуальных для «экологии природы и духа» в целом и для Распутина в частности, то нужно отметить принципиальное, в силу многократно обыгранного этимологического родства, знаковое сближение «деревенщиками» понятий природа – родина – народ, и исключительную роль ландшафтных образов в самоидентификации «своего» сообщества. Культурная политика, «использовавшая» образы природных и историко-культурных ландшафтов для формирования позднесоветской «синтетической» идентичности[1087], стала проводиться примерно с середины 1960-х годов, и воссоздаваемые «деревенщиками» многообразные картины российских ландшафтов (от «скромных» северно-русских до «ярких» сибирских) замечательно укрепляли «чувство родины» и углубляли «историческую память». Показательно, что в понятии «родина» для Распутина оказывался несущественным, например, институциональный аспект, а социальный был интересен, в основном, в формах, раскрывавших романтические представления о «душе народа». Напротив, аспект «натуралистический», природно-ландшафтный, работающий на «примордиализацию и… натурализацию видения нации»[1088], находился в приоритете. По Распутину, первое, непосредственное, живое чувство «родины» возникает и закрепляется через образы геокультурного ландшафта. В беседе с биологом Рюриком Саляевым прозаик заявлял, что «порча» ландшафта и пренебрежительное отношение к естественным ресурсам вовсе не безобидны, ибо вызваны разрушением традиционных ценностных структур:
Вода ничего не стоит, воздух ничего не стоит – поэтому можно их загрязнять, земля ничего не стоит – поэтому можно ее топить или превращать в пески… Это значит – и Родина ничего не стоит и годится, чтобы производить на ней рискованные опыты?[1089]
По утверждению Распутина (и в этом он близок другим «деревенщикам», реинтерпретировавшим руссоистские доводы о «естественном человеке», которого делала таковым близость к природе), «природа воздействует на нас больше, чем мы подозреваем. Человек чище становится, когда он живет в нетронутой природе»[1090]. Отсюда вытекает понимание преступлений против природы как преступлений против человеческой нравственности (например, о затоплениях деревень при строительстве ГЭС: «И вместе с лесом под воду пошла народная нравственность…»[1091]). С точки зрения Распутина, варварское отношение к природе чревато не только ухудшением параметров экологического состояния среды обитания, но, если пользоваться стилистикой и метафорикой «неопочвеннической» публицистики 1970-х, – «отчуждением» человека от природы, деморализацией граждан, которые превращаются в «потребителя, проживающего свою жизнь на этой земле»[1092].
Ситуацию «отчуждения», в которой «деревенщики» видели один из многих негативных эффектов модернизации, Распутин вводит в рамки дискурса внутренней колонизации. Обезличенная, но могущественная власть предстает в его повести безразлично жестокой по отношению к собственному народу, перекраивающей его жизнь и лишающей его пространства существования (то есть насильственно «отчуждающей» людей от их земли). Такая позиция даже стоявшим на национально-консервативной платформе, но государственнически настроенным коллегам писателя, вероятно, казалась слишком категоричной. Не случайно Юрий Селезнев, принявший участие в обсуждении распутинской повести на страницах «Вопросов литературы»[1093], характерным образом сместил акценты. Чтобы растолковать читателю посыл «Прощания с Матерой», он ввел пару метафор: первая – «земля» – отсылает к романтической органицистской парадигме (это то, с чем человек нерасторжимо связан от рождения, предельно «овеществленная» родина), вторая – «территория» – элемент государственно-бюрократических языка и практик. «Народ», если вспомнить еще одну популярную у «неопочвенников» пару метафор, теряя связь со своей «землей», превращается в «население», занимающее определенную «территорию». Главный, по мнению критика, вопрос, «Прощания с Матерой», – «кто нам земля: мать родная или мачеха? Земля, взрастившая, вскормившая нас, или же только “территория”?»[1094]. Однако государство как некую безликую силу, от которой исходит решение о строительстве ГЭС и последующем затоплении («отчуждении») обжитых земель, Селезнев выводит из зоны критики и даже реабилитирует («это голос, – корректировал он некоторые вызывающие реплики Дарьи, – не “супротив” государственной воли, той, что на его же благо»[1095]). Тем не менее, вопрос «кто виноват в отчуждении?» критика волнует, и он фокусирует внимание на конфликте «двух мироотношений»[1096] – «народного сознания», «не вполне еще согласующегося с пониманием общегосударственных мероприятий»[1097], и сознания «жучков-короедов» (интересно, что семантика последнего образа логически связана опять-таки с «русским лесом», мощь которого незаметно подтачивается «вредителями»):
Если земля – территория и только, то и отношение к ней соответственное. Землю (курсив автора. – А.Р.), родную землю, Родину – защищают, освобождают. Территорию – захватывают. Хозяин – на земле, на территории – покоритель. <…>
«Маленький» Жук… Жалкие жучки-короеды мертвят вековечные дубы. Маленькие сами по себе, они приносят огромный вред[1098].
В «Прощании с Матерой» противопоставление «своих» и «чужих», усиленное зооморфными характеристиками «чужаков» и семантикой инфернального, действительно, имело сюжетообразующий характер. Более того, Распутин, за редким исключением (Клавка Стригунова, Петруха), идентифицировал разрушителей Матеры (товарищ Жук, бригада пожогщиков, присланные санэпидемстанцией работники и др.) как изначально находящихся вне ее мира. Правда, по своей социальной роли все они были «исполнителями», агентами некой силы, решающей судьбу «граждан затопляемых»[1099], но при этом не локализованной и, несомненно, отдаленной от преобразуемого строительством ГЭС пространства («…физическая удаленность от Байкала сказывается и на удаленность научную, да и нравственную порой тоже»[1100], – замечал потом Распутин). Если историзовать формы культурной репрезентации этого конфликта, то корни его обнаружатся, среди прочего, в областничестве, представители которого активно протестовали против колониального освоения Сибири рекрутированными из центра работниками, «наезжими», не планировавшими как-либо связывать себя с этой территорией. Лейтмотивная для «сибирской» публицистики Распутина критика вахтового метода, процессов вымывания гражданского чувства в сибиряках, абсентеизма в каком-то смысле была навеяна антиколониальными идеями Николая Ядринцева и Григория Потанина[1101], хотя, конечно, первоначальным импульсом тут послужила практика советского освоения Сибири. В отличие от более поздних публицистических работ Распутина, в «Прощании с Матерой» конфликт «своих» и «чужих» был намечен, но концептуально не прояснен. Он являлся лишь средством уточнения основной сюжетной коллизии, элементом довольно сложной художественно-идеологической структуры. В упомянутой же статье Селезнева перед нами типичная для критико-публицистического текста редукция этой структуры к обозначенному конфликту. Повесть Распутина, как полагает М. Литовская, содержала на редкость трагическое видение хода и последствий перемен: носители патриархального сознания уходят из жизни, их опыт остается невостребованным, молодое поколение усваивает необременительные истины о ценности новизны и монументальности, среднее поколение, трезво осознающее кризисность сложившейся ситуации, слишком устало и надорвано происходящим[1102] – в итоге возникал неутешительный образ непоправимо дестабилизированного, распадающегося мира, который существует на руинах ставшей миражом жизни. Однако использовать в борьбе с идеологическим противником эту сложную амальгаму смыслов распутинской повести, не извлекая из нее простых и понятных выводов, было невозможно. Неудивительно, что Селезнев вычленяет в повести наиболее актуальные для национал-патриотов мифо– и идеологемы и впоследствии оперирует ими. Так, первостепенными в экологической прозе «деревенщиков» становятся критика неукорененности, «чуждости» в любых ее проявлениях, апелляция к «душе» / «сознанию» народа или, в более поздний период, призывы к возрождению соборности, национального самосознания и т. п. Впрочем, некоторые произведения «деревенщиков» второй половины 1980-х годов (прежде всего «Пожар» Распутина, в связи с которым критика заговорила об усилении публицистического начала в прозе писателя) создавались уже как прямое идеологическое высказывание, обремененное минимумом подтекстов.
В годы «перестройки и гласности» близкий процесс высвобождения этнонационалистических подтекстов «экологии природы и духа» происходил в национально-консервативной публицистике. Выразительный пример трансформации биолого-экологической проблематики в эко-националистический традиционализм – публицистические работы Ф. Шипунова, с которым по роду деятельности общались В. Распутин и В. Белов, под влиянием которого находился В. Крупин. Шипунов – биолог и эколог, закончивший Ленинградскую лесотехническую академию, активно участвовавший в осуществлении проекта Кедрограда, работавший в Институте биосферы АН СССР, один из руководителей Общественного комитета спасения Волги, автор книг «Организованность биосферы» (1980), «Оглянись на дом свой» (1988), «Истина великой России» (1992)[1103]. На рубеже 1980 – 1990-х годов он приобрел широкую известность благодаря исследованиям, пользуясь его же определением, «волновой функции Вселенной»[1104], которую он старался замерить с помощью жидкокристаллических датчиков. Шипунов настаивал на том, что результаты его наблюдений за электромагнитной матрицей доказывают существование как «антимира», так и сакрального, «промоленного» пространства. По роду профессиональной деятельности его интересовала идея биосферы, изучение которой в какой-то момент он сознательно вывел из поля рациональных научных норм и стандартов, посчитав, что наука есть низшая форма знания, бесплодная без богословской основы. Как следствие, корреляция между состоянием природной среды (биосферой) и духовным состоянием человека / общества, столь занимавшая «деревенщиков», у Шипунова вышла далеко за рамки традиционного метафорического уподобления и – в развитие идей Александра Чижевского и Вернадского – была положена в основу его сколь научной, столь и идеологической концепции. Исследователь позиционировал себя в качестве православного, но предпочитал оперировать понятием «космос», подразумевая под ним высший разум и совершенные формы организации материи (примечательно, что среди наиболее почитаемых Шипуновым историков был Л. Гумилев). Биосфера, по Шипунову, есть «планетное живое тело, микрокосм… иного порядка»[1105], который планомерно разрушается человечеством, оказавшимся во власти Хаоса и отбросившим принципы экологической этики. Национальный мир, «историческую Россию» исследователь характеризовал как идеальную форму организации социальной, точнее, социально-природной жизни (русская монархия, с его точки зрения, была «чудом природы»[1106], русский народ в хозяйственной деятельности ориентировался на поддержание экологического равновесия в окружающей среде, интенсивная церковная жизнь позволяла достичь «соборного» состояния коллективного духа и т. п.). Однако, продолжал Шипунов, «ненавистники России»[1107], «вероломные и коварные супостаты»[1108], «пресловутая, жестокая, безнравственная и бездуховная интеллигентная когорта русских интернационального покроя»[1109] осуществили политический переворот и превратили «самое сложное, самое многогранное, самое многонациональное и в то же время самое самобытное и великое государство, какое когда-либо существовало в истории мира»[1110], в «рабовладельческое псевдогосударство <…> где уничтожены элементарные основы существования веры, семьи, собственности и свободы»[1111]. Тотальное экологическое бедствие, в которое погружена современная Россия («ни одной экологической системы не осталось неискалеченными, неизуродованными, неизгаженными, неразрушенными, неотравленными»[1112]), Шипунов выводил из следования ложной аксиоматике марксизма, утрировавшего идею классовой вражды, но игнорировавшего идею солидарности[1113]. Взаимозависимость между ущербом экологическому состоянию окружающей среды и демографическим, хозяйственным, культурным кризисом, ознаменовавшим закат советского проекта, казалась Шипунову настолько безусловной, что он не обременял себя обнаружением ее причинно-следственных оснований. Выступая в 1989 году в московском Доме художника, он объяснял экологическую катастрофу на Волге масштабными репрессиями 1930-х годов:
На Волге произошла экологическая катастрофа, и великое, изобильное стадо осетровых находится на краю гибели. В тридцатых годах некуда было девать огромное количество заключенных, те миллионы человек, которые назывались кулаками и подкулачниками, и которые не только кормили наш народ, но и давали физически здоровых воинов, талантливых промышленников, рабочих, интеллигенцию, духовенство и т. д. Вот эти народные кормильцы и были брошены на уничтоженье, как вражий класс, в пекло «строек коммунизма», в руки палачей ОГПУ. Большая часть их сгибла там! А результат – гигантская экологическая трагедия общеволжского масштаба[1114].
В общем, критика репрессивной по отношению к человеку и природе советской системы у Шипунова, как и у многих «неопочвенников», выступала риторическим средством «отстранения» от нее, но в его представлениях отождествление эко-биологического с этническим и политическим работало как методологический научный принцип, а не старая натурфилософская метафора. Его квазинаучная концепция[1115], в основных своих «мотивных» идеологических компонентах близкая «деревенщикам», представляла собой адаптированный к массовому вкусу национально-патриотической аудитории конца 1980-х годов дайджест «неопочвеннических» эко-историко-идеологических взглядов[1116].
От экологизма к эсхатологизму
Экологическое движение, чьим рупором во второй половине 1980-х были «деревенщики», в этот период пережило подъем, а затем, в начале 1990-х годов пошло на спад. Поначалу Залыгин, Распутин, Белов, Астафьев активно участвовали в создании экологических организаций и в различного рода экологических инициативах, выступали в печати, полагая, что начавшиеся общественные перемены – исторический шанс для восстановления русского народа и среды его обитания. Широкая экологическая деятельность, отмена правовых и экономических решений, противоречивших природоохранным принципам, казались им тогда лучшей возможностью для гражданского оздоровления общества:
Кто подсчитал, сколько граждан своего отечества «уничтожено» одним только промышленно-силовым вмешательством в Байкал! Не на поле боя, а в мирные дни, во имя якобы государственного блага. А результат тот же: нет у нас этих граждан, они или водку пьют, или тайгу грабят и посмеиваются над нашими усилиями отстоять народную нравственность. И сколько людей теперь мы можем вернуть из того беспорядочного состояния, где живут по принципу: «А нам все равно», если возьмемся за решительную охрану природного лика своей Родины[1117].
Но уже в 1994 году Залыгин констатировал крах надежд на создание общегражданского экологического движения и невостребованность идей, которые могли бы лечь в основу его программы:
В экологическом движении полный упадок и даже нет сравнения с годами начала перестройки, когда общественность остановила пресловутый «проект переброски рек», когда экологическая тема изо дня в день фигурировала на страницах периодической печати и депутаты всех уровней занимали депутатские места при условии, что они клялись защищать природу[1118].
Экологическая проблематика из прозы «деревенщиков» на рубеже 1980 – 1990-х практически полностью перекочевывает в публицистику, где дискурс внутренней колонизации переплетается с антиколониальным дискурсом. В наибольшей мере это касается статей В. Астафьева и В. Распутина, переосмыслявших областнические идеи применительно к современной ситуации на близком им сибирском материале. Посыл их публицистики соединял реформистский пафос (поскольку, анализируя колониальную политику центра в отношении Сибири, писатели подразумевали альтернативный тип взаимоотношений), с рессентиментными нотами, ожидаемыми для сложной комбинации антиколониальных и (пост)внутреннеколониальных идей. Таким образом, экологизм «деревенщиков» продолжал существовать в полемике с централистскими технократическими инициативами и в тесной связи с проблемами региональной идентичности, оставаясь все тем же вариантом глобального сотериологического дискурса, в рамках которого экологии придавался надгрупповой объединяющий статус, а ее принципы провозглашались универсальными ориентирами для современного человечества:
Вот и экология нынче тоже безгранична. Она не знает, что она есть – наука или массовое общественное движение? практика или теория? мышление или поведение? прагматизм или альтруизм? Является ли она постоянной или только эпизодической составляющей нашей духовности? Но известно только, что она необходима, что без нее мы перестанем быть.
Экология сегодня – это, вернее всего, тот разумный консерватизм (разрядка автора. – А.Р.), который не отрицает завтрашнего дня, но и не рвется в него, пренебрегая днем сегодняшним. Для разумного консерватизма важно, чтобы завтра было хотя бы не хуже дня сегодняшнего… Этот постулат уже сдерживает наши потребности, соответствует и реальной жизни, для которой один день и целая вечность равнозначны[1119].
Рассуждения Залыгина возвращают нас к болезненному вопросу о причинах, по которым в 1990-е годы экологическая проблематика (в том числе в традиционалистской ее аранжировке) выбыла из негласного перечня острых, интеллектуально модных тем. Постепенное охлаждение к ней мало связано с «саморазоблачением» «деревенщиков»: дескать, вчерашние фрондеры обманули ожидания аудитории и обнаружили свое подлинное лицо – ретроградов, проповедующих изоляционизм и нежизнеспособные социальные идеалы. «Деревенщики», ставшие на рубеже 1980 – 1990-х, безусловно, более агрессивными в силу фрустрированности переменами, более резкими в своих этнофобских высказываниях – в силу тех же причин, в главном остались прежними: они продолжали утверждать идею «органического», постепенного, избегающего «ломки» развития. «Подготовьте почву, которая будет лучше и надежней прежней, тогда и пересаживайте, но не вырубайте сгоряча»[1120], – рассуждал Распутин о ходе социально-экономического реформирования в начале 1990-х. Он же недоумевал:
И удивительно, что повторяются те же самые методы. После революции силой утверждалась идея, проводилась коллективизация, теперь точно так же утверждаются голый расчет и расколлективизация. <…> В крайностях мы всегда преуспевали. И сейчас, похоже, не хотим от них отказываться[1121].
Такого рода «постепеновство» в глазах большой части интеллигенции перестроечной поры выглядело устаревшим, неэффективным в стремительно меняющейся ситуации и политически скомпрометированным союзом с антиреформаторскими силами. Консерватизм, окруженный налетом оппозиционности в конце 1960-х – 1970-е годы, теперь не воспринимался в качестве сколько-нибудь продуктивной стратегии развития. «Деревенщики» же в реформах конца 1980-х – начала 1990-х увидели осуществление самых мрачных пророчеств об утрате Россией не только национальной самобытности, но и самостоятельности в качестве субъекта мировой (гео)политики. Это, безусловно, укрепило их во мнении о тяжести моральных и интеллектуальных заблуждений, постигших (пост)советское общество, дало лишний аргумент в пользу апокалиптического видения происходящего[1122] и в конечном итоге способствовало радикализации их культурно-идеологической позиции.
Публицистика «деревенщиков» конца 1980-х – 1990-х годов оперировала все той же основополагающей метафорой: народ – природный организм[1123], проходящий в своем существовании предусмотренные биологией растения фазы (типологически подобная метафорика характерна для большинства историософских концепций консервативного толка, достаточно вспомнить об идеях популярного у «неопочвенников» Константина Леонтьева; теоретическое обоснование подобных взглядов в позднесоветской культуре принадлежало Л. Гумилеву и Юлиану Бромлею[1124]). Приверженцы «органического» восприятия социума обычно неравнодушны к причинам и факторам, способствующим нормальному развитию организма либо препятствующим таковому. Отсюда «посттравматичное» внимание к силам, противодействующим «русскому возрождению», ставшее отличительной чертой позднесоветской национально-патриотической идеологии. Окончательный распад прежнего символического порядка на рубеже 1980 – 1990-х, ликвидация цензуры, стимулировавшей в предыдущее десятилетие поэтику намеков и иносказаний в разговоре о «противнике», наконец, сам характер реформ, по мнению «неопочвенников», непродуманных, прозападных, только усилили убежденность в наличии долговременного, целенаправленного сопротивления национальным (народным) интересам.
В 1990-е – начале 2000-х годов «деревенщики» были сосредоточены на причинах и обстоятельствах «русской трагедии», включая травмы постперестроечного периода. С одной стороны, они вели речь о серьезности понесенных русским народом в ХХ веке потерь и видели в современной ситуации успешную попытку скрытых и явных врагов погубить Россию. С другой стороны, они признавали, что ожидаемой консолидации национального сообщества перед лицом противника не происходит. Это заставляло их с удвоенным пафосом говорить об «одурманенности» народа, иссякновении у него сил. Неудивительно, что со временем публицистика «деревенщиков» превратилась в рефлексию фундаментальных утрат, обнаруживаемых не только в существе советского опыта, но и – более широко, поскольку этот опыт есть выражение негативных эффектов модернизации, – в опыте современного человека, причем средством артикуляции новых философско-идеологических смыслов осталась все та же природно-экологическая метафорика. Астафьев, например, компрометировал советский опыт, не имевший, с его точки зрения, аналогов по степени экстремального напряжения, напоминанием о тотальном разрушении большевиками «природных» оснований бытия.
…Большевики, начавшие свой путь с отнимания и уничтожения хлебного поля и его творца, – есть самые главные преступники человеческой, а не только нашей, российской истории. Разрушив основу основ, они и себя тут же приговорили к гибели, и только стоит удивляться, что и они, и мы еще живы…[1125] –
писал этот наиболее воинственный антикоммунист среди «деревенщиков», хотя в целом использованная им аргументация мало чем отличалась от аргументации его коллег с противоположными политическими взглядами. Пессимистические прогнозы, которые с середины 1980-х годов периодически делал Астафьев (даже с учетом крайней категоричности его суждений), отражали более или менее единое для поздних «деревенщиков» представление об утрате человеком своей «природной» сущности, и недавний оптимизм, обусловленный приостановкой проекта переброски северных рек, картины кардинально не менял:
Повидавший разгром природы на Урале, гибель деревень в средней России и наблюдая варварское, колониальное отношение к природе, земле и богатствам великой, богатейшей отчизны под названием Сибирь, с горьким недоумением глядевший в погибшие воды рек Европы <…>, я никакого оптимизма насчет будущего земли высказать не могу, хотя и рад бы.
По этой же причине не верю и в мировую гармонию, тем более достижение ее посредством научно-технической революции. <…> Мне иногда кажется, что человек занял чье-то место на земле, сожрал на ходу того, кому была предназначена эта прекрасная планета, и даже не заметил этого. Не верю, не хочу верить, чтобы такие дивные и беззащитные цветы, деревья, животные предназначены были для того, чтобы туполобое существо растаптывало их, сжигало, обхаркивало, заваливало дерьмом[1126].
Пессимизм того же Астафьева в этот период принимал подчас тотальные формы, высказанные им и другими «деревенщиками» предложения прибегнуть к мерам воспитательного воздействия на дезориентированного человека (начиная от уроков природоведения в школе и заканчивая обязательным участием в экологических акциях), следуют гуманистической традиции уже не из внутренней убежденности в ее правомочности, а скорее по инерции. Возвращаясь к идеям, некогда высказанным Александром Солженицыным в работе «Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни» (1973), писатели-«неопочвенники» заявляли о необходимости отказаться от консюмеристских идеалов и руководствоваться при определении темпов и масштабов промышленного роста аскетической моралью, но, судя по всему, особых иллюзий по поводу благоприятного экологического сценария мирового развития никто из них уже не питал. В 1989 году в статье, заглавие которой «Сумерки людей» открыто демонстрировало скепсис в отношении антропоцентризма и такой «абстракции»[1127], как гуманизм, Распутин писал:
Только чудаки, которых никто не слышит, говорят сейчас о необходимости распределения ресурсов во времени; только блаженные от нищеты духа, по общему мнению, продолжают твердить о равных правах на жизнь одинаково как человека, так и всякой земной твари, волею эволюции и обстоятельств оказавшейся в зависимости от человека[1128].
Но, заключал писатель, «…человечество не собирается расставаться со своими пагубными привычками, и, стало быть, горизонты мрачных перспектив определить не представляется возможным»[1129]. Будучи «продуктом» заключительной фазы просветительского проекта, сформированные – как социально-культурный тип – его идеями, символами, риторикой, «деревенщики», по сути, пришли к разочарованию в нем и почти трагичной оценке его последствий. В статье «Сколько лет будет в XXI веке?» (1997) Распутин описал трансформацию экологического движения, которое в ходе развития цивилизации по пути прогресса приняло «совершенно немыслимый прежде характер протеста – борьбу не за политические и социальные права, не за то, как лучше жить, а за право на выживание»[1130]. Словно развивая доводы главной героини «Прощания с Матерой», он утверждал, что жизнь, удалившаяся от «природного своего происхождения»[1131] и превратившаяся в химеру, сулит впереди только «убывающий свет, неминуемое разорение. Врученные человеку дары свободы оказались для него непосильными»[1132]. Провозглашенный в очередной раз философами, социологами, политиками постгуманистической ориентации проект создания нового человека, соответствующего параметрам современной цивилизации, по Распутину, определенно будет бесплодным, поскольку не предполагает главного – спасительного возвращения к «древним заветам» и «светлым целям»[1133]. Прозаик даже допускал создание в будущем «искусственного человека» (это знаменовало крайнюю степень безнадежности), и его пессимизм красноречиво свидетельствовал о глубине кризиса традиционалистской идентичности, о невозможности описать открывающиеся перспективы иначе, нежели в духе самых мрачных антиутопий – и потому что спрогнозированное будущее пугает, и потому что иного языка для его описания у традиционалистов нет. В общем, этот консерватизм все более очевидно становился разновидностью эсхатологии:
…убитый человек, убитая земля. Ничего не поделаешь, приходится верить в эру рукотворных материалов вместо минерального сырья, в «новый железный век»… в искусственную пищу, в искусственный интеллект, который позволит с благодарностью принять «достижения», но все это будет, по правде говоря, не что иное, как каннибализм[1134].
Уточняя идею С. Ушакина о постсоветских «сообществах утраты», Марк Липовецкий утверждал, что последние, будучи «ярким примером новых, постсоветских форм социальной самоорганизации»[1135], сосредоточены на интериоризации насилия и делают это по образцам хорошо знакомого советского культурного синтаксиса. Языки и практики «сообществ утраты», продолжает Липовецкий, могут показаться новыми, но на деле являются «“бриколажем” осколков позднесоветских дискурсов в новые композиции»[1136]. Один из исходных элементов «бриколажа», по мнению исследователя, – идеология «русской партии» «долгих 1970-х» и выступления журнала «Наш современник»[1137], утверждавшие особое, в силу исключительности перенесенных страданий, положение России в мировой истории ХХ века. Публицистику «деревенщиков» постперестроечных лет, вероятно, тоже можно отнести к числу источников, эмоционально подпитывавших концепции постсоветских «этнотравматологов» и «этновиталистов»[1138], и вместе с тем увидеть в ней эпилог повествования об «утрате», складывавшегося в 1970-е (хотя, разумеется, описанные Ушакиным попытки некоторых постсоветских сообществ «артикулировать новую жизнь в терминах отсутствия»[1139] в период «транзита» идеологий в 1990-е – начале 2000-х отличаются от способов рефлексии «потери» и практик предъявления «боли», сформированных «долгими 1970-ми» и откорректированных идеологическим коллапсом рубежа 1980 – 1990-х).
Продемонстрировать, насколько «естественно» использование некоторых «неопочвеннических» идеологем в теоретических конструкциях, возникших в постсоветский период, можно ссылкой на концепцию «экологической геополитики». Ее в начале 2000-х годов в серии статей обнародовал Юрий Новоженов, зоолог, профессор Уральского университета, еще в 1980-е годы читавший спецкурсы по социобиологии в вузах Екатеринбурга. В СССР у социобиологии был странный статус. Несмотря на официальную критику различных видов «биологизаторства», идеи этологии, а с середины 1970-х, после выхода знаменитой книги Эдварда Уилсона[1140], – социобиологии[1141] все шире распространялись в советском научном сообществе[1142], тем более что в СССР были ученые, давно и успешно работавшие в том же направлении (одна из наиболее ярких фигур – генетик Владимир Эфроимсон[1143]). Вопрос о роли биологических факторов (прежде всего наследственных) в развитии личности, о природно-биологической основе разных форм социальности в СССР невозможно было отнести к «чистой» науке, поскольку любым своим поворотом он затрагивал центральную проблематику советского проекта – формирование новых человека и общества. Советские марксисты, по замечанию Л. Грэхэма, в целом отдавали предпочтение «среде», хотя периодически здесь наблюдались известные колебания[1144]. Тем не менее, в 1970 – 1980-е годы среди «советских интеллигентов было распространено мнение, что всякие попытки биологических объяснений проблемы человеческого поведения автоматически означали их антисталинистскую направленность…»[1145], и это обстоятельство усиливало интерес к попыткам социобиологического объяснения исторических и политических процессов. Я уже отмечала, что фактов, подтверждающих знакомство «деревенщиков» с этологическими или социобиологическими концепциями, нет, хотя пассивного внимания писателей к дискуссиям в советской прессе о роли биологического и социального исключить нельзя. Между стремлением социобиологов «пользоваться базовыми парадигмами популяционной генетики»[1146] и анализировать роль биологических факторов в формировании социальных институтов, с одной стороны, и руссоистской апологией «деревенщиками» таинственного, неопределенного, но могущественного «природного», утрачиваемого современным человеком, есть очевидное различие в изначальных эпистемологических установках, категориальном аппарате, инструментарии, риторике. Однако, как показывают работы Новоженова, в отечественной интеллектуальной традиции комбинация новых сциентистских подходов с поэтизацией домодерных «естественности» и «природности» с целью критики модернизационных травм – возможна и даже ожидаема. Три «источника и составные части» «экологической геополитики» Новоженова индентифицируются легко: во-первых, это социобиология с ее интересом к детерминации социальных установлений биологическими программами; во-вторых, «экология природы и духа» с характерным для концепции Л. Гумилева «биогеографическим» креном[1147]; в-третьих, критика цивилизации в духе Николая Данилевского и Освальда Шпенглера. Новоженов исходит из того, что в ситуации политико-экономического кризиса 1990-х годов и инициированного «мировым правительством» движения России по пути глобализации важнейшей задачей для народа становится сохранение «природных ресурсов своего местообитания, т. е. своего “кормящего ландшафта”, как называл это жизненное пространство Л.Н. Гумилев»[1148]. Привязка этноса к «экологической нише», с его точки зрения, родственна социобиологическому пониманию «территориальности» – контроля над пространством и его приспособления под собственные нужды[1149]. Принципом «территориальности» автор обосновывает необходимость автаркии (генетической «привязки» популяции к своему типу ландшафта). Если автаркия оправдана своим «социобиологическим» происхождением, то противоположный ей механизм глобалистской интеграции, разрушающий популяционную структуру вида, дискредитирован «антиприродностью»:
Адепты современной интеграции хотят переселить жизнь на Земле в мировой город.
Но «к мировому городу принадлежит не народ, а масса», – пророчествовал еще Шпенглер, и это, как нам кажется, возможный основной разрушительный итог интеграции.
Сколько на Земле было и есть популяций человека, столько было и есть культур, а также языков, коллективных психологий, способов освоения пространства, нравов и образов жизни, поверий и обрядов, традиций и правил общежития, т. е. всего того, что составляет сущность культуры любого народа.
Однако экспансия по всему миру американской потребительской урбанизированной антинациональной культуры ведет к уничтожению других культур[1150].
Разъяснение Новоженовым экологических и политических преимуществ автаркии венчается характерно «почвенническим», имеющим прямые аналогии в сочинениях «деревенщиков», акцентом – идеальным проводником социобиологически продуктивной автаркии является только крестьянин, земледелец:
Культура народа умирает, когда исчезает земледелец – связующее звено между популяцией и природой[1151];
Жизнь на земле существует благодаря солнцу, лучи которого улавливает земледелец, чтобы создавать физическую и духовную пищу. Это он порождает основу, на которой зиждется культура: без Арины Родионовны не было бы Пушкина.
При утверждении интеграции национальные культуры превратятся в космополитическую цивилизацию, в которой не будет места крестьянину.
Без территории нет популяции и культуры, а без крестьянина нет независимого автаркичного государства…[1152]
По существу, Новоженов гораздо более откровенно, чем «деревенщики», обозначил скрытый в «экологии природы и духа» потенциал антиглобализма и этнонационалистического партикуляризма[1153]. Почти экзистенциальный страх утратить связь с «почвой», выраженный в 1990-е годы в публицистике Распутина или Белова, здесь привел к формированию «негативистской» экологии, стимулируемой не столько положительной гражданской деятельностью, сколько стремлением избежать разрушительного влияния со стороны Чужого.
«Неопочвеннический» регионализм и кризис модернизационно-колонизационного проекта
О. Яницкий позднесоветскую экологическую культуру называет «культурой ценности места»[1154], в основу которой положены антимобилизационная и антитехнократическая потребности советского общества:
Экологическая культура 1960-х гг. – это культура ожидания и больших надежд на спокойную мирную жизнь тех, кто выжил, и их потомков. «Нам и внукам» – так называлась одна из первых в послевоенные годы книг в защиту природы, написанная Д.Л. Армандом (1964). «Чтобы только не было войны» – этот общенародный рефрен относился не только к «миру», это было стремление к жизни спокойной, безопасной, обустроенной. Всенародное ожидание наступления, наконец, некоторой определенности, повторяемости повседневной жизни, ее предсказуемости и оседлости. <…> Другая сторона экологической культуры этого периода – это ее антитехнократизм, отрицание насилия, директив сверху, гигантомании и уничтожения привычной среды обитания. Примеры таких протестов общеизвестны: против строительства ЦБК на Байкале, гигантских проектов мелиорации, позже – против переброски части стока сибирских рек на Юг[1155].
С 1960-х годов постепенно стало восстанавливаться в правах понимание «места» как более или менее защищенной, предназначенной для жизни «среды обитания» со своими природно-климатическими особенностями, историей, культурой, сложившимися социальными сетями и т. п. В этом смысле становление экологической культуры и различных форм регионального самосознания в позднесоветский период – процессы взаимосвязанные, более того, в некоторых случаях, если мы говорим о литературе («Прощание с Матерой», «Комиссия», «Царь-рыба»), экологический дискурс и рефлексия судьбы геокультурной периферии практически нерасчленимы.
Осмысление того или иного территориально-культурного сегмента внутри страны (и здесь безразлично, имеется в виду Российская империя или Советский Союз) в литературе, музыке, кино, актуальной журнально-публицистической продукции может быть обусловлено рядом разноплановых факторов – начиная с социально-экономических вопросов или тонкостей (меж)этнической коммуникации и заканчивая самопозиционированием государства в масштабах мировой геополитики. Тем интереснее проследить за тем, какие идеологические мотивы стояли за интегрированием экологического дискурса в территориальные мифы, или иначе – какие специфические аспекты позднесоветского регионального самосознания раскрывались на языке экологической образности и риторики. Однако есть ли основания говорить о «деревенской прозе» «долгих 1970-х» как о художественной репрезентации регионального самосознания?[1156] Этот аспект я попытаюсь прояснить, рассматривая творчество сибиряков – С. Залыгина, В. Астафьева, В. Распутина[1157].
В конце 1940-х – начале 1950-х годов, когда старшие из будущих «деревенщиков» С. Залыгин и В. Астафьев пробовали силы в литературе, трактовка ими сибирского материала не содержала почти ничего, что бы выходило за рамки наработанных в культуре соцреализма способов его подачи. Существовал ряд конвенций, которыми обычно руководствовался советский писатель, «воображая» сибирское пространство в прозе или поэзии. Они-то и определяли структуру художественного и публицистического высказывания. Следование им легко заметить в выступлении сибиряка Георгия Маркова на Втором съезде советских писателей в 1954 году, выдержанном в строгом соответствии с риторическими образцами и идеологическими постулатами послевоенной эпохи:
Взгляните на Сибирь! Давно ли этот обширный край представлял собою океан диких лесов, гор, степей, могучие сплетения пустынных и своенравных рек! На этих безбрежных просторах населенные пункты были редкими островками, удаленными друг от друга на сотни, а то и на тысячи километров. Сибирь сегодня – это гигантский край, на просторах которого идет кипучая, созидательная жизнь. Сибиряки называют свой край великой стройкой коммунизма. <…> Честно сказать, товарищи, дух захватывает, сердце сильнее колотится, когда представишь весь этот колоссальный размах борьбы советских людей в Сибири. У нас, на наших глазах, происходят события, о которых прежде люди могли слышать только в сказках. В Иркутской области возник новый социалистический город Ангарск. Этот пятилетний малютка-богатырь растет не по дням, а по часам. Кое в чем он уже перегоняет своего трехсотлетнего брата – Иркутск. <…> Перед нами такое кипение человеческих страстей, перед нами такой величайший запас народного опыта, которых не могло быть в распоряжении художников ни в какую другую эпоху[1158].
Марков начал речь с напоминания о завете Максима Горького советским литераторам – сделать полем своей деятельности всю страну[1159]. Написанное о Сибири, продолжал он, стало примером успешного символического освоения огромной территории СССР, которое «расширило и обогатило советскую литературу, <…> увеличило ее замечательные сокровища, <…> подняло ее познавательную ценность и воспитательное значение»[1160]. Отрапортовав, что Сибирь тематически и институционально «встроилась» в пропагандировавшийся Горьким проект советской культуры, он потребовал от критиков осмыслить «факт огромного политического и культурного смысла» – «рост литературы в краях и областях»[1161]. Правда, речь шла о литературе не сибирской, а советской, чьи региональные варианты отличались друг от друга лишь материалом, «местным колоритом». Если судить по речи Маркова, среди других территориальных образований Сибирь была примечательна только размерами и «дикостью», гарантировавшими исполинские масштабы перемен и превращавшими ее в притягательный объект описания. Очевидно, тип такого описания, его поэтика были заданы заранее и извне: шла ли речь о «великих стройках коммунизма» или о судьбе северных аборигенов, сюжетостроение и риторика подчинялись идее поступательного исторического развития, радикального преображения прежнего природного и социального порядка.
«Объектное» восприятие Сибири имело длительную традицию, которую советские идеологи трансформировали применительно к новым задачам, неизменной при этом оставалась позиция, занимаемая «воображающим» огромный регион субъектом: она, как правило, была «внешней» по отношению к описываемой территории. В данном случае имеется в виду не столько физическое нахождение повествователя вне конструируемого пространства, сколько усвоенная им оптика, которая была сформирована инерцией политических и культурных решений, метафоризировавших регион как «пустое место», ресурсную кладовую. Показательно, что родившийся в Томской области, работавший в Сибири романист Марков и избавлявшийся от творческого кризиса путешествием через Сибирь на Дальний Восток А. Твардовский в поэме «За далью – даль» (1950–1960)[1162], изображая регион, придерживались одних и тех же нарративных и риторических схем (естественно, с поправкой на налагаемые жанровой структурой ограничения).
С. Залыгин («Северные рассказы», 1947) и В. Астафьев («До первой весны», 1953) на рубеже 1940 – 1950-х были еще не в состоянии выйти из-под власти формализованных сюжетно-стилевых ходов, диктовавших повороты сибирской темы. Точнее будет сказать, что в этот период Сибирь оставалась для них именно темой, которая раскрывалась комбинированием готовых содержательных и риторических блоков. Хорошо зная регион, будучи тесно с ним связанными, начинающие авторы, тем не менее, использовали стандартные для описания сибирского / северного пространства приемы. Прежде всего, речь идет о клише «отдаленности». Последняя в соцреалистических текстах (Залыгин и Астафьев здесь не исключение) признавалась важным хозяйственно-географическим фактором, чье воздействие, однако, успешно нейтрализовалось идеологической близостью советских людей, преодолевающей «пространства и простор». Так, живущий вместе с родителями на метеостанции Костя в рассказе Залыгина «На Большую землю» (1950) хочет вступить в пионерскую дружину Саши Малышева – мальчика, с которым он однажды общался во время радиопереклички и чей голос символизирует мир вне Заполярья. Огорчение от того, что он не сможет, как обещал, поехать к Саше, поскольку родителей командируют в другое место, улетучивается, когда новый начальник метеостанции пишет будущим одноклассникам Кости письмо, заверяющее: маленький полярник – не обманщик, а верный и надежный друг. Оптимистический посыл адресованного детям рассказа показателен для соцреализма – расстояния и географическая отдаленность не имеют значения, поскольку причастность к территориально неограниченному советскому коллективу является гораздо более существенным механизмом поддержания социального единства. В рассказе «Тимкоуль» (1953) Астафьев также воспроизводит антитезу окраины и центра, которую благополучно снимает ходом сюжета. Соединив квазиактуальную политическую тему с «этнографическим материалом», он весьма типичным для советского писателя способом откликается на прошедшую в 1951 году в разных странах, в том числе в СССР, антивоенную кампанию и рассказывает о молодом эвенке, отправившемся в тундру собирать подписи охотников и оленеводов под Обращением Всемирного совета мира. В «Тимкоуле» эвенки не считают территориальную отдаленность от центра проблемой, напротив, вдохновленные сознанием причастности к «общему делу» и большому сообществу – «прогрессивному человечеству», они заверяют: «…мы здесь, у края земли, стоим на вахте мира»[1163]. Без всякого ощущения ущербности герои сознают, что живут на краю света, но связаны с центром, который направляет их деятельность, придает сверхсмысл их поступкам, будь то жертвенное перенапряжение в труде, борьба с природными катаклизмами или просто длительное стоическое приспособление к суровому климату.
Романтический колорит описаниям сибирского пространства в ранней прозе Астафьева и Залыгина сообщало акцентирование мотивов его первозданности, неукрощенной природной мощи, требовавшей от человека проявлений выдержки и героизма. Речь в данном случае шла не только о характерном для культуры начала 1950-х годов организованном индустриальном покорении природы, но и о традиционном романтическом противостоянии героя надличным, не-человеческим стихиям. Герой рассказа Залыгина «Пик половодья» (1950) выдерживал схватку с рекой и спасал во время ледохода себя и друга, астафьевский Тимкоуль едва не погибал в схватке со снежным бураном (близкая коллизия разыгрывалась в залыгинском рассказе «Оськин аргиш», 1946). Выраженное пока еще на языке соцреалистических клише переживание природы как самостоятельной, многократно превосходящей человека силы окажется потенциально наиболее продуктивным для становления экологической «философии» «деревенщиков» и концептуализации сибирского пространства в их зрелых произведениях.
Инерция романтического описания Сибири, заострявшего «инаковость» этой территории за счет гиперболизации природно-географических характеристик, но не снимавшего взгляд на нее извне, была чрезвычайно сильной, и вступивший в литературу почти на десять лет позже Астафьева В. Распутин также не сумел ее преодолеть в ранних сибирских очерках. В «Костровых новых городов» и «Крае возле самого неба» (обе книги – 1966) он, подобно Залыгину и Астафьеву, активно пользовался литературными (и идеологическими) клише, встроенными уже в «оттепельный» культурный контекст. Герои Распутина – чаще всего молодые романтики, которые едут в Сибирь по зову сердца, чтоб испытать себя, создать как бы «с чистого листа» новый мир либо продолжить дело отцов, погибших в борьбе с сибирской природой:
Ехали, ехали, со всех концов страны ехали ребята и девчата. Тысячи ребят и тысячи девчат. Еще не зная ее, они уже любили трассу за то, что она позвала их, сделала их важными и значительными и для самих себя, и для нее. <…> Сначала они рубили просеку – коридор в том месте, где пройдет дорога. Подойдешь к кедру, а он, громадина, раскачивается: мол, попробуй тронь! Приходилось объяснять ему, что здесь будет дорога, что он стоит поперек железной дороги. Вот так действительно и сказали самому первому кедру в первый день работы[1164].
Конечно, у Распутина – в силу особенностей его творческого склада и в силу изменившейся культурной ситуации – значительно ярче, нежели у Астафьева и Залыгина, передавалось переживание красоты, древности, непостижимости сибирского мира, но отмеченное им у коренных народностей поэтичное мифологическое восприятие Сибири все же вытеснялось новыми легендами, родившимися в период советского освоения региона. К созданию этой новой мифологии автор был непосредственно причастен. Объектом романтизации в его очерках становились не только завораживающая природа края (тем более что ее подчиняют себе строители; например, крановщик Юрий Лангада пишет на своем кране: «Мы покорим тебя, Ангара!»[1165]), но новые обычаи и фольклор, «изобретением» которых сопровождалось индустриальное освоение Сибири: так, в бригаду зачисляются символизирующие подвиг фигуры (в очерке «Возвращение» оживший и неузнанный Александр Матросов помогает устроиться приехавшей на стройку девушке в общежитие, а потом стыдит отказывающегося платить взносы комсомольца[1166]), легенда о погибших в 1942 году при прокладке трассы изыскателях Александре Кошурникове, Алексее Журавлеве, Константине Стофато поддерживает строителей в трудные минуты, но лишь при условии веры в нее[1167] и т. п.
На 1960-е годы пришлись первые для советского периода попытки если не оспорить, то подточить главенство взгляда на Сибирь, обусловленного просветительски-преобразовательскими намерениями субъекта, связанного с центром. В связи с этим уместно вспомнить замечание Кирилла Кобрина, предложившего дифференцированно подходить к «идеологиям» имперского управления подчиненными территориями и отделившего «империализм» (осваиваемое пространство воспринимается как пустое, основным объектом экспансии становится территория, но не люди) от «колониализма» – «целенаправленной прагматической политики захвата и эксплуатации территорий, а также подчинения тамошнего населения»[1168]. Советское освоение Севера (Заполярья), по Кобрину, – типичное проявление империализма. В официальном мифе освоения Сибири в 1950-е годы преобладали «колонизаторские» смыслы: речь шла о диком пространстве, которое было необходимо преобразить в соответствии с требованиями цивилизации, местные культура и история не принимались в расчет, словно бы их не существовало. Однако у интеллигенции, связанной с местной интеллектуально-культурной традицией, такой подход вызывал скрытое недовольство, и она оппонировала ему аргументами из антиколониального арсенала. В 1974 году Астафьев сообщал актеру Евгению Лебедеву, с которым познакомился в конце 1950-х во время поездки бригады артистов на строительство Красноярской ГЭС, что именно тогда у него родилась мысль «написать повесть о [моей] Родине и родичах, дабы самонадеянным преобразователям и освоителям Сибири не казалось, что до них тут никто не жил. Жили!»[1169] Является ли это признание позднейшей корректировкой прежних взглядов, с полной достоверностью установить невозможно, но, вероятно, конец 1950-х – начало 1960-х стали для писателя временем, когда он осознал различие двух стратегий описания Сибири – извне и изнутри. В 1965 году Астафьев писал Александру Макарову о работе над рассказами, составившими первую редакцию книги «Последний поклон» (1968):
…есть внутренний заряд разбить всю эту надуманную литературу об экзотике Сибири бесхитростными и точными рассказами об этой очень русской, очень простой, очень доброй земле, ни людьми, ни языком, ничем, кроме богатств земных и, может быть, душевных, не отличающейся от остальной России.
Придумали всю Сибирь командированные писатели, и эта, выдуманная, земля вроде бы уже возобладала…[1170]
Как уже говорилось, пересмотр принципов модернизационно-колонизационного освоения геокультурной периферии, рефлексия специфики «регионального» совпали с завершением «оттепели», усилением национально-консервативных настроений и становлением традиционалистской культурной идентичности. Однако первые публичные выпады против романтического пафоса преобразований и соответствующей поэтики пришлись на начало 1960-х годов. Я имею в виду опубликованную в журнале «Урал» статью Астафьева «Нет, алмазы на дороге не валяются» (1962), в которой писатель дал волю иронии над злоупотреблением «красивостями» в теме освоения Сибири. Сначала в поле его критики попадают произведения так называемой «геологической литературы»:
У геологов работа эффектная. У геологов опасности и романтика, правда, зачастую придумываемые авторами… Геологи, как по команде, опрокидываются из лодки на бурной реке либо попадают в лесной пожар, даже поздней осенью, когда таковых в тайге не бывает, и утрачивают, простофили, все: ружья, спички, продукты, правда, иногда им оставляют один патрон и одну или семь спичек, и геологи начинают «героически» погибать. Погибают медленно, как в опере, с красивыми словами[1171].
Писатель не называет имен и заглавий, но один из пародийно пересказанных им текстов угадывается легко – это популярные у читателя очерки Валерия Осипова «Тайна Сибирской платформы» (1958)[1172], где пылко пропагандировалась цивилизующая, просветительская и социально необходимая идея промышленного освоения края, но в такой «саморазоблачительной» гипертрофированно романтической манере, которая выдавала и поверхностное знание местных реалий, и позицию культурного превосходства посланника центра. Другим объектом едких оценок в астафьевской статье стала «молодежная проза», герои которой отправляются работать в Сибирь на строительство ГЭС и вдруг, по словам писателя, открывают, что зарабатывать кусок хлеба трудно[1173]. Автор опять избегает упоминать конкретные имена, но, скорее всего, имеет в виду повесть Анатолия Кузнецова «Продолжение легенды» (1958), чей сюжет соответствует иронически описанной им схеме. Позиция героя повести, вчерашнего школьника, приехавшего на строительство Иркутской ГЭС и воспринимающего себя и своих товарищей в качестве проводников модернизационно-просветительских влияний в «дикой» Сибири, своим неявно «колонизаторским» посылом также могла вызвать у Астафьева раздражение.
Кстати, Астафьев, который во время написания статьи жил на Урале, от мифологизации тоже не отказывался (Сибирь у него по-прежнему – исключительная земля, что подтверждается наличием редких человеческих и природных богатств), но экзотизмы, нагнетаемые авторами, побывавшими в Сибири «проездом», вызывают у него противоположное стремление – избежать литературности в разговоре о хорошо знакомых предметах и обстоятельствах. Писатель наверняка сознавал оригинальность ракурса изображения Сибири в «Последнем поклоне», потому в «самопрезентационных» текстах, наподобие автобиографии «Сопричастный всему живому», склонен был ее подчеркивать и возвращаться к прояснению мотивов, заставивших его пойти наперекор описаниям родного края как места героических трудовых буден и не менее героического испытания собственной выносливости:
В пятидесятые годы, когда в Сибири развертывалось строительство Братской и Красноярской ГЭС и сюда хлынули тысячи людей, в нашей литературе появилось немало произведений, повествующих в стихах и прозе о покорении и освоении этого края. Тогда-то меня и насторожило и больно задело одно обстоятельство: по некоторым книгам получалось, будто здесь до этой поры никого и ничего не было. И захотелось мне сказать свое слово о Сибири…[1174]
Желание Астафьева написать «свою» Сибирь, как явствует из процитированного текста, было вызвано протестом против обесценивания истории «места», с которым он был неразрывно связан. Официальный историографический нарратив о Сибири, «сюжетизацией» которого занимались преимущественно авторы романов эпопейного типа (Сергей Сартаков, Афанасий Коптелов, Георгий Марков, Анатолий Иванов и др.)[1175], придавал особую ценность событиям, приближавшим край к осуществлению пророчеств о прекрасной будущности, ассоциируемой с социализмом и его подразумеваемыми благами – промышленным развитием, расцветом культуры, созданием разветвленной инфраструктуры и т. п. В рамках такой исторической концепции Сибирь резко «молодела»: и потому, что ее историческое бытие мыслилось недавно начавшимся, и потому, что нынешнее преобразование велось, в основном, силами молодых. И хотя «локализация Сибири в рамках фундаментальной историософской оппозиции “старое – новое”»[1176] всегда была подвижной, очевидно, что в позднесоветском конструировании территории преобладала символика «нового», «молодого»:
Когда советская страна сняла сталинские портреты и с новыми силами бросилась к коммунизму, ей понадобилось чистое поле деятельности.
Старинный миф о Сибири наполнился новым содержанием. Если вновь доставать измызганные идеалы, то делать это следует в девственной сибирской стране. <…>
Эпоха требовала, чтобы величие Сибири соответствовало великим порывам. И вот, как много веков назад, туда отправились землепроходцы, энтузиасты, строители будущего[1177].
Петр Вайль и Александр Генис правы, констатируя многозначительную синхронность последней попытки реанимировать идею построения коммунизма, с одной стороны, и проектов масштабного преображения Сибири во второй половине 1950-х – начале 1960-х годов, с другой. Правы они и в том, что восприятие Сибири как пространства, потенциально предназначенного для осуществления грандиозных планов, не было изобретением советских идеологов, которые всего лишь дали новую риторическую аранжировку дискурсу, хорошо известному в российской и европейской традиции описания региона. В качестве хронологически ближайшего, до-советского прецедента риторического «обновления» Сибири можно упомянуть метафоры и образы, сопровождавшие два амбициозных политико-экономических проекта, – строительство Транссибирской магистрали и столыпинскую аграрную реформу, в ходе которой первоначальная метафора Сибири-«пустыни», призванной стать «контейнером» для избыточного крестьянского населения Европейской России, уступила место (с 1910 года, после поездки Петра Столыпина и Александра Кривошеина по Сибири и составления соответствующей Записки[1178]) истолкованию Азиатской России в терминах «перспективы» и «развития». Осуществление этих проектов было мощным импульсом к развитию территории, словно предназначенной для опробования самых смелых новаций. Неудивительно, что прошедший в 1913 году от Норвегии через Карское море до Енисея и поучаствовавший в акции по привлечению зарубежных инвестиций в развитие региона Фритьоф Нансен поддался всеобщему воодушевлению и включил в заглавие своей книги рекламно привлекательную формулу осваиваемой территории – «В страну будущего. Великий Северный путь из Европы в Сибирь» (1915).
Советский способ освоения Зауралья в идеале также предполагал превращение потенциально привлекательного региона в страну осуществленной индустриальной утопии, что и предопределило специфику его литературных репрезентаций, основанных на семантике созидания и новизны. В «омолаживающей» риторике выдержано, к примеру, редакционное вступление к специальному сибирско-дальневосточному выпуску журнала «Литературное обозрение» в 1975 году:
Мы уже давно не мыслим жизнь страны без угля Кузбасса, никеля Норильска, алюминия Братска, алмазов Якутии. Без хлеба Алтая, продукции овцеводства Забайкалья. Без пытливой исследовательской мысли ученых Сибирского отделения Академии наук СССР в Новосибирске, без университетских центров Томска, Владивостока, Хабаровска, Иркутска и Якутска, без разветвленного транспорта этих далеких краев, без мощного и многообразного дальневосточного флота.
Сибирь и Дальний Восток – это и нефть Тюмени, добыча которой только начинается. И месторождение меди в Удокане, ждущее освоения. Уголь и железная руда Южной Якутии. Лес, золото, машины, заводы, к которым еще предстоит приложить ум и трудолюбие. Воистину: эта древняя земля – молодость, будущее нашей страны![1179]
На этом дискурсивно-риторическом фоне астафьевский «Последний поклон», писавшийся отчасти на волне «оттепельных» увлечений «лирической прозой»[1180], отчасти во внутренней полемике с «оттепельным» утопизмом, обозначил возникновение рядом с официальным историческим нарративом о Сибири, отражавшим «имперское» видение преображаемой территории из центра, нарратива «индивидуализирующего», лирически-интимного, в каком-то смысле подчеркнуто «не-эпического», намеренно погруженного в повседневность крестьянской жизни и, что немаловажно, «старящего» Сибирь, историзующего ее. Радикальной подобную позицию, конечно, не назовешь, ибо она учитывала советский исторический канон (революция, коллективизация, Великая Отечественная война по-прежнему определяли рамку жизни героя-повествователя и всего деревенского мира), однако повествователь, чья точка зрения совмещалась с «малым» миром сибирской деревни, переживал исторические перемены, идущие из «большого» мира, как разрушительные (окончательная редакция «Последнего поклона», сделанная уже в 1990-е годы, не оставляет в этом сомнений)[1181], и это обстоятельство еще раз подтверждало неоднозначное отношение Астафьева к освоению региона в советский период.
Со временем претензии Астафьева к официальной версии сибирской истории становились более резкими. Он утверждал, что практически полностью сфальсифицирован пласт, касающийся строительства заполярных городов силами зэков. «Вчера вон радио про Норильск рассказывало. Уж так разливались, так разливались! А о том, что этот город построен на человеческих костях – ни слова!»[1182] – сообщал он Макарову в 1967 году. В главе «Царь-рыбы» «Не хватает сердца» (опубл. 1990) Астафьев приводит реплику случайного попутчика о Норильске: «Разве есть у него история?»[1183], и предлагает контрверсию основания города, причем элемент «контр», подразумевающий конфронтацию с официальным идеологическим словом, для него принципиален. Писатель обращается к мартирологической составляющей сибирского мифа, которая, как убедительно показано в ряде исследований[1184], изначально существенно определяла структуру последнего. Исторической основой стали представления о Сибири как зоне штрафной колонизации, а «инвариантную синтагму, прото-сюжет, частично или полностью разворачивающийся во множестве своих репрезентаций»[1185], образовали мотивы преступления героя – перемещения в зону смерти, каковой являлась Сибирь, – страдания / временной «смерти» – воскресения. «Деревенщики», и Астафьев в том числе, от случая к случаю апеллировали к этой литературно наиболее обработанной и отработанной мотивной составляющей сибирского мифа, поэтому в главе «Не хватает сердца» зловещая макабрическая семантика севера – места смерти, причем с изъятием мотива воскресения, задействована автором максимально мощно.
Вообще, сибирское пространство в прозе Астафьева в ценностно-смысловом отношении дифференцировано: «благословенная» Минусинская котловина (юг Сибири) предстает в астафьевской публицистике местом райского изобилия[1186], Игарка (север Сибири), изначально чужая, но освоенная и, перефразируя одного из персонажей «Кражи», «усвоенная»[1187], в этой же повести становится лиминальной областью смерти-возрождения, а вот Норильск, находящийся севернее Игарки, получает статус зоны абсолютного небытия. Такое бескомпромиссное, не признающее полутонов наделение Севера в упомянутой главе «Царь-рыбы» семантикой смерти и гибели – довольно нехарактерное для Астафьева, как правило, склонявшегося к его амбивалентной оценке, – в данном случае подчинено задачам социальной критики существующих практик «переделки мира». Автор фиксирует разительное несоответствие перспектив, обещанных утопическими проектами, и результатов осуществления последних (в данном случае неважно, идет ли речь о сталинской модернизации или об индустриальной утопии 1950 – 1970-х годов). Логика подмены лежит, по Астафьеву, в основе утопизма как умонастроения и интеллектуальной установки, поэтому «земля обетованная»[1188], которой зэкам, высадившимся после изнурительного путешествия на барже, кажется «голый берег Заполярья»[1189], неумолимо превращается в место смерти, «город солнца»[1190] возводится на костях, а продуктом утопических чаяний о «человеке будущего» оказывается «советский баринок»[1191].
О «внешней» и «внутренней» точках зрения на сибирское пространство, но уже в связи с жанровыми приоритетами разных культурных эпох, рассуждал С. Залыгин в очерке «Писатель и Сибирь» (1961). Он полагал, что художественное освоение региона долгое время велось по преимуществу в рамках путевого очерка, который пользовался особенной популярностью у «заезжих» авторов (А.Н. Радищев, Н.Г. Гарин-Михайловский, В.Г. Короленко), в то время как писатели – уроженцы Сибири, связанные с ее культурной жизнью, «шли к сибирской повести, к роману»[1192]. По мнению Залыгина, жанр очерка был наиболее удобен для взгляда со стороны, в отличие от повести, предполагавшей погруженность в местный материал, его доскональное знание. Конечно, такой взгляд на жанровые приоритеты и их корреляцию с «местонахождением» автора являлся тезисом, нуждавшимся в проверке и уточнении, но он давал Залыгину возможность подвести читателя к существенной для него идее: в современной литературе нет «ощущения страны, которой она посвящена. В ряде произведений достаточно заменить одни географические названия другими, исключить чисто внешние приметы… – и все, что мы называем в общем-то маловыразительным и далеко не всеобъемлющим словом “колорит”, в данном случае сибирский колорит, исчезнет без следа»[1193]. Означал ли этот пассаж, осуждавший «технологичное» использование «местного колорита», призыв сделать понимание «регионального» более глубоким и разнообразным по формам? Возможно, хотя в своей обширной статье Залыгин расставил акценты несколько по-другому. Сибирь он концептуализировал как раз общепринятым способом. Примкнув к традиции осмысливать ее прежде всего в пространственных категориях, писатель заметил, что ощущение «инаковости» региона возникает, в основном, за счет «беспредельности»[1194] его пространства. Но из традиционного отождествления Сибири с бескрайними просторами Залыгин извлек небанальные для начала 1960-х годов смыслы. Поначалу он с характерным для этого десятилетия пиететом отозвался об освоении космического пространства Юрием Гагариным и Германом Титовым и продекларировал необходимость создания нового языка, которому было бы доступно выразить современное переживание бесконечно раздвинувшихся границ мира, а потом заявил, что «экспериментальной базой» «для познания пространства суши»[1195] является Сибирь. Опять же, взятое само по себе уподобление Сибири полигону, где воплощаются смелые индустриальные проекты, никак не расходилось с официальной риторикой освоения региона. Однако по-настоящему ценным Залыгин счел не масштабы и темпы промышленного строительства, но возможность обрести новый мировоззренческий опыт обживания огромной территории, для чего было необходимо понять природу не в качестве объекта покорения, а «такой, какова она есть»[1196], как бы изнутри. Изменение установки по отношению к природе повлечет за собой изменение методов получения и применения экспертного знания, аналитики осуществляемых проектов. Главный парадокс, который содержали в себе рассуждения Залыгина, состоял в том, что новый опыт, получаемый при осуществлении в Сибири смелых проектов, по сути своей должен быть консервативным, основанным, как уже говорилось, на приспособлении к природе, обуздании собственных беспредельных возможностей[1197].
Мы как-то привыкли уже к тому, что в художественных произведениях наших тот герой безусловно положителен, который безусловно «за» какое-то строительство, «за» преобразование, а тот, кто «против», – тот персонаж отрицательный. <…> Но проходит время, и мы понимаем, что нам нужна не всякая ГЭС, не всякое преобразование природы, не всякий завод или фабрика. И вот уже не исключено, что положительный герой может быть против строительства какой-то ГЭС…[1198]
Статья, начатая с размышлений об ограниченности «постороннего» взгляда на Сибирь, завершалась обоснованием универсальных принципов экологической этики. Областнического подхода, если не отстаивающего право конкретного региона сохранить экологически безопасную среду, то хотя бы намекающего на него, в ней не было. Тем не менее, и эта статья со слабыми маркерами собственно «регионального» содействовала переакцентировке привычной антитезы «нового» (Сибирь, преобразованная масштабным строительством и приходом цивилизации) и «старого» (природный мир и традиционные формы жизни).
В 1960 – 1970-е годы астафьевские «Кража», «Последний поклон», «Царь-рыба», упомянутая статья Залыгина, его повести «На Иртыше», «Соленая Падь» и особенно роман «Комиссия», повести и рассказы В. Распутина сделали явным процесс формирования «“внутренней” авторской позиции, которая противостоит складывающейся, как правило, значительно раньше системе “внешних” воззрений, обычно предвзятых относительно данного ландшафта и мифологизирующих его»[1199], и, как следствие, регионального литературного самосознания, то есть «стремления ассоциировать свою деятельность с регионом, соотносить свою биографию с его исторической судьбой»[1200].Самоидентификация художника с сибирской территорией, признание специфичности местного исторического и культурного опыта, осознание обусловленности собственных сюжетики и стилистики этим опытом, а позднее, во второй половине 1980-х годов, разговор о коренных интересах региона, не совпадающих с интересами центра (прежде всего в публицистике В. Распутина из книги «Сибирь, Сибирь…», созданной в конце 1980-х – первой половине 1990-х годов) явились формами проявления регионального самосознания, отличными и от этнографизма бытописательной прозы о Сибири XIX века, и от «местного колорита» в его соцреалистической разновидности. Кроме того, сомнения в ценности художественных высказываний о Сибири, на ходу сделанных «приезжими», преследовали еще одну немаловажную цель – отстоять права местного культурного сообщества на материальные и символические ресурсы, на возможность формировать новые определения социального мира (последние опосредованно соотносятся с принципами территориального деления)[1201].
По мере творческого роста Астафьева, Распутина, Залыгина способы выражения локального культурно-географического опыта становились в их творчестве более разнообразными и откровенными[1202], но от этого критика и читатели не стали воспринимать их как писателей исключительно сибирских. Понятно, что к тому времени они в качестве публичных интеллектуалов уже выросли в фигуры общесоюзного масштаба и их произведения приходили к аудитории прежде всего через столичные издательства, но и в самой поэтике их текстов был интуитивно найден баланс между «местным», в каком-то смысле этнографическим, и «глобальным». Никто охотнее «деревенщиков» не работал с традиционным метонимическим переносом «Сибирь – Россия» («образ Сибири… является вариантом символической мобилизации образа России в целом» и «“лакмусовой бумажкой” российской идентичности»[1203]). Ситуацию распада традиции, гибели крестьянского мира, уничтожения природы они описывали преимущественно на сибирском материале, хотя были убеждены, что наблюдают всеобщие процессы, протекавшие в Сибири более рельефно, нежели в средней России. Огромные размеры «пространной страны»[1204] Сибири, где в пейзаже и климате словно материализовались представления о стихийной мощи мироздания, побуждали авторов к дальнейшей генерализации ее культурно-географического образа. Так возникла «онтологизация» пространственных характеристик, которая не устраняла конфликтности «внутренней» и «внешней» точек зрения, но делала ее вторичной по отношению к попыткам автора «самоустраниться», дабы дать возможность «говорить» бытию (на этом, как мы помним, строилась традиционалистская апология реализма – говорит не автор, говорит бытие).
«Онтологизация» стала одним из главных принципов изображения сибирского / северного ландшафта у Астафьева[1205], в несколько меньшей степени у Распутина и Залыгина. В «Царь-рыбе», например, клишированный образ северной территории – снежная пустыня – превращался в «символ космической вечности»[1206], равнодушной к страхам и страданиям человека, стирающей следы его присутствия в мире (мотивы забвения, поглощения, исчезновения следа возникают в главах «Не хватает сердца», «Поминки», «Уха на Боганиде», «Сон о белых горах»). Пребывание астафьевских героев «на краю света» метафорически оказывалось пребыванием «на краю жизни». Они проходили испытание не только необходимостью существовать в тяжелых условиях и замкнутом коллективе (см. главы «Бойе», «Сон о белых горах», а также позднюю «затесь» «Стынь»), но прикосновением к бездне, пустоте (не случайно мысли Гоги Герцева «падали в пустоту»[1207], и погибал герой на «пустынном берегу Энде»[1208]). Сам северный пейзаж в главе «Сон о белых горах» – бредущие через снежную пустыню Аким и Эля – символически выражал представления художника о месте личности в мироздании: готовая поглотить маленького человека, дышащая «мертвым холодом бездна»[1209], над которой простирается другая бездна – «бездонное и бесчувственное небо»[1210]. Отчасти «онтологизация» севера и его ландшафтно-климатических характеристик была следствием восприятия Сибири (севера) как «иного» мира, чьи свойства и параметры опровергают представления о «нормальном», приемлемом. В «Царь-рыбе» «инаковость» северного пространства подчеркивалась его противопоставлением России (точнее, Москве), и репликой Эли, отнесенной к поступкам Акима и обнажающей конфликт природы и цивилизации: «Всё у вас тут (на севере, в тайге. – А.Р.) шиворот-навыворот»[1211].
Тезис об «онтологизации» «деревенщиками» сибирского / северного пространства я не случайно подтверждаю ссылками на астафьевскую «Царь-рыбу», ведь именно этот автор сделал конфликт человека со свирепыми природными стихиями инвариантной основой многих своих произведений. Решающим аргументом в пользу атрибутирования «сибирского текста» (точнее, одного из его вариантов) была актуализация мифологемы Сибири как лиминального пространства («Житие» Аввакума, тексты К.Ф. Рылеева, Н.А. Некрасова, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова)[1212], и проза Астафьева, казалось бы, легко вписывается в эту традицию русской литературы. Однако у Астафьева пребывание в пороговом пространстве не всегда связано с ранее совершенным преступлением или его эквивалентом (проступком, неверно осуществленным выбором и т. п.). В том случае, когда преступление (и соответствующий мотив) отсутствует, лиминальность связывается с ситуацией инициации – испытанием героя, результатом которого становится обретение им нового жизненного / возрастного статуса. Кроме того, лиминальную природу в прозе Астафьева может обнаруживать даже знакомое герою пространство, которое внезапно «очуждается» и являет скрытую до времени разрушительную мощь. Этот специфически астафьевский вариант репрезентации лиминальных мифосмыслов, вероятно, обусловлен ранним автобиографическим опытом, ставшим главным источником знания о бытии и месте человека в нем.
Начиная с повести «Перевал» (1959), где выдержанная героем борьба с рекой уподобляется вхождению во взрослую жизнь, писатель будет вновь и вновь ставить своих персонажей в ситуации разной степени экстремальности. В «Краже», например, где речь шла о штрафной колонизации, лиминальные параметры сибирского пространства, равно предназначенного для смерти и нового рождения осужденных жить в нем людей, предзаданы исторической основой сюжета. Интересной комбинацией инициационных мотивов отличалась глава «Где-то гремит война» в «Последнем поклоне». Здесь сибирское пространство снабжалось обычной лиминальной атрибутикой: сильный мороз, каленый ветер, пустынность («Ни искорки, ни звездочки, ни подводы, ни путника на дороге, ни отголоска жизни. Ветрено. Холодно. <…> Одиноко в ночи»[1213]), герой терял, казалось бы, знакомую дорогу, переживал ужас близкой смерти, но все же выбирался из ямы («могилы») и спасался. Сибирский пейзаж в этом тексте, как в «Краже» и «Царь-рыбе», был «онтологизирован»: холод, пустынность выражали свойства ландшафта, климата и мироздания в целом. Поведение же героя подчинялось главному, с точки зрения писателя, принципу существования – сопротивлению холоду бытия. Еще одной фазой инициации героя была охота, во время которой сибирский пейзаж открывал ему иную сторону мира. Лунный свет, ночь, мороз, снег соотносились не с «царством мертвых», а с таинственным, «древним, завороженно-сонным царством»[1214] природы, дарующей утешение. Совершенное против воли убийство гурана герой переживал как разрушение сказки и выражение всеобщей жестокости («Никого мне убивать не хотелось. <…> Я должен стрелять»[1215]). Охота была выразительно приурочена к новогодней ночи (то есть происходила на мифологическом пороге), потому убийство гурана-вожака приравнивалось к жертвоприношению, чей смысл – спасение близких и восстановление жизни. Однако в сюжетной перспективе «Последнего поклона» ситуация «охотник – жертва» оказывалась перевернутой: выстрелом в ночной тайге герой убивал в себе детское ощущение сказки, родившееся когда-то (книга открывается главой «Далекая и близкая сказка»), а затем отправлялся на войну, где убивал людей, принося в жертву свою человечность. Глава же завершалась ритуальным эпизодом всеобщей трапезы и осознанием героем нового статуса:
И давно наметившаяся в моей душе черта сегодня, сейчас вот, под Манским быком, ровно бы ножом полоснула по мне – жизнь моя разломилась надвое.
Этой ночью я стал взрослым[1216].
Лиминальный сибирский хронотоп и порождаемые им экстремальные ситуации интересны не только в качестве маркера художественного мира Астафьева, но и своими идеологическими последствиями. Осознание слабости человека перед лицом природных стихий, ограниченности его сил и возможностей выводило писателя к поэтизации «гемайншафтных» связей, «артельности»: «мир – это артель, бригада…»[1217]. Близкие ему герои – опять же люди «артельные», интуитивно отвергающие любые формы индивидуализма, картины, запечатлевшие «суть» народной жизни по Астафьеву, часто содержат изображение либо торжества «хорового» начала[1218] (глава «Бабушкин праздник» в «Последнем поклоне»), либо стихийно переживаемого родства и отмены любых иерархий («Уха на Боганиде» в «Царь-рыбе»). Писатель полагал, что «общинное» начало было всегда присуще крестьянской жизни в Сибири, коллективизация же стала трагедией деревенского мира потому, что ее организаторы, применив насильственные методы, форсировали развитие коллективного труда на земле и «возобнов[или] своего рода крепостное право»[1219]. В одном из интервью поры перестройки он упоминал об «общинных» нравах, царивших в родном селе:
Еще в начале века в деревне появилась молотилка, сеялки. Появилась завозня… Жизнь постепенно обретала организационные формы. Мыли и белили коллективно, постройку домов вели миром, всей деревней, была так называемая «помочь» – многое делалось сообща. Русская деревня в Сибири таким образом и была создана[1220].
Конечно, на конструкцию «народного» сибирского типа у Астафьева, помимо пласта автобиографического, вобравшего в себя опыт жизни в конкретном культурно-территориальном сообществе, повлияли разнообразные историко-этнографические и литературные источники, и при желании их можно восстановить. Но психологической доминантой характера сибиряка в прозе 1960 – 1970-х годов писатель сделал именно «артельность», которую провозгласил главной социальной ценностью в условиях социального отчуждения[1221]. Любопытно, однако, что Г.Н. Потанин, один из столпов областнического движения и, казалось бы, непосредственный предшественник «деревенщиков», когда речь шла о сибирском регионализме, из тех же посылок делал совершенно противоположный вывод: «согласно Потанину, сибиряка делает индивидуалистом именно сопротивление природе, борьба с нею»[1222]. Областники, продолжает К.В. Анисимов, видели в местных крестьянах преимущественно индивидуалистов: тот же Потанин свои воззрения подкреплял «почерпнутым из бесед с М.А. Бакуниным тезисом о коррозии крестьянской общины на территории Сибири, о превращении сибирского мужика в заведомого единоличника»[1223]. Исследователь приводит красноречивые высказывания областника на этот счет:
Русский крестьянин, землепашец, общинник, коллективист, перейдя через Уральский хребет, превратился в зверолова: жизнь в тайге, часто одинокая наедине с природой, в борьбе с опасностями, требовала от него большей инициативы, и он из коллективиста превратился в индивидуалиста;
Колонизационная волна унесла русских людей на восточный простор, и конец коллективизму. Русский коллективный человек превращается в необузданного индивидуалиста, от русской общины не остается следа. Яровой клин, озимый клин, пар – все это стало незнакомыми словами[1224].
Будущее Сибири, уточняет Анисимов со ссылкой на работу Галины Пелих[1225], Потанин все-таки связывал с общиной, но «качественно нового типа – способной примирить автономного индивидуума с коллективом и сочетающей в себе крестьянский традиционализм с модерной интеллигентской установкой на самобытность края»[1226]. Было ли отмеченное расхождение во взглядах представителей двух поколений сибирского регионализма простой случайностью или за ним стоят различающиеся культурно-идеологические доктрины? В любом случае оно побуждает более осторожно отнестись к утверждению о прямой премственности областнической и «неопочвеннической» версий регионального самосознания.
Сибирское областничество и проза сибиряков-«деревенщиков», прежде всего В. Распутина, уже рассматривались в работах Н.В. Серебренникова, Дж. А. Огдена, К.В. Анисимова. Серебренников коснулся вопроса о специфичном для второй половины ХХ века преломлении регионалистских идей в «деревенской прозе»[1227] и уделил особое внимание конфликту «коренных» и «наезжих». Огден упомянул о влиянии областников на оформление исторической концепции распутинских очерков «Сибирь, Сибирь…», в частности, об унаследованном писателем внимании к взаимоотношениям метрополии и колонии, о роли литературы в становлении региональной идентичности[1228]. Правда, исследователь тут же привел предостерегающее замечание своего коллеги Ст. Г. Маркса, полагавшего натянутой параллель между позитивной, реалистической программой областников и идеями Распутина[1229]. О необходимости избежать «некритического отождествления» областничества и взглядов Распутина писал Анисимов[1230], который и предложил сравнить доктрины сибирской самобытности XIX и ХХ веков на предмет выявления «сходства и различия в формулировании параметров этничности, историзма, а также <…> отношени[я] к науке и государству»[1231]. Исследователь обратил внимание на включение в последней декаде XIX века сибирских травелогов (в частности, чеховского) в диалогические ситуации – в этих случаях у суждения о Сибири, вынесенного извне, появляется оппонент, представитель местной интеллигенции, готовый вступить в полемику и обнаружить ограниченность «внешней» точки зрения. Анисимов справедливо полагает, что процесс активизации реципиента нужно рассматривать в широком интеллектуальном контексте и связывать с кризисом национально-интеграционного проекта империи:
Описанное Б. Андерсоном «воображаемое сообщество», которое складывалось по мере стандартизации культуры, универсализации языка, распространения грамотности, облегчения доступа к образованию, интенсификации всех форм культурного обмена <…> и, в конечном счете, делалось основой нациестроительства, обусловливало и нормативные типы самих участников процесса. Главным среди них был секулярный интеллигент, воспитанный прессой и литературой, проповедовавший деколонизацию территории и депровинциализацию ее культурной среды, т. е. устранение основных обстоятельств, вызывавших болезненное ощущение вторичности жизни на отдаленной окраине.
Ключевыми факторами, организующим мировоззрение носителя новой идентичности, были антитрадиционализм и индивидуализм, сложно сочетавшиеся с попытками «изобрести традицию» и соотнести индивидуализирующую установку с поиском нового «сообщества»[1232].
Понятиями «антитрадиционализма» и «индивидуализма» можно охарактеризовать как самоопределение сибирских областников, так и конструируемый ими «объект» – региональную идентичность. Не вдаваясь в обсуждение нюансов видения Ядринцевым и Потаниным исторических, социальных, психологических обстоятельств формирования локальной идентичности, следует, основываясь на наблюдениях Анисимова, подчеркнуть принципиальный момент: в понимании областников сибирская идентичность имела чисто территориальную основу и, как следствие, находилась в конфликтных отношениях с консолидацией по этническому признаку. При этом Потанин, рассуждая о складывавшейся в рамках макрорегиона территориальной идентичности, подрывал ее «эссенциальные основания»[1233], в то время как сибиряки-«деревенщики» Распутин и Астафьев природу местного патриотизма определяли через «примордиализацию» связи с родным пространством. Астафьев свою связь с Сибирью часто объяснял в категориях «первичного», биологически нерасторжимого родства с природными объектами:
Я впервые и с удивлением обнаружил, как точно пишет об Ангаре Валя Распутин, нет, нет, не пейзаж, не внешние приметы, хотя и это он делать мастер, а как бы душу саму этой вкрадчивой и бурной реки. Мне даже показалось сейчас, что и сам Валя чем-то неуловимо, глубинно, колдовски-скрыто похож на свою родную реку, хотя и не подозревает об этом.
Мне говорят, что я тоже – душа Енисея…[1234]
Писатель, который в течение длительного времени собирался вернуться домой, постоянно откладывая возвращение, любил акцентировать иррациональность тяги в родные места – «болезнь сибиряцкую»[1235]: «Родина тянет, и мне уже 41 год»[1236]; «И вот я, если больше года не бываю в Сибири, не повидаюсь с Енисеем и Овсянкой, начинаю видеть их во сне…»[1237]. Жесткой корреляции с абсолютизированием «коренной» этничности подобная «примордиализация» патриотического чувства, пожалуй, не имела: сибирское пространство у Астафьева, как и у областников, оказывалось полиэтничным («Любая смута, вселюдная, малая ли, занявшаяся внутри России, отбойной волной прибивала к далеким сибирским землям разноплеменный люд, и он наскоро селился здесь…»[1238]) и структурировалось культурно-территориальной принадлежностью. Сибирская идентичность вырастала, пользуясь эссенциалистски-романтической терминологией Распутина, из «сибирского духа», который «необязательно должен родиться в Сибири, он может развиться где угодно, но должен соответствовать Сибири…»[1239]. Примечательно, что к процессам метисации, вне которых немыслима усвоенная на уровне социальных и культурных практик идеология Сибири как «плавильного котла», Распутин и Астафьев были терпимы. Концептуально значимую для «Царь-рыбы» роль «человека из народа» Астафьев показательно отдал «продукту» метисации Акиму (его отец – русский, а мать – наполовину долганка). Распутин, восстанавливая для читателя свою родословную, также не преминул вспомнить «тунгуссковатость» деда и «чисто русское, ликовое лицо» бабушки[1240]. Интересно и то, что метисацию, в результате которой появился своеобычный сибирский тип, Распутин описывал как процесс природно-исторический, и в этом смысле «органичный», оправданный логикой возникновения и развития нового, выводимого «природой» организма. Удивительным образом развитие этого организма в версии Распутина лишено конфликтов и кризисов. По его мнению, в период заселения Сибири коренные народности и колонизаторы естественным путем нашли устраивавшие обе стороны принципы сосуществования. Последнее у Распутина напоминает явление природного симбиоза, перенесенное на социальную реальность: простой мужик из колонистов сразу завязывал дружеские отношения с сибирским аборигеном, «перенимая от него навыки в охоте и рыбалке, в знании местных условий и природного календаря. Ничуть не страдая своей избранностью (за русскими это, кажется, и вовсе не водится), он стал родниться с аборигеном семейными узами и до того увлекся, что практика эта встревожила и правительство, и церковь»[1241]. По Распутину, от слияния «славянской порывистости и стихийности с азиатской природностью и самоуглубленностью» произошел на свет сибиряк, в котором и ныне «видны две стороны, не сошедшиеся пока в одно целое, – природе, надо полагать, требуется времени больше, чем у нее было, чтобы довести начатое до конца…»[1242]. Однако со временем в антитезе «коренных» и «наезжих» у «деревенщиков» обнаружилась-таки этническая подоснова, отсутствовавшая у областников. Очевидно, что по мере усиления миграционных процессов, обозначивших кризис советского модернизационного проекта и распространившихся на Сибирь в 1970 – 1980-е годы, перемешивание[1243] обладавшего выраженной культурно-психологической специфичностью сибирского «типа» с не-русскими этническими общностями вызывало у писателей все большее неприятие. В 1982 году Астафьев писал о «полурастворенной ассимиляциями»[1244] русской нации и исчезновении привычных символических границ:
В Сибири это (ассимилирующее начало. – А.Р.) хохлы – их, голубчиков, исподволь накопилось в стране больше, чем русских – 50 млн на Украине и 30 – в глуби того, что звалось Россией и Сибирью, а теперь незаметно переименовано в Нечерноземье и Кацапию[1245].
Созвучно астафьевским умонастроениям высказывание Распутина:
Конечно, сибиряк ныне уже не то, чем он был даже и сто лет назад. Его «сибирская порода» сильно разбавлена, и, кажется, совсем немного остается, чтобы она превратилась в одно лишь географическое понятие[1246].
Таким образом, представление о «русском субстрате» сибирского населения было уже встроено в конструкцию региональной идентичности, в которой, казалось бы, изначально преобладал элемент территориальной консолидации. Именно имплицитный этнонационалистический компонент впоследствии, в 1990-е годы, был активирован и включен в «неопочвеннические» конструкции этнофобского толка.
Ориентация «деревенщиков» на романтические модели производства локального мифа, нередко воинственный и чуждый областникам антипрогрессизм объясняются, среди прочего, компенсаторным характером позднесоветской национально-консервативной идеологии, в рамках которой развивался «неопочвеннический» вариант регионалистского децентрализующего дискурса. Если областники искали способ превратить Сибирь из объекта приложения разнородных, не всегда согласованных между собой правительственных инициатив в полноправный субъект культурно-экономической деятельности и оставались при этом в рамках модернизационной парадигмы, то «деревенщики» стремились выразить стадиально более позднюю травмированность модернизацией. Несколько огрубляя, можно сказать, что эмоционально-психологической и дискурсивной основой регионалистских настроений «деревенщиков» стал «защитно-компенсаторный»[1247] национализм – побочный продукт медленной, но неотвратимой эрозии советской системы, и это существенно отличает их от областников. В то время как Ядринцев и Потанин, используя самый современный на тот момент инструментарий «западных теорий колониализма и национализма»[1248], пытались сформулировать позитивную программу регионального развития Сибири, «деревенщики» критиковали советские историю и культуру с домодерных позиций, декларируя «антизападничество, антимодернизм и антиинтеллектуализм»[1249]. Региональная сибирская специфика также обсуждалась ими с акцентированием домодерных ценностей: Сибирь представлялась не только площадкой для развертывания смелых преобразовательских проектов, но бесценным ресурсом природно-культурной первозданности, «последним форпостом»[1250], после уничтожения которого «надо будет ложиться и добровольно помирать»[1251]. Наиболее отчетливо уже в постперестроечные годы эту идею выразил В. Распутин:
Одни привыкли смотреть на нее как на богатую провинцию, и развитием нашего края они полагают его скорое и мощное облегчение от этих богатств, другие, живучи здесь и являясь патриотами своей земли, смотрели и смотрят на ее развитие не только как на промышленное строительство и эксплуатацию природных ресурсов. И это тоже, но в разумных пределах. Дабы не было окончательно загублено то, чему завтра не станет цены и что уже сегодня, на ясный ум, не опьяненный промышленным угаром, выдвигается поперед всех остальных богатств. Это – воздух, вырабатываемый сибирскими лесами, которым можно дышать без вреда для легких; это чистая вода, в которой мир и сейчас испытывает огромную жажду, и это не зараженная и не истощенная земля, которая в состоянии усыновить и прокормить гораздо больше людей, чем она кормит теперь[1252].
По мысли К. Анисимова, «неприятие партикуляристских концепций, стремление утвердить надэтническую природу территориальной идентичности… отчетливо выразились в представлениях областников о сибирской истории»[1253], которые в значительной мере вдохновлялись «модерным национализмом XIX–XX вв. с его желанием противопоставить локальные нарративы космополитизму старых империй»[1254]. Областники считали, что важным импульсом к освоению Сибири русскими поселенцами являлось стремление избежать государственного контроля, и в этом смысле оно было, по словам Ядринцева, «чисто народной колонизацией»[1255]. Им казалось, что создаваемые поселенцами «независимые от государства аграрные инфраструктуры», общины, «должны со временем дать интеллигенцию <…> способную <…> стать носительницей новой идентичности»[1256]. Центральным пунктом областнической доктрины закономерно стало «производство местной культуры, прояснение культурного лика области»[1257], без которой немыслимо формирование местного самосознания:
…не укоренение в косной среде локальных мифов, не ресентиментная подозрительность к центру <…>, а попытка решительно преодолеть то и другое была центральным пунктом исторической концепции областников. Естественно, что в универсальной антитезе природы и культуры данное обстоятельство предопределило приверженность Потанина, Ядринцева и их последователей к полюсу культуры, институциям, в которых она воспроизводится и, в конечном счете, при всех реверансах в сторону крестьянской среды, – к урбанизму[1258].
По отношению к «деревенщикам» сложно говорить о сколько-нибудь единой концепции сибирской истории, но существующие разработки этой проблематики (например, очерки Распутина «Сибирь, Сибирь…») отмечены как раз влиянием областнических идей. Инициативы по развитию местных культурных институций, которые должны исправить перекос в развитии центра и периферии, горячо поддерживались «деревенщиками». Поздно приобщившийся к образованию Астафьев не раз сетовал на отсутствие в глубинке институционализованных возможностей для развития одаренного человека и впоследствии целенаправленно использовал свой авторитет для культуртрегерской деятельности в родном городе:
Я прожил на Вологодчине в уважении и почете десять плодотворных лет и на родину, домой, вернулся на «белом коне», иначе сюда и нельзя было возвращаться (в Красноярск. – А.Р.). <…> Мне с уже утвердившимся авторитетом удалось переменить климат и творческую дремучесть сибирского города[1259].
Распутин, осмысливая современное состояние одного из пяти «сибирских областных вопросов»[1260], обращал внимание на профанирующий характер советского образования, низкий уровень которого со временем перестал определяться только территориальной отдаленностью сибирских городов от центра. Дойдя до повсеместного воспроизводства «образованщины», университетская система, по Распутину, не выполнила своей главной функции – формировать «энергичных и качественных людей, радетелей маловозделанной земли»[1261]:
Едва ли не в каждом мало-мальски звучащем сибирском городе – сегодня университеты, технических и экономических вузов вдесятеро больше, чем в старые времена реальных училищ, но превратились они сначала в массовое, инкубаторного расположения, выращивание профильных специалистов, дальше профиля не способных ни взглянуть, ни понять. <…> Сибирь, только-только начинавшая в XIX веке протирать глаза на свою незадавшуюся судьбу, принявшаяся с трудом засевать в свой народ семена гражданского и сыновьего сознания, отброшена ныне в этом смысле дальше, чем была она сто лет назад[1262].
Невысокое качество местной культурной среды Распутин выводил из обычной для центра политики в отношении колонии: «как можно больше брать и как можно меньше давать»[1263], но предельно четко он обозначал и бесспорную для него зависимость развития культуры Сибири от осуществления крупных и целесообразных экономических проектов. В посвященном Транссибу очерке он напрямую увязал масштабный колонизационный проект с возникновением культурной инфраструктуры на территориях, где тот осуществлялся:
С выходом Транссиба в срединную часть Сибири, на вершину ее, точнее обозначились не только его собственные, ведомственные обязанности, но и культурные, духовные, просветительские задачи. Вспомогательный «обоз», подцепленный к локомотиву, продирающемуся в глубь восточной страны, все разрастался, и чем дальше, тем больше. Дорога сама по себе, если бы она даже шла налегке, не обременяя себя дополнительными нагрузками, несла задатки широкого преображения этого края. Загружай, что требуется, и вези без помех – даже идеи, вкусы, нравы, манеры, новые способы хозяйствования и управления. Но дорога не обошлась этим испытанным путем колонизации, не ограничилась завтрашними результатами, тем, что при перевозках составных частей жизни сама собой устроится и новая, приличествующая времени жизнь, а принялась одновременно со своим ходом укоренять то лучшее, без чего обходиться уже было невозможно. Транссиб продвигался обширным фронтом, оставляя после себя не одно лишь собственное путевое и ремонтное хозяйство, но и училища, школы, больницы, храмы[1264].
Транссиб, по мысли Распутина, – практически идеально решенная колонизационная задача. Реализация этого проекта позволила, с одной стороны, на новом уровне интегрировать Сибирь в символическое целое империи, а с другой, придала импульс развитию местного культурного самосознания. Но постколониальный сюжет, разрабатываемый сибиряками-«деревенщиками» в 1970 – 1990-е годы, зафиксировал не культуростроительный эффект колонизационно-модернизационных акций, а «природовредный»[1265]. Распутин и Астафьев запечатлели коллапс советского утилитарного освоения Сибири, которое, с их точки зрения, не дало региону сформироваться в полноценный культурный субъект и подорвало прежнее самопонимание Сибири как пространства природной первозданности. Впрочем, по мысли Распутина, анализировавшего последствия постсоветской колонизации Сибири[1266], несовершенства и просчеты советского модернизационного проекта меркнут на фоне современной ресурсной политики, стремительно приближающей полную деградацию региона:
Не больно радив и аккуратен был прежний хозяин, загребал он через край, с потерями не считался… Но размотать в одну жизнь сказочное богатство не мог и он, сколько бы ни усердствовал, у нас оставались надежды, что со временем дело хозяйствования и управления перейдет в более рачительные руки наследников. И вдруг оказалось, что наследство этому роду, а если без иносказаний – народу, больше не принадлежит и что его в результате хитрых и одновременно грубых махинаций захватили проходимцы, отиравшиеся возле завещательных бумаг и сами себе устроившие распродажу общей собственности.
Не одно десятилетие Сибирь пыталась снять с себя ярмо российской колонии, а теперь кончается тем, что ей приготовлена участь мировой колонии, и со всех сторон к ней слетаются хищники, вырывающие друг у друга лакомые куски[1267].
Расхождение двух поколений представителей сибирской идентичности проявилось и в отношении к государству – чрезвычайно важном моменте, существенно определявшем содержание регионального и экологического дискурсов. К. Анисимов справедливо замечает, что разница в подходе касалась «принципов самого диалога с центральной властью, <…> восприятия ее либо в качестве харизматического источника учреждения всеобщего порядка (безотносительно к тому, хорош этот источник в настоящий момент или плох), либо в качестве рациональной институции (опять-таки безотносительно к тому хороша она или плоха, успешна или нет)»[1268]. Обосновывая свою программу развития региона, областники адресовали ее «не столько центральной власти, сколько Европейской России как таковой»[1269], и, стало быть, признавали живыми и действенными «горизонтальные связи, обретающие свой законченный вид в разных сообществах, трансформациях аграрной общины»[1270]. Напротив, «деревенщики» оказались более привержены иерархическому восприятию социума, согласно которому власть, идеологи и агенты модернизации взирают на «управляемые» слои населения сверху вниз, как на объект, подлежащий «социальной перепланировке»[1271], а «подчиненные» сопротивляются, уклоняются либо претерпевают[1272]. Анисимов настаивает, что с этой точки зрения позиции власти и народа отмечены явной ролевой асимметричностью, а социальная коммуникация между ними по большей части фиктивна. Подтверждением этого тезиса служит реплика Распутина, охарактеризовавшего тупик коммуникации с министерскими чиновниками: «Мы продолжаем говорить на разных языках»[1273]. Любопытной особенностью такой коммуникации, замечает Анисимов, «является то, что правомочным собеседником в бессмысленном в конечном счете диалоге Распутиным продолжает видеться почти исключительно власть. Перед нами вполне архаичный социальный феномен, анализировавшийся социологами и фольклористами, подметившими, в частности, что герой русского лубка, бунтуя против власти, источник прощения и религитимации видит, в отличие от героя западных сюжетов массовой авантюрной словесности, в той же самой власти»[1274]. Рассмотренная исследователем семиотика поведения героя одного из распутинских очерков Н.П. Смирнова обнаруживает действие упомянутого выше коммуникативного механизма: тот покидает Петербург и поселяется отшельником на гидрологическом посту у Телецкого озера; когда возникает угроза алтайскому заповеднику, он пишет письмо Михаилу Суслову, с братом которого учился, и просит спасти заповедник. Власть удовлетворяет его просьбу, но Смирнов и «не протестует собственно против власти, а в соответствии с неписанными правилами русского авторитаризма, “грамматикой” его иерархий конвертирует энергию своего несогласия, по существу, в жанр челобитной»[1275]. Так или иначе, «вне символического контура власти (недаром одно из поздних распутинских определений патриотизма – “систем[а] государственно-охранительных взглядов”) пространство для социальной самоорганизации у героев Распутина, равно как и у автобиографического повествователя… узко и ограниченно»[1276].
Сводить взаимодействие власти и народа у «деревенщиков» исключительно к «репрессивной» модели оснований нет, поскольку коммуникация между двумя этими культурно-политическими субъектами описывается Распутиным и – реже – Астафьевым также посредством традиционной метафорики родства, прежде всего заведомо неравноправных отцовско-сыновних отношений. Размышляя о сворачивании колонизационных инициатив в Сибири, Распутин замечает: «И как-то сами собой заглохают и меркнут, теряют свое значение слова: сын земли, радетель, эконом… Видимо, людское сыновство неотделимо и невозможно без государственного отцовства»[1277]. Иначе говоря, в сознании «деревенщиков», особенно Распутина, образ государства оказывается внутренне непоправимо расщеплен: от гнета государства русский мужик бежит в Сибирь, однако позднее под патронатом государства осуществляются проекты развития этой территории (тот же Транссиб); декларирующие необходимость соблюдать «государственную пользу» министерства и ведомства разоряют сибирские природные богатства, но наличие «окормляющей» воли государства способствует символическому собиранию огромных пространств и их населения[1278].
В экологической публицистике «деревенщиков» второй половины 1980-х – начала 1990-х годов, которая начинается с осмысления региональных природоохранных проблем, со временем перерастает в критику государственной политики природопользования и становится одним из воплощений позднесоветского гражданского активизма, наряду с властью обнаруживается еще один адресат – «общественность», то есть наиболее активная часть социума. Казалось, экологическое движение в сочетании с социально-политическими переменами рубежа 1980 – 1990-х годов благоприятствовали кристаллизации территориально-региональных идентичностей, однако «деревенщики» открывшейся возможностью сформулировать неообластническую доктрину не воспользовались. Коммуникативная модель «власть – народ» оказалась для них привычнее, нежели понимание общества как сложно устроенной системы, работающей на принципах согласования интересов его групп и слоев (идея коммуникации между составляющими общество сообществами, как, впрочем, и идея регулирования гражданами общественного развития в рамках «органицистского» подхода не актуальны). Условный социум, которому «деревенщики» адресовали свои размышления, ими почти не дифференцировался – они обращались к «народу» вообще, оттого антиколониальные обертоны их выступлений читались не столько в аспекте противостояния метрополии и колонии, сколько как выражение традиционного для дискурса внутренней колонизации конфликта власти и народа. Отсюда понятный интерес этой группы писателей к положению и исторической судьбе «управляемых», «подчиненных» социальных и этнических групп – прежде всего русского крестьянства и, если иметь в виду территориальный миф, северных инородцев. Любопытно, что те и другие включены «деревенщиками» и в сюжет политического угнетения, и в сюжет экологический (или культурно-экологический) – в качестве объекта постепенного вытеснения и гибели в насильственно отчуждаемой и потому непригодной более для жизни среде.
Начальный этап литературной карьеры дебютировавших в разное время и с разным темпом обретавших писательскую зрелость трех будущих «деревенщиков» – С. Залыгина, В. Астафьева и В. Распутина – был ознаменован появлением образа северного инородца[1279]. Этим авторам, судя по всему, «незнаемые люди»[1280] русской словесности – сибирские туземцы, «незнаемыми» не казались. Представители северных племен – ненцы, коми, эвенки, долганы, нганасаны, кеты – были частью родного для них либо хорошо известного западно– и восточно-сибирского ареалов. Залыгин после окончания сельскохозяйственного техникума в 1932 году недолго работал в Хакассии, во время войны служил техником-гидрологом на полярной станции в Салехарде; знакомство Астафьева с представителями северных народностей пришлось на 1930-е годы, когда он вместе с отцом и его новой семьей оказался в Игарке[1281], впоследствии контакты спорадически возникали во время приездов писателя в Сибирь, начиная с конца 1950-х годов; напоминание Распутина о «тунгуссковатости»[1282] деда говорит о включенности рода писателя в процессы метисации, многочисленные поездки молодого журналиста в 1960-е годы также способствовали вхождению в культуру автохтонных племен Восточной Сибири.
Написанные Залыгиным и Астафьевым рассказы, героем которых стал сибирский абориген («Оськин аргиш» и «Тимкоуль»), имеют явные следы ученичества. Оба они нарочито актуальны по тематике и близки по ракурсу изображения северян, представавших прежде всего членами советской «семьи народов». Залыгин помещает в центр молодого северянина Оську, который, рискуя собственной жизнью, приводит олений обоз (аргиш) в Салехард, чтоб животных там пустили на мясо для блокадного Ленинграда. Значительная часть рассказа отведена описанию противоборства героя со снежным бураном, и этот никому не заметный подвиг героя ставится автором в параллель с другим трудовым подвигом, о котором знает только Оська – длившейся полтора суток рабочей сменой бригады шестнадцатилетнего комсомольца Третьякова. Эвакуированный из Ленинграда в Салехард Третьяков готовит мясо из оленей Оськиного аргиша, чтобы успеть погрузить его на пароход и отправить голодающим. Залыгин изобразил охваченных единым порывом советских людей, готовых пожертвовать всем ради спасения сограждан, и Оська вошел в это единство на правах «представителя Севера». Опознавательные черты сибирского аборигена даны здесь весьма экономно, чтобы не разрушить баланс между этнически маркированными характеристиками «природного» человека и идеологически маркированными – советского человека: Оська упоминает, что его отец – коми, а мать – ненка, он непосредствен, как ребенок, воспитанный тундрой, в силу молодости он не знает тонкостей кочевой жизни оленеводов, но сознательность, укрепленная агитатором Василь Василичем, помогает ему бороться с экстремальными погодными условиями. В целом, психологически-этнографическая составляющая рассказа определенно интересовала автора меньше событийной, однако алгоритм изображения характера северного аборигена был ему ясен и добросовестно воспроизведен.
Вообще, формализованность мотивов, связанных с малыми народами Севера, в советской литературе была довольно высока. Соцреалистическая проза наработала ряд сюжетно-мотивных клише, из комбинаций которых обычно складывалось повествование о судьбе инородца, либо страдающего от царского гнета и ожидающего светлого будущего, либо счастливо дождавшегося этого будущего и с энтузиазмом перестраивающего вековые основы собственной жизни. Казалось, стабильный комплекс северных мотивов поддавался обработке даже начинающими писателями (это позволяло кроить текст, как позднее выражался Астафьев, по «портняжным лекалам пресловутого соцреализма»[1283]), особенно если они знают местный материал. Между тем, в первом астафьевском сборнике «До будущей весны» именно рассказ о северном аборигене «Тимкоуль» оказался едва ли не самым слабым (впоследствии писатель не включал его ни в одно из своих изданий и, кажется, избегал упоминаний о нем), но в контексте творчества Астафьева – как робкая попытка найти наиболее адекватный художническому мироощущению тип конфликта (хрупкий человек в противостоянии природным стихиям) – этот рассказ может быть интересен.
Обычно описание жизни малых северных народов в советской литературе подчинялось нарративу, названному Юрием Слезкиным Большим путешествием[1284]. По сути своей оно было версией колониального сюжета, повествующего (чаще всего в романном жанре) о благотворном воздействии русских / советских колонизаторов на «пробуждение» туземцев и их последующем движении от «патриархальщины к социализму»[1285]. Астафьев же в «Тимкоуле» изобразил итоги советского преобразования Севера. Его герои уже пришли в социализм, культурная революция свершилась. Жизнь некогда угнетенного кочевого народа реорганизована в соответствии с новыми социальными и культурными стандартами: эвенкам доступна современная легкая, подбитая мехом одежда, которую они используют вместо традиционных тяжелых парок, досуг они проводят в Красном чуме, где «сидят… трубки курят, радио слушают, книжки читают, журналы смотрят»[1286]. Но если основные общественные и экономические противоречия благополучно разрешены и осталось разрешить лишь конфликт «хорошего с лучшим», то что может быть источником сюжетной динамики в мире счастливых и просвещенных северных инородцев? Оказывается, стихия.
В рассказе Астафьева природная стихия – снежный буран в тундре – становится метафорической параллелью стихийности главного героя. Эвенк Тимкоуль, «сын»[1287] в терминологии анализировавшей структуру соцреалистического романа Катарины Кларк или «недисциплинированный туземный Ученик»[1288] в терминологии анализировавшего структуру Большого путешествия Ю. Слезкина, наделяется автором рассказа типологической для молодого коммуниста чертой – импульсивностью. По контрасту сознательностью и выдержкой отличается «Местный Туземный руководитель»[1289], «отец»[1290] – парторг Джераиль. Недостаточная сознательность Тимкоуля, побуждающая его пренебречь помощью коллектива и отправиться в путь во время пурги, едва не доводит героя до гражданского (и идеологического) поражения – бездумно подвергая опасности себя, он рискует подписными листами, которые могут не дойти в Москву, в Кремль, к Сталину. Нехватка сознательности ставит под сомнение и «родоплеменные» навыки Тимкоуля, «сына тундры», выросшего в ней, но не сумевшего обдуманно по ней передвигаться и потому едва не погибшего. В результате адаптации Астафьевым шаблонной для соцреалистического романа схемы распределения ролей к «национальному по форме» материалу возникает не только социальная, но и этнокультурная мотивировка эмоционально-психологических проявлений героев. Импульсивность Тимкоуля свидетельствует о том, что он еще не стал «настоящим коммунистом», но также о том, что он не стал и «настоящим эвенком», ибо настоящему эвенку атрибутрованы сдержанность, самообладание и мудрость. Именно эти качества в духе романтической детерминации характера геоприродными факторами автор рассказа вменяет своим «зрелым» персонажам: «Суровая природа сделала ее (матери Тимкоуля. – А.Р.) душу настороженной, замкнутой. Посмотреть со стороны – равнодушный человек и к радостям, и к бедам»[1291]. Сдержан и бесслезен старый охотник Айгичем, и только закрепившая символический переход эвенков в мир братства подпись под Воззванием за мир, которую собратья-промысловики доверяют ему поставить первому, заставляет его плакать. Сдержанность и молчаливость туземцев[1292], проистекающие из особого, близкого северной природе образа жизни и старательно акцентируемые Астафьевым, в контексте рассказа предстают экзотизирующими приметами культурно-психологической инаковости и знаками, позволяющими отличить сибирских аборигенов в большой и пестрой «семье советских народов».
Инаковость аборигенов севера начинающий писатель хотел обнаружить и в языке персонажей – северных туземцев. В письме 1952 года к редактировавшему сборник «До будущей весны» Владимиру Черненко Астафьев делился догадкой: «Колорит достигается не употреблением северных слов, а речевой интонацией. Я это понял позднее, и теперь у меня северяне говорят по-северному, а не как закоренелые русаки»[1293]. Соглашаясь с этим наблюдением по сути, нельзя не отметить, что в «Тимкоуле» автор, скорее, воспроизводит интонационный строй не столько северной, сколько некой условной «нерусской» речи, насыщенной одновременно обнаруживающими мудрость коллективного «Я» народа апофегмами и злободневными политическими лозунгами:
Широкая тундра, широкая, кажется, нет ей конца, но шире ее моя песня. Лети, песня, как птица, говори мои думы родным эвенкам, расскажи им о Джераиле. Он послал меня за подписями, он радостью душу мою наполнил[1294].
Сосредоточенность на финальном пункте Большого путешествия позволила Астафьеву-рассказчику редуцировать общепринятую сюжетную схему: осуществленная большевиками модернизация жизни «отсталых» северных народов остается вне повествовательных рамок, но большевистское присутствие ощутимо и в земном раю, с которым послевоенное советское искусство устойчиво соотносит жизнь при социализме. В сакральном центре северного пространства парадоксально находятся Москва, Кремль и Сталин, замещающий божество и именуемый в рассказе Большим человеком[1295]. Неотмененное, но дискурсивно замаскированное в советской культуре подчиненное положение инородцев в данном случае проявляется в спонтанно воспроизводимых характеристиках их физических данных, например, малорослости, контрастирующей с размерами Большого человека, который, «как медведь, едва в дверь протискивался»[1296]. К Большому человеку устремлены мысли идела эвенков: охотника Мукдына интересует, узнает ли Сталин о поставленной им под Воззванием за мир подписи, Айгичем рвется поблагодарить вождя за путевку на южный курорт, а замерзающий в тундре Тимкоуль мечтает о поездке в Москву, чтобы «увидеть Кремль, Сталина и отдать ему пакет, который лежит на груди»[1297]. От Сталина в рассказе исходят дары просвещения, чудесно преображающие жизнь коренных северных народов, а сам вождь в рамках модифицированного имперского дискурса в очередной раз утверждается в роли «приемного отца и пожизненного покровителя»[1298] сибирских туземцев. Согласно фабуле рассказа, процесс усыновления начинается задолго до того момента, когда благодарные эвенки оказываются способны принести посильные дары вождю. В воспоминаниях бригадира Айгичема, которые содержат в свернутом виде сюжет «проклятого колониального прошлого», агент царской колониальной власти – «толстый купец», лишает героя отца. Айгичем мстит – и купец отправляется «в воду, рыбу кормить»[1299], а вынужденного скрываться от властей Айгичема спасает Большой человек, отбывающий на севере политическую ссылку (его «самый главный купец, царь, хотел казнить, да, верно, испугался, далеко от себя выслал на север в тундру»[1300]). При этом конфигурация ролей и мотивов в сюжете о колониальном прошлом севера и сюжете о его деколонизованном настоящем зеркально отражают друг друга: северный абориген вступает в конфликт с социально чуждой ему властью и теряет отца – северный абориген обретает отца и живет в душевном единении со своей властью.
Деколонизация Севера автором «Тимкоуля» объяснена долгожданным освобождением закабаленных народов и их последующим превращением в деятельного исторического субъекта. Этому учил Айгичема Большой человек: «…надо, чтобы все северяне взялись за ружья и прогнали начальников прочь!»[1301]. Однако современную политическую ситуацию (исходящую из-за границы военную угрозу Советскому Союзу) эвенк Айгичем описывает в системе понятий, порожденных колониальным опытом:
…злые шаманы захотели быть начальниками, захотели снова даром пушнину брать, смерть на земле посеять. Э-э-й, кровожадные звери, знает Большой человек, чего вы хотите. <…> Я, старый охотник, Айгичем, говорю: мы, эвенки – мирные люди, но мы бьем зверя в глаз, не забывайте об этом![1302]
Актуализация Астафьевым в речи персонажей колониальной лексики, фиксирующей иерархию господства и подчинения, оправдана местным колоритом и значимостью колониального опыта для данного региона. Вместе с тем язык, приспособленный для репрезентации мобилизационных настроений и патерналистского комплекса, связывающего субъект и объект опеки, оставался универсальным языком позднесталинской культуры. И в этом смысле астафьевские герои-эвенки были не просто людьми Севера, но советскими людьми Севера.
В качестве сюжетной метонимии усыновление сибирского аборигена государством присутствует в еще одном раннем астафьевском рассказе «Гирманча находит друзей» (1953), где добродетельные, но «дикие» в силу оторванности от цивилизации эвенки жертвуют собой ради спасения пассажиров тонущего парохода. Маленького Гирманчу, оставшегося сиротой, капитан спасшегося судна и одновременно посланец модернизированного мира, забирает с собой и передает в детдом, гарантирующий замену утраченной семьи семьей новой[1303]. Для благополучного вхождения в нее от маленького северянина не требуется даже умения говорить (полноценная коммуникация между ним и его новым окружением невозможна из-за того, что Гирманча не знает русского языка), ибо потенциальный успех социализации инородца предопределен его желанием усвоить и разделить ценности новой жизни. Капитана, взявшего на себя ответственность за судьбу маленького «дикаря», в детдоме сменяет голубоглазый комсомолец, перенимающий от старшего товарища социализаторскую миссию. Ему благодарный Гирманча в дар за избавление от сиротства приносит вырезанные отцом из дерева собаку и трубку. И хотя символическая природа этого жеста для автора рассказа, видимо, была не очевидна, событийно-символический ряд текста дает основания интерпретировать его (жест) как обмен отцовского наследия на возможность ликвидации собственной «отсталости» и вхождения в новый мир. Гирманча-ребенок буквально репрезентирует представление о простодушии и «детскости» туземца, использовавшееся господствующей культурой для утверждения права управлять якобы нуждающимися в опеке. Забегая вперед, можно сказать, что условный Гирманча астафьевской прозы так никогда и не повзрослеет. В какие бы дискурсивные комбинации ни включался писателем герой-инородец, в каких бы сюжетных поворотах ни участвовал, он останется воплощением простодушия и наивности, оцениваемых в диапазоне от сентиментального умиления (в «Гирманче…») до брезгливого недоумения (в главе «Не хватает сердца» из «Царь-рыбы», где упомянуто о «наивных северных народах»[1304], которые отлавливали и сдавали властям бежавших из лагеря зэков, получая за это, словно за заготовку пушнины, по сто рублей за голову: «…герои энкавэдэшных служб вместе с падкими на вино полудикими инородцами пили до зеленых соплей на деньги, дуриком доставшиеся…»[1305]).
В рассказах начала 1950-х годов Астафьев не стремился сделать своих героев-туземцев этнографической диковиной, хотя использовал «отстраняющие» приемы, восходящие к приключенческой литературе с проблематикой фронтира и шире – колонизации. Идеологически инородец представал в них одним из многих советских людей, но психологически писатель стремился индивидуализировать его посредством традиционного культурно-климатического детерминизма, выводя характерологические особенности персонажей-северян из факта обитания в далеком и суровом краю. Герой-туземец истолковывался художником в свете декларируемых советскими идеологическими институтами прогрессизма и антиколониализма[1306], модернизации и просвещения. Отсюда закрепленная в фабуле рассказов обязательная социальная «нормализация» отсталого героя, его движение в направлении «модерности», интегрирование в более разумную и упорядоченную систему отношений. Однако уже в этих ученических рассказах можно усмотреть первый, неумелый – в силу зависимости писателя от соцреалистических клише – шаг к тому, что на протяжении десятилетий будет важнейшей составляющей литературного проекта «деревенщиков», а именно – реабилитации локальной (в данном случае сибирской) идентичности в рамках регионально-областнической парадигмы, реанимированной в противовес централизму советского государственного устройства. Выражавшие региональную специфику культурные типы – инородец, старообрядец и крестьянин (обычно старожил), ориентируясь на которые интеллектуалы XIX века (Н. Ядринцев, Г. Потанин, Афанасий Щапов)[1307] «изобретали» сибирскую идентичность, позднее оказались весьма востребованными в сибирском изводе «деревенской прозы», где их функции никогда не сводились к созданию местного колорита.
Впоследствии в прозе Астафьева встречаются еще два случая обращения к фигуре северного инородца: один в «Царь-рыбе» (1975–1977), другой в публицистике конца 1980-х годов («С карабином против прогресса», 1988; «Вечно живи, речка Виви!», 1989). Естественный и, казалось бы, наиболее актуальный для этих произведений экологический дискурс в данном случае можно рассматривать как один из симптомов формирования в позднесоветской культуре постколониального письма. Рассуждать о нем можно, как показывает Илья Кукулин, применительно к не– и подцензурному сегментам советской литературы[1308], в частности – к эстетико-идеологической программе «деревенщиков». В 1950 – 1970-е годы, несмотря на попытки гальванизировать мобилизационный настрой крупными, не называвшимися официальной риторикой колониальными, но по существу колониальными инициативами[1309] (освоением целинных земель, возобновлением строительства БАМ), кризис советского модернизационного проекта, эрозия государственных институтов, отвечающих за определение стратегических ориентиров общественного развития, стали очевидными[1310]. Все это стимулировало формирование в позднесоветской культуре 1970-х годов постколониального сознания и письма. Процесс этот не всегда детерминирован исключительно обстоятельствами политической борьбы за независимость, но может быть запущен приостановкой или кризисом колониальных инициатив. Тогда он становится «рефлексией коллективной травмы»[1311], нанесенной колонизацией, попыткой проблематизировать объяснявшие колонизацию «большие нарративы» (прогресса, просвещения и т. п.):
В русской литературе второй половины ХХ века <…> можно проследить подобный постколониальный эффект. Возникает целая группа произведений, в которых культурный универсализм представлен как неотделимый от переживания исторической травмы и памяти о репрессиях со стороны власти[1312].
Исследователь полагает, что в связи с поздне– и постсоветской культурой необходимо обсуждать «внутреннюю постколонизацию» (в «рефлексивной» и «мифологизирующей» формах[1313]), свойственную ей диффузию культурных ролей доминирующего и зависимого, ее особую поэтику[1314].
В специфически российском / советском варианте постколониальности были актуальны смыслы, которые выросли из рецепции того типа управленческих практик, которые в последнее время стали часто описывать метафорой «внутренняя колонизация»[1315]. В подцензурной литературе 1970-х годов именно «деревенская проза», считавшая себя голосом безгласного большинства – человеческого ресурса и жертвы модернизации, не причастного к культурным механизмам публичного предъявления своего социального Я, искала способы проговаривания травмы, полученной в ходе реализации модернизационного проекта. Демонтаж «неопочвенниками» прогрессистского дискурса, сомнения в ценности рациональности, стремление к культурной реабилитации маргинальных по отношению к центру пространств стали традиционалистской реакцией на социальное прожектерство власти и присвоенное политической и интеллектуальной элитой право «дискурсивной инфантилизации»[1316] крестьянства. Другое дело, что «деревенщики» в большинстве случаев тяготели к такому описанию внутренней колонизации и ее последствий, которое бы четко разграничивало агентов власти и ее жертв, «пришельцев» и «аборигенов». В историко-политических построениях консервативно-националистического лагеря важным было указание на источник негативных воздействий, так что «деревенщикам» тоже было важно отделить «зерна от плевел». Гибридность идентификационных структур (то есть взаимопроникновение элементов господствующего и подчиненного сознаний) попадала в поле зрения В. Белова, В. Астафьева, В. Распутина чаще всего непреднамеренно, как непредусмотренный эффект осмысления драматической судьбы «подчиненных», пострадавших от действий власти, но не способных по каким-либо причинам оказать ей действенное сопротивление. В этом контексте особенно интересным для анализа текстом представляется «Царь-рыба» Астафьева: во-первых, ее действие разворачивается на территории, где осуществлялся колониальный проект (как бы он ни назывался) и в управлении людским ресурсом использовались жестокие карательные практики (соответственно (пост-)колониальные мотивы здесь очевидны и неметафоричны); во-вторых, это, видимо, тот случай, когда «идеология» совпадает с «филологией»: кризис групповой и личностной идентичности, который автор безуспешно пытается преодолеть энергичными инвективами в адрес кажущихся ему опасными явлений и персонажей, нашел самое непосредственное воплощение в гибридности жанровых[1317] и риторических структур. Конечно, рассматривать «Царь-рыбу» в качестве иллюстрации к положениям постколониальной теории не стоит, более того, некоторые авторские сюжетно-риторические ходы доказывают зыбкость пост(внутренне)колониальных построений, тем не менее, имеет смысл ввести ключевой для произведения образ сибирского инородца в контекст постколониальной рефлексии и вместе с тем вычленить в его трактовке собственно астафьевское, продиктованное спецификой художественного мироощущения этого автора.
Если постколониальный дискурс предполагает критическую рефлексию и – в идеале – рационализацию колониального, то в связи с «деревенщиками» (прежде всего речь идет об Астафьеве и Распутине) имеет смысл оговориться: дискурс колонизации в их культурном сознании обладал высокой степенью гетерогенности[1318]. В этом дискурсе актуальным оставался смысловой слой, связанный с исторической памятью о вольнонародной и крестьянской колонизации Сибири. Представление о вольнонародной колонизации XVII века работало на символическое обособление Сибири, «вольного края» без тяжкого государственного гнета, от России. Акцентирование значимости крестьянской колонизации востока империи в конце XIX – начале ХХ века превращало русского крестьянина в одного из главных акторов колонизационного движения, а следовательно, империо– и нациестроительства[1319]. Пропущенное через фильтр областнических идей, рассеянных в сибирской литературе первой трети XX века, ретроспективно поэтизированное восприятие «деревенщиками» колонизационного освоения сибирских земель в какой-то мере резонировало, с одной стороны, с националистически ориентированной историософией (Л. Гумилев), настаивавшей на особой витальности, «пассионарности» русских, а с другой стороны, с «неопочвенническим» регионализмом, противопоставлявшим «объевропеившийся»[1320] центр сохранившей национальную самобытность глубинке.
Мифологизированное видение хронологически ранних волн колонизации Сибири (XVII – начала ХХ веков) вступало в диссонанс с драматической оценкой «деревенщиками» ее советского этапа. Трактовка ими практик властного управления внутренними территориями, социальными и этническими группами, их населявшими, в известной мере обусловливалась представлением о советской модернизации как о систематическом подавлении (правда, этот мотив гораздо более свойствен Астафьеву, нежели Распутину, гибко оценивавшему плюсы и минусы советского колонизационно-модернизационного проекта, особенно на фоне постсоветской политики в отношении Сибири). В не вошедшей по цензурным соображениям в основной текст астафьевской «Царь-рыбы» главе «Не хватает сердца», посвященной штрафной колонизации, один из героев замечает: «А мужика-то, крестьянина, они охомутали, извели»[1321]. Неперсонифицированные они – это представляющие центр властные элиты, рассматривающие мужика исключительно как ресурс для решения реформаторски-мобилизационных задач. В основе антикоммунистического варианта традиционализма «долгих 1970-х», который истолковывал советскую власть как этнически и социально чуждую силу, поработившую население огромной и некогда процветавшей страны, лежала как раз коллизия господства – подчинения, имевшая, среди прочего, и колониальное измерение. Ее переосмысление «деревенщиками» применительно к отношениям политических «верхов» и крестьянства закономерно привело к изображению «человека из народа» «трагическим “козлом отпущения” за колонизационную политику власти и интеллигенции»[1322].
В «Царь-рыбе» многослойный колониальный дискурс, задававший гибридную самоидентификацию (иначе говоря, субъект, включенный в колонизационные процессы, ощущал себя проводником колониальных инициатив и вместе с тем объектом и жертвой «внутренней колонизации»), кристаллизовался наиболее явно. Колонизация как инструмент модернизации, основанный на неравноправии, принуждении и насилии (в этом сказывается болезненная память о принудительных политических практиках в отношении крестьянства в конце 1920-х – 1930-е годы), деформирующий либо уничтожающий традиционные культуры, разрушающий локальные экосистемы, вызывает у Астафьева отторжение. Здесь истоки экологического пафоса «Царь-рыбы», а также консервативной и антицивилизационной позиции ее автора, уповавшего – в просветительски-романтическом ключе – на целительную первозданность природы и смутно осознававшего тщетность подобных упований. Парадокс, однако, в том, что сворачивание колонизационных проектов, обладавших мобилизационной энергией, придававших импульс развитию северных территорий, и для автора, и для героев «Царь-рыбы» становится источником растерянности и подавленности. Север, иронизирует писатель, «всем охотно дарили и в песнях, и в кино, и наяву, за подъемные деньги, да мало кто его брал»[1323].
При чем же тут северный инородец? На мой взгляд, в условиях, когда в силу известных ограничений внелитературного характера полноценное проговаривание травмы коллективизации было невозможно, северный инородец в прозе Астафьева стал социально дублировать русского крестьянина. Он, как и крестьянин, – тоже «подчиненный» и тоже «жертва». Колониальный дискурс и дискурс социального неравенства, работающие с понятиями господства и подчинения, принуждения и сопротивления, таким образом, наслаивались, замещали друг друга.
В сближении Астафьевым образов сибирских инородца и крестьянина, в принципе, нет ничего неожиданного. Во-первых, оно подсказано самой позицией «подчиненного»: герой рассказа Владимира Короленко «Сон Макара», попытки областников увязать решение «инородческого» и «крестьянского» вопросов, признание Георгия Гребенщикова «я своего мужика часто сменяю инородцем»[1324] – принадлежат разным эпохам, но в совокупности являются разноплановыми свидетельствами культурной обоснованности подобного сближения. Во-вторых, оно прочно укоренено в реалиях социально-политической жизни 1930-х годов, когда северные народы подверглись раскулачиванию и коллективизации так же, как и русское крестьянство[1325].
Тонкая переакцентировка во взгляде на сибирского аборигена, который в советской прозе обычно представал пластичным материалом смелого эксперимента, наметилась еще в 1960-е годы в книге очерков Распутина «Край возле самого неба»[1326]. Фабула большинства очерков строилась проверенным способом – перед читателем разворачивались жизненные истории, доказывавшие полезность для северного аборигена движения к новому. Но если отвлечься от нормативной логики фабульного развития, выяснится, что герои очерков, древнее племя тофаларов, значительно больше занимают автора в качестве носителей традиционного сознания, а не модернизируемых объектов. Другими словами, Распутина-художника привлекает не их новая, «советская» с местным оттенком идентичность, а прежняя, созданная, среди прочего, архаичным культурным опытом.
Распутин программно открывает книгу очерком с явным историко-этнографическим креном. Приняв на себя волнующую роль рассказчика-первопроходца, автор знакомит читателя с неизвестной древней страной, размеры которой ненамного меньше Голландии, и ее неиспорченными жителями: «Когда тофалары охотятся вместе, они обязательно делят шкурки поровну. Это неписаный закон, которому подчиняются все. Они очень просты, отзывчивы, добры»[1327].
«Край возле самого неба» стал первым случаем появления в публицистике Распутина «естественных» людей, чье существование вне цивилизации не выглядело сколько-нибудь ущербным. К этому разряду героев типологически примыкают старые обитатели Матеры, носители русской крестьянской культуры (характерно, что одной из жительниц деревни в повести 1976 года оказывается старая тунгуска – еще один этнокультурный лик погибающего мира), что лишний раз подтверждает: традиция и традиционность интересуют автора по преимуществу не в этническом, а в стадиальном аспекте. Северный инородец первоначально занимал его исключительно как Другой – древний (в противоположность современному), «природный» (в противовес урбанизированному), непостижимый в своих психологических глубинах по контрасту с доминирующей рациональностью героев «Костровых новых городов». Удивление Другим достигает кульминации в очерке «От солнца к солнцу», где повествователь делится ощущением охватившего его страха перед природной стихией (многодневными ливнями в Саянах). Переживание беспомощности, невозможности контролировать ситуацию заставляет его пристально всматриваться в носителей иного типа сознания. Тофалары, находящиеся в «родственных»[1328] отношениях с природой, не выделяющие себя из нее, совершенно иначе переживают погодный катаклизм:
Впрочем, для тофаларов эти страхи скорее всего и не существовали. <…> Он (тофалар Степан. – А.Р.) спокоен, и это спокойствие естественное, в нем нет ничего чужого, взятого напрокат. Кажется, захоти он, чтобы этот дождь кончился, и тот покорно подчинится, успокоится и иссякнет. <…> И я смотрю на Степана другими глазами. Для меня он властитель Саян, и все эти горы собрались здесь по его зову. <…> Он – языческий бог, которому поклоняются тайно, но верно[1329].
Набор стандартных характеристик Другого – «естественного человека», восходящих к традиции позитивной ориентализации и распространяемых здесь на этнически и культурно чуждых сибирских инородцев, мало чем отличается от характеристик в более поздней прозе Распутина «простого человека» – русского крестьянина, близкого автору этнически, социально, культурно. Сибирский абориген и русский крестьянин представляют собой стадиально иной, более «архаичный» тип по отношению к условной фигуре современного цивилизованного человека. Они сближены объектным статусом «жертвы» модернизации, который для художника в конечном итоге более важен, чем этнокультурные различия[1330]. В этом смысле Распутин мало чем отличался от Астафьева.
Трудно сказать, в какой мере дублирование одной культурной фигуры другою (крестьянина инородцем) просчитывалось Астафьевым и было осознанным приемом «эзопова языка», но, так или иначе, в «Царь-рыбе» существует неявная мотивная параллель между спецпереселением крестьян, перемещенных в конце 1920-х – начале 1930-х годов с мест прежнего обитания на неосвоенные территории[1331], и переселением коренных северных народов в новые для них области под натиском пришельцев (автор упоминает о «застарелой тоске (в глазах туземцев. – А.Р.), о землях <…> благостных, с которых вытеснили их завоеватели в далекий полуночный край…»[1332]). Северный туземец, который часто был проекцией либо отвергаемого и подлежащего символической репрессии («грязный дикарь»), либо желанного и недостижимого («естественный человек»), тут стал зеркальным отражением процессов распада традиционной (крестьянской) идентичности. В этом смысле судьба коренных народов Севера в «Царь-рыбе» недвусмысленно свидетельствует о гибели аутентичных культур и традиции как таковой.
К центральной для «неопочвенничества» проблеме – конфронтации традиции и модернизации выводят Астафьева наблюдения за северными инородцами и сибирскими крестьянами, точнее, за деградацией этих этнокультурных и социальных групп. Пришедшийся на советский период виток модернизации, форсированной и инструментальной, воспринимается писателем в качестве внешнего направленного воздействия, разрушительного по отношению к упорядоченному и разумно устроенному сибирскому миру. Последний изображается как «органичное», основанное на традиции и крестьянском навыке «приспособления» к существующим климату и ландшафту, сосуществование трех различных локальных культур – крестьянской, старообрядческой и туземной, контакты между которыми разнообразны, но ориентированы на поддержание гомеостаза каждой из культур и сибирского мира в целом. Одна из ведущих идей астафьевской историософии, которая начала формироваться еще в «Пастухе и пастушке» (1-я ред. – 1967) и получила концептуальное завершение в романе «Прокляты и убиты» (1994–1995), заключалась в утверждении крестьянского, землепашеского образа жизни как единственно продуктивного и подлинно творческого. Отступление же от него было чревато тотальной «порчей» и в конечном итоге вело к военному или экологическому апокалипсису. В «Царь-рыбе» уничтожение крестьянского сословия, его культуры (с упоминанием неких безличных сил, безымянных начальников, которым зачем-то понадобилось переселять крестьян с места на место) представало одной из главных причин последующего упадка.
Когда-то были на Сыме станки, деревушки и промысловые пункты, но рыбаки и охотники держались жилого места до тех пор, пока твердо стоял на земле крестьянин-хлебопашец. Крестьянин – он не только кормилец, он человек оседлый, надежный, он – якорь жизни[1333].
Судьба сибирского инородца, который травит себя алкоголем, или старообрядца, стремительно теряющего иммунитет к новейшим веяниям («Что поделаш, культура наступат. Не можно дальше дикарями в лесу жить»[1334]), поставлена писателем в зависимость от судьбы «якоря жизни» – крестьянина. Его устранение из социального пространства (либо периферийное положение в нем), равнозначное гибели традиции, символически передано в «Царь-рыбе» смещением и уничтожением привычных культурных границ, деструктурацией прежних моделей поведения, обращением вспять процессов поступательного развития. Утратившее навыки традиционно крестьянского оседлого образа жизни, население поселка Чуш включается в процессы внутренней миграциии превращается в «угрюмый и потаенный сброд»[1335], вырождаются лишенные возможности заниматься традиционными видами деятельности кочевые северные племена, а старообрядцы готовы променять свою религиозную традицию на приобщение к благам цивилизации.
Для автора «Царь-рыбы» уход с обжитых мест крестьян, за которыми «потянулись осторожные промысловики», а затем «еще более осторожные и потаенные старообрядцы»[1336], знаменовал крушение прежнего порядка, внутри которого была давно отстроена система взаимоотношений между представителями «колониальной администрации» – условными «Захар Захарычами или Иван Иванычами»[1337] и беззастенчиво эксплуатируемыми «темными» инородцами или старообрядцами. Однако современные процессы модернизации на Севере, с точки зрения писателя, удивительным образом воспроизводят прежние примитивные отношения обмена между заинтересованным в эксплуатации сибирских богатств центром и местным населением («Говорят, к концу пятилетки и телевизор в Чуш проведут. Вот бы дожить»[1338]).
Утрату сибиряками крестьянской «остойчивости»[1339] Астафьев увязывал с общей деградацией нации. Мотивы порчи, вырождения возникают в его письмах с конца 1970-х годов и постепенно складываются в эсхатологически окрашенную историософию[1340]. Коренные северные народности – обитатели заповедной территории, которая одно время казалась писателю местом, где сохраняются первозданная природа и основанные на родстве и братстве человеческие отношения, – становятся жертвами распада традиционных основ жизни и, как следствие, вырождаются. Созданный в прозе Астафьева «референтный ландшафт»[1341] Сибири, генетически связанный с идеалами и природопользовательскими практиками коренного населения, изначально содержал в качестве конституирующего признак первозданности, представление о всегда имеющемся ресурсе. Но в ходе индустриального освоения региона этот ресурс был истощен. Неудивительно, что сибирский миф у Астафьева в итоге оформился в наделенный эсхатологическими коннотациями сюжет исчезновения (рода, крестьянского мира, девственной природы, бывшей когда-то «великой, богатейшей страной»[1342] Сибири). Из утопического пространства вольности, изобилия, людского единения Сибирь превратилась в пространство смерти, а в судьбе ее коренного жителя – северного инородца сфокусировались процессы гибели локальных культур и вырождения человека.
Кардинальное – по сравнению с ранними литературными опытами – изменение угла зрения на модернизационно-колонизационные процессы в зрелой прозе Астафьева создает впечатление, что писатель, рисуя северного инородца, переписывает себя прежнего: дискурс прогресса сменяется дискурсом регресса, а герой-туземец, увиденный в ранних рассказах как наивный и мудрый ребенок, живущий в согласии с природой, преобразованным этническим коллективом и под опекой власти, в творчестве 1970 – 1980-х годов ставится в ситуацию тотальной утраты – разрушается естественная среда его обитания, уничтожается традиционный уклад жизни, предлагаемые центром программы его социализации неэффективны. Дискурс прогресса в первом случае и регресса во втором актуален не только для сибирского аборигена; скорее, он задает общий контекст понимания перемен. Северный инородец астафьевской прозы – это человек вообще, «человек модернизируемый», подвергшийся «испытанию прогрессом»[1343], выброшенный в результате социокультурных сдвигов из привычной для него среды существования, вынужденный приспосабливаться к новым обстоятельствам ценой деформации прежней идентичности.
Тем не менее, эффект инаковости сибирского аборигена в зрелой астафьевской прозе по-прежнему присутствует, и создается он, в основном, приемами из старого репертуара, сформированного просветительски-романтической традицией изображения инородца. Безусловно, приемы эти – по сравнению с ранней прозой – автором трансформируются (но не так очевидно, как идеологически-историософская концепция анализируемых произведений), хотя воплощаются с гораздо большей литературной изощренностью. В силу того, что северный инородец оказывается автору-повествователю территориально и социально (в смысле принадлежности к «подчиненным» группам) близким, культурная дистанция в «Царь-рыбе» устанавливается и поддерживается прежде всего указанием на психологические различия. Астафьев воспроизводит такие устойчивые психологические характеристики северных аборигенов, как загадочность и непостижимость, недоступность их внутренней жизни взгляду внешнего наблюдателя. О своей туземной героине он пишет:
Никому еще не удалось объяснить эту вечную печаль северян, да и сами они объяснить ее не умеют, она живет в них, томит их, делает кроткими добряками, которые, однако, при всей простоте и кротости, никогда и никому до конца открытыми не бывают, и жизнь свою, особенно в тайге, на промысле, обставляют если не таинством, то загадочными, наезжему человеку непонятными обычаями и ритуалами[1344].
Несмотря на декларируемый отказ от интерпретации («никому не удалось объяснить» северян), автор «Царь-рыбы», конечно же, интерпретирует, приписывая объекту – в духе позитивной ориентализации – таинственность и иррациональность, тем выше ценимые, чем дефицитнее они в критикуемом традиционалистами рациональном мире цивилизации. Нечто древнее, мистическое, таинственное, не поддающееся определению кажется ему «эссенцией» характера аборигенов, позволяющей им ускользнуть от цивилизационного воздействия, остаться, как романтически полагает Астафьев, в глубинах своей «натуры» тождественными самим себе. Так, неуловимое, древнее, инстинктивно ощущаемое горожанином и интеллигентом – автором-повествователем, существенно меняет ракурс изображения туземки, и зарисовка с натуры, вроде бы нацеленная на разоблачение пагубного влияния цивилизации в отношении северных аборигенов, передает зачарованность «испорченной» северянкой:
…девушка-эвенкийка ощупью брала бутылку, наливала в стакан коньяку, медленно его высасывала, доставала из пачки зубами сигарету, <…> прикуривала <…> и снова вперивалась во что-то взглядом. В глуби светящихся тоскливой темью глаз настоялась глубокая печаль, и она, эта древняя печаль, вызывала необъяснимую тягу к женщине…[1345]
Любопытно, что различия между населяющими пространство Сибири этническими группами у Астафьева редко обозначаются при помощи расовых понятий. Северные инородцы, традиционно воспринимавшиеся в качестве «наиболее совершенных антиподов всего русского»[1346], как раз в этой своей «дифференцирующей», то есть требующей уяснения сущности «русскости», функции мало интересовали писателя. Вряд ли подобная терпимость имела под собой сколько-нибудь внятные «идейные» обоснования, скорее, она проистекала из повсеместно распространенной в Сибири практики метисации и самой идеологии «плавильного котла», которая, не будучи четко артикулированной, тем не менее многое определяла в отношении населения Сибири к процессам ассимиляции.
Помимо апробированных культурной традицией приемов изображения туземца, в «Царь-рыбе» обнаруживаются новые ракурсы репрезентации Другого или, лучше сказать, «своего Другого», каковым предстает северный инородец. Сокращение дистанции между автором-повествователем и сибирским аборигеном в некоторых случаях влечет за собой совмещение их точек зрения. Как следствие, некоторые сферы жизни героя-туземца выводятся из экспрессивно (восторженно или обличительно) окрашенного риторического поля. Например, маркировавшая представление о быте северных народов грязь (см., например, в главе «Уха на Боганиде» о детях, выбирающихся весной на воздух: «Которые в лохмотьях, которые и вовсе голопупые, грязные, выбирались детишки на свет из пропрелой, вонькой норы»[1347]), или сексуальная распущенность, характеризующая поведение матери в той же главе, ненарочито лишены оценочности, опять-таки «натурализованы», и потому, в качестве «свойств» самой жизни, оказываются вне морализаторского дискурса. Правда, такая безоценочность не является последовательно реализуемым принципом. В «Царь-рыбе» есть ситуации, когда обусловленное следованием инстинкту и слабо контролируемое поведение «естественного человека» получает то негативную оценку (приведенные писателем факты выдачи северными аборигенами беглых зэков в главе «Не хватает сердца»), то, напротив, поэтизируется. Например, весьма откровенная любовная игра, затеянная на глазах случайных зрителей пьяной эвенкийкой и Акимом, порождает в авторе-повествователе странную смесь неодобрения и завороженности свободой этих «детей природы»:
Дико крича, девка забесновалась, запрыгала, разбрызгивая воду обутыми в заграничные босоножки ногами. Похожа она была на шаманку, и в криках ее было что-то шаманье…
Связчик мой, «пана», понуро за мной тащившийся, мгновенно оживился, заприплясывал на тротуаре, подсвистывая, раскинув руки, топыря пальцы, работая кистями, пошел встречь красотке, словно бы заслышал ему лишь понятные позывные.
– Хана абукаль!
– Харки улюка-а-аль! – отозвалась красотка, сверкая зубами.
«Они поприветствовали друг друга», – догадался я и попробовал остепенить связчика, но он уже ничего не слышал, никому, кроме женщины, не внимал. Продолжая выделывать руками и ногами разные фортели, цокая языком, прищелкивая пальцами, «пана», точно на токовище, сближался с самкой, чудилось мне, и хвост у него распустился, но из лужи приподнялся беспалый бродяга и увесисто сказал: «Канай»[1348].
Любопытно, что уже в следующей главе авторская оценка близкой и даже менее откровенной по интенциям героев ситуации с участием «детей цивилизации» (Гоги и Эли) будет лишена неоднозначности. Проистекающее из нравственной глухоты бесстыдство и презрение к мнению окружающих, приписанное Астафьевым Герцеву, целенаправленно сработает на программное обличение интеллектуала, индивидуалиста и поклонника Ницше.
Меткий глаз охотника и скитальца вмиг выцелил и отстрелил от остальной массы эту пассажирку.
– Эй, курносая! Куда едешь, чего ищешь?
Не переставая сиять глазами и чему-то улыбаться, девушка весело откликнулась:
– Долю!
– Может, вместе поищем? – Герцев обладал способностью слепых или до беспамятства пьяных особ не стесняться людей, не видеть их, отделять при надобности от того, что делал или собирался делать, и потому решительно никакого внимания не обращал на ухмылки и любопытные взгляды пассажиров, а также обывателей поселка Чуш, толпящихся на дебаркадере. Пребывая среди масс, он остался толковать с девушкой как бы наедине. И – диво дивное! Девушка, почувствовав что-то неладное, внутренне напряглась, перестала улыбаться, пыталась сопротивляться наваждению, ощущала, как слабела под натиском какой-то силы, гипнотической, что ли?[1349]
Когда Астафьев в зрелом творчестве отказывался психологически индивидуализировать героев-туземцев, он, видимо, осознавал, что привычные культурно-психологические коды тут не работают. Не случайно в художественной структуре «Царь-рыбы» наделенные этнокультурной специфичностью образы аборигенов (шаманка в главе «Бойе», эвенкийка в главе «Туруханская лилия», мать в главе «Уха на Боганиде») в большей или меньшей степени воплощают иррациональную природную женскую стихию, они символичны, и эта символичность определяет гендерное измерение северной темы в астафьевской прозе. В противовес концептуализации Севера с точки зрения колонизатора (завоевателя новых земель, первопроходца) как пространства мужского и соответственно требующего проявлений маскулинности, точка зрения автора «Царь-рыбы» помещена внутри подлежащего колонизации геокультурного ареала, который определяется при помощи характеристик, в культуре закрепленных за женщиной. Женские инстинктивность, стихийность, ирациональность были ровно теми качествами, которые традиционно в колониальном дискурсе проецировались на представителей «диких» народов для фиксации ролевой асимметрии господствующих и подчиненных, так что туземные героини «Царь-рыбы» как бы удваивали интенсивность проявления этих качеств. В итоге образ географической периферии структурировался Астафьевым через культурно-периферийную семантику «женского». Уже в первой главе «Бойе» тема овладения северным пространством нашла воплощение в «архаичной эротической метафоре»[1350] – преследовании охотником (этнически русским, а значит, «пришлым» человеком) шаманки (коренной обитательницы Севера). Очевидно, что подобная метафора отождествляла овладение женщиной и овладение территорией и недвусмысленно репрезентировала отношения завоевания – подчинения. Однако логику ее сюжетной реализации Астафьев нарушает:
Опираясь на таяк, он двигался к шаманке, а она пятилась от него, увертывалась. Он ее хватал, горячо нашептывал ей русские и эвенкийские нежные слова. Она понимала их, похихикивала, играла глазками. Совсем он ее заморочил, настиг, схватил за косу, но мягко отделилась коса от головы шаманки, и так с вытянутой, крепко сжатой рукой Коля обвалился под яр Дудыпты…[1351]
В реальности, как выясняется, шаманки не существует, она – смутный объект желания, «обман», «мираж»[1352], симптом психической болезни, настигшей изолированного от людей охотника. Парадокс развертывания этой метафоры в «Царь-рыбе» заключен в смене казалось бы необратимых по отношению друг к другу ролей: завоеватель превращается в жертву, а предполагаемое покорение / подчинение территории, метафоризированной женским телом, остается недостижимым. Север становится символом непостижимого, завораживающего красотой и силой природного бытия, которое невозможно покорить, «колонизовать», ввести в пределы собственной власти, но к которому нужно приспособиться, соизмеряя свою слабость с его катастрофической мощью. Вероятно, феминные характеристики Сибири / Севера проистекали из уходившего в область мифа переживания художником этого пространства как хаоса, всепоглощающей и всепорождающей бездны (отсюда же свойственное астафьевской прозе противопоставление «бытийности» Севера «событийности» Юга[1353]). Однако те же самые феминные характеристики Севера (прежде всего педалирующие «пассивно-объектный» статус женщины), будучи спроецированными в область социально-исторической реальности, непроизвольно формировали взгляд на него как на объект, геокультурно зависимый и требующий обживания / освоения (о-своения).
Подобная двойственность свойственна и созданному Астафьевым образу сибирского инородца. В публицистике конца 1980-х годов писатель резко обозначит антитезу двух антропологических типов – «человека истории» и «человека природы»: «Дети природы – они были доверчивы до глупости, так нам, испорченным цивилизацией и бурными революционными преобразованиями людям, казалось в ту пору»[1354]. Обращаясь к инородческой тематике в этот период, он преследовал совершенно прагматическую цель: приостановить либо отменить одно из последних крупных советских экономических решений – о строительстве Туруханской ГЭС, потенциально опасном для северных оленеводческих племен и экологии региона в целом. Проект, обрекающий северные народности на вымирание, был для него очередным воплощением «антиэкологичного» отношения к человеку и природе, на котором базировалась советская идеология глобальных преобразований. Иронически воспроизводя тип сознания, свойственный «покорителям», Астафьев писал: