Черный тюльпан. Учитель фехтования (сборник) Дюма Александр
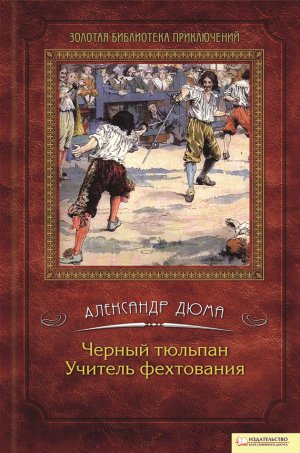
Он вскрикнул от удивления и помчался вдогонку за теми двумя, что бежали впереди.
Шагов через сто он догнал их и стал что-то рассказывать. Все трое остановились, следя за удалявшейся каретой, но, видно, они еще не были вполне уверены в том, что узнали того, кто в ней сидит.
Карета между тем подъехала к самым воротам.
— Открывайте! — закричал кучер.
— Открыть, — сказал привратник с порога своей сторожки, — открыть, а чем?
— Ключом, черт побери, — отозвался кучер.
— Ключом, это верно, но для этого надо его иметь.
— Как, у вас нет ключа от ворот?
— Нет.
— Куда же он подевался?
— У меня его взяли.
— Кто взял?
— Тот, кому, по всей вероятности, нужно было, чтобы никто не выходил из города.
— Мой друг, — сказал великий пенсионарий, высовывая голову из дверцы кареты и ставя все на карту, — ворота нужно открыть для меня, Яна де Витта, и моего брата Корнелия: я сопровождаю его в изгнание.
— О господин де Витт, я в отчаянии, — воскликнул, подбегая к карете, привратник, — но клянусь вам честью, что ключ у меня взяли!
— Когда?
— Сегодня утром.
— Кто?
— Молодой человек, лет двадцати двух, бледный и худой.
— Почему же ты отдал ему ключ?
— Потому, что у него был приказ, скрепленный подписью и печатью.
— А кем он был подписан?
— Господами из ратуши.
— Да, — сказал спокойно Корнелий, — по-видимому, нас ждет неминуемая гибель.
— Ты не знаешь, всюду ли приняты эти меры предосторожности?
— Этого я не знаю.
— Трогай, — сказал кучеру Ян. — Бог велит человеку делать все возможное, чтобы спасти свою жизнь. Поезжай к другой заставе.
— Спасибо, мой друг, за доброе намерение, — обратился он к привратнику, в то время как кучер разворачивал карету. — Намерение равноценно поступку. Ты хотел спасти нас, в глазах Господа это все равно как если бы тебе это удалось.
— Ах, — испугался привратник, — посмотрите, что там творится!
— Гони галопом сквозь ту кучку людей, — крикнул кучеру Ян, — и поворачивай на улицу влево: это единственная наша надежда!
Ядром кучки людей, о которой говорил Ян, были те трое горожан, которые, как мы видели недавно, провожали взглядами карету. Пока Ян разговаривал с привратником, она увеличилась на семь-восемь человек.
У вновь прибывших людей были явно враждебные намерения по отношению к карете.
Как только они увидели, что лошади галопом летят на них, они стали поперек улицы и, размахивая дубинами, закричали: «Стой! Стой!»
Кучер, со своей стороны, метнулся вперед и осыпал их ударами кнута.
Наконец люди и карета столкнулись.
Братьям де Виттам в закрытой карете ничего не было видно. Но они почувствовали, как лошади стали на дыбы, и затем ощутили сильный толчок. На один миг карета как бы заколебалась и вздрогнула всем корпусом, затем снова понеслась, переехав через что-то или кого-то, и удалилась под непрерывный град проклятий.
— Я боюсь, — сказал Корнелий, — что мы натворили беды.
— Гони! Гони! — кричал Ян.
Но, вопреки этому приказу, кучер вдруг остановил лошадей.
— Что случилось? — спросил Ян.
— Посмотрите, — сказал кучер.
Ян выглянул.
В конце улицы, по которой должна была проехать карета, показалась вся толпа с Бейтенгофской площади и, подобно урагану, с ревом надвигалась на них.
— Бросай лошадей и спасайся, — сказал кучеру Ян. — Дальше ехать бесполезно, мы погибли.
— Вот, вот они! — разом закричали пятьсот голосов.
— Да, вот они, предатели, убийцы! Разбойники! — откликнулись люди, бежавшие позади кареты. Они несли на руках раздавленное тело товарища, хотевшего схватить лошадей под уздцы, но опрокинутого ими.
По нему-то и проехала карета, как это почувствовали братья.
Кучер остановил лошадей, но, несмотря на настояния своего господина, отказался искать спасения в бегстве.
Карета оказалась в западне между гнавшимися за ней и бежавшими ей навстречу.
В одно мгновение она, подобно плавучему острову, поднялась над волнующейся толпой.
Вдруг этот остров остановился. Какой-то кузнец оглушил молотом одну из лошадей, и она упала в постромках.
В это время в одном из ближайших домов приоткрылась ставня и в окне можно было увидеть бледное лицо и темные глаза молодого человека, наблюдавшего за готовившейся расправой.
Позади него показалось лицо офицера, почти такое же бледное.
— О Боже мой, Боже мой, монсеньер, что же сейчас произойдет? — прошептал офицер.
— Конечно, произойдет нечто ужасное, — ответил тот.
— О, смотрите, монсеньер, они вытащили из кареты великого пенсионария, они его избивают, они его истязают!
— Да, правда, этих людей охватило прямо-таки яростное возмущение, — заметил молодой человек тем же бесстрастным тоном, который он сохранял неизменно.
— А вот они вытаскивают из кареты и Корнелия, Корнелия, уже истерзанного и изувеченного пыткой! О, посмотрите, посмотрите!
— Да, действительно, это Корнелий.
Офицер слегка вскрикнул и тотчас отвернулся.
Корнелий еще не успел сойти наземь, он еще стоял на подножке кареты, когда ему нанесли удар железным ломом и размозжили голову.
Однако он поднялся, но тут же снова рухнул на землю.
Затем стоявшие впереди схватили его за ноги и поволокли в гущу толпы. Виден был кровавый след, что оставляло за собой его тело. Толпа с радостным гиканьем окружила Корнелия.
Молодой человек побледнел еще сильнее, хотя казалось, что большей бледности быть не может, и на мгновение закрыл глаза.
Офицер заметил это выражение жалости, впервые проскользнувшее на лице молодого человека, и хотел воспользоваться тем, что душа его сурового спутника смягчилась.
— Пойдемте, пойдемте, монсеньер, — сказал он, — они сейчас убьют и великого пенсионария.
Но молодой человек уже открыл глаза.
— Да, — сказал он, — этот народ неумолим: плохо тому, кто его предает.
— Монсеньер, — сказал офицер, — может быть, еще есть какая-нибудь возможность спасти этого несчастного, воспитателя вашего высочества; если есть какое-то средство, скажите мне, и я, хотя бы рискуя жизнью…
Вильгельм Оранский — ибо это был он — зловеще нахмурил свой лоб, усилием воли погасил мрачное пламя ярости, блеснувшее за опущенными веками, и ответил:
— Полковник ван Декен, прошу вас, отправляйтесь к моим войскам и передайте приказ быть на всякий случай в боевой готовности.
— Но как же я оставлю ваше высочество одного среди этих разбойников?
— Не беспокойтесь обо мне больше меня самого! — резко оборвал полковника принц. — Ступайте.
Офицер удалился с поспешностью, которая свидетельствовала не столько о его повиновении, сколько о том, что он был рад уйти и не присутствовать при гнусном убийстве второго брата.
Он еще не успел закрыть за собой дверь, как Ян, последними усилиями добравшись до крыльца, расположенного почти напротив дома, где прятался его воспитанник, зашатался под ударами, сыпавшимися на него со всех сторон.
— Мой брат? Где мой брат? — стонал он.
Кто-то из разъяренной толпы ударом кулака сбил с него шляпу.
Другой показал ему обагренные кровью руки: он только что распорол живот Корнелию и прибежал сюда, чтобы не упустить случая проделать то же самое с великим пенсионарием, пока тело его убитого брата волокли на виселицу.
Ян жалобно застонал и закрыл рукой глаза.
— Ах, ты закрываешь глаза, — сказал один из солдат гражданской милиции, — так я тебе их выколю!
И он ткнул ему в лицо острие пики — тотчас же брызнула кровь.
— Брат! — воскликнул де Витт, пытаясь, хотя кровь заливала ему глаза, разглядеть, что сталось с Корнелием. — Брат!
— Ступай же за ним! — прорычал другой убийца, приставив к виску Яна мушкет и спуская курок.
Но выстрела не последовало.
Тогда убийца повернул свое оружие, обеими руками схватился за дуло и оглушил Яна де Витта ударом приклада.
Ян де Витт пошатнулся и упал к его ногам.
Но, сделав последнее усилие, он тут же поднялся.
— Брат! — воскликнул он таким жалобным голосом, что молодой человек не выдержал и закрыл перед собой ставню.
Впрочем, видеть уже было почти нечего, так как третий убийца в упор выстрелил из пистолета и размозжил Яну череп.
Ян упал и больше уже не поднимался.
Тогда каждый из негодяев, осмелевших, ибо они увидели, что он мертв, стал палить из мушкета в его труп; каждый хотел ударить его дубинкой, шпагой или ножом; каждый жаждал его крови; каждый порывался оторвать лоскут от его одежды.
Потом, когда оба брата были изуродованы и растерзаны, толпа поволокла их голые окровавленные трупы к наспех сооруженной виселице, где добровольные палачи повесили их вниз головой.
Тут на них накинулись самые подлые; живых они не смели коснуться, но зато теперь кромсали мертвые тела: отрезали от них клочки кожи и мяса и расходились по городу продавать куски плоти Яна и Корнелия по десяти су за каждый.
Мы не знаем, видел ли молодой человек сквозь еле заметную щель в ставне конец ужасающей расправы; но в то время, когда вешали тела обоих мучеников, он, пересекая толпу, слишком поглощенную своим веселым делом, чтобы обратить на него внимание, направился ко все еще закрытым воротам Толь-Гек.
— О сударь, — воскликнул привратник, — вы мне принесли ключ?
— Да, дружище, вот он, — ответил молодой человек.
— О, какое несчастье, что вы не принесли ключа хотя бы на полчаса раньше! — сказал, вздыхая, привратник.
— Почему? — спросил молодой человек.
— Тогда бы я мог открыть ворота господам де Виттам. А так, найдя заставу запертой, они должны были повернуть обратно и попали в руки своих преследователей.
— Открывайте ворота, открывайте ворота! — послышался голос какого-то, по-видимому, очень спешившего человека.
Принц обернулся и узнал полковника ван Декена.
— Это вы, полковник? — сказал он. — Вы еще не выехали из Гааги? С большим же запозданием выполняете вы мое распоряжение.
— Монсеньер, — ответил полковник, — я подъезжаю уже к третьей заставе, те две были заперты.
— Ну так здесь этот славный парень отопрет нам ворота. Отпирай, дружище, — обратился принц к привратнику, застывшему в изумлении: он расслышал, как полковник ван Декен назвал монсеньером этого бледного человека, с которым он только что запросто разговаривал.
И, чтобы исправить ошибку, он поспешно бросился открывать ворота заставы, распахнувшиеся со скрипом.
— Не желает ли ваше высочество взять мою лошадь? — спросил Вильгельма ван Декен.
— Благодарю вас, полковник, моя лошадь ждет меня в нескольких шагах отсюда.
И, вынув из кармана золотой свисток, служивший в ту эпоху для зова слуг, он резко и продолжительно свистнул. В ответ на свист прискакал верхом стремянной, держа в поводу вторую лошадь.
Вильгельм, не касаясь стремян, вскочил в седло и помчался к дороге, ведущей в Лейден.
Доскакав до нее, он обернулся.
Полковник следовал за ним на расстоянии корпуса лошади.
Принц сделал знак, чтобы он поравнялся с ним.
— Знаете ли вы, — сказал он, не останавливаясь, — что эти негодяи убили и господина Яна де Витта, как и его брата?
— Ах, ваше высочество, — грустно ответил полковник, — я предпочел бы, чтобы на вашем пути к штатгальтерству Голландией еще оставались эти два препятствия.
— Конечно, было бы лучше, — согласился принц, — если бы не случилось того, что произошло. Но, в конце концов, что сделано, то сделано, не наша в этом вина. Поедем быстрее, полковник, чтобы быть в Алфене раньше чем придет послание, которое, по всей вероятности, Штаты пошлют мне в лагерь.
Полковник поклонился, пропустил вперед принца и поскакал на том же расстоянии от него, какое разделяло их до разговора.
— Да, хотелось бы мне, — злобно шептал Вильгельм Оранский, хмуря брови, сжимая губы и вонзая шпоры в брюхо лошади, — хотелось бы мне посмотреть, какое выражение лица будет у Людовика Солнца, когда он узнает, как поступили с его дорогими друзьями, господами де Виттами. О Солнце! Солнце! Недаром зовусь я Вильгельмом Молчаливым; Солнце, бойся за свои лучи!
Он быстро мчался на добром коне, этот молодой принц, упорный противник короля, этот штатгальтер, еще накануне неуверенный в своей власти, к которой теперь гаагские горожане сложили ему прочные ступеньки из трупов Яна и Корнелия де Виттов — недавних благородных властителей перед людьми и перед Господом.
V
ЛЮБИТЕЛЬ ТЮЛЬПАНОВ И ЕГО СОСЕД
В то время как гаагские горожане раздирали на части трупы Яна и Корнелия, в то время как Вильгельм Оранский, окончательно убедившийся в смерти двух своих противников, скакал по дороге в Лейден в сопровождении полковника ван Декена, которого он нашел слишком сострадательным, чтобы и в дальнейшем считать его достойным доверия, каким удостаивал до сих пор, — верный слуга Краке, понятия не имевший об ужасных событиях, свершившихся после его отъезда, тоже мчался на прекрасном коне по обсаженным деревьями дорогам, пока не выехал за пределы города и окрестных деревень.
Оказавшись вне опасности и не желая вызывать никаких подозрений, он оставил своего коня в конюшне и спокойно продолжал путь по реке, пересаживаясь с лодки в лодку и добравшись таким образом до Дордрехта. Лодки ловко проплывали по самым коротким извилистым рукавам реки, которые омывали своими влажными объятиями очаровательные островки, окаймленные ивами, тростниками и пестреющей цветами травой, где, лоснясь на солнце, беспечно пасся тучный скот.
Краке издали узнал Дордрехт, этот веселый город, расположенный у подножия холма со множеством мельниц на нем. Он увидел красивые красные с белыми полосами домики с кирпичными фундаментами, омываемыми водой. На их открытых балконах над рекой развевались шитые золотом шелковые ковры, дивные творения Индии и Китая, а около ковров свисали длинные лески — постоянная западня для прожорливых угрей, привлекаемых сюда кухонными отбросами, что ежедневно выкидывали из окон в воду.
Краке еще с лодки сквозь вертящиеся крылья многочисленных мельниц заметил на склоне холма бело-розовый дом — цель своего путешествия. Дом этот четко вырисовывался на темном фоне исполинских вязов, в то время как гребень крыши утопал в желтоватой листве тополей. Он был расположен так, что падавшие на него, словно в воронку, лучи солнца высушивали, согревали и даже обезвреживали туманы, которые, несмотря на густую ограду из листьев, каждое утро и каждый вечер заносились туда ветром с реки.
Высадившись среди обычной городской сутолоки, Краке немедленно отправился к этому дому. Необходимо описать его читателю, что мы сейчас и сделаем.
Это был белый, чистый, сверкающий дом, впрочем, еще более основательно вымытый и начищенный внутри, чем снаружи. И жил в нем счастливый смертный.
Этим счастливым смертным, rаrа avis[2], как говорит Ювенал, был доктор ван Барле, крестник Корнелия. Он жил там с самого детства, ибо это был дом его отца и его деда, славных купцов славного города Дордрехта.
Торгуя с Индией, г-н ван Барле-отец скопил от трехсот до четырехсот тысяч флоринов; после смерти своих добрых и горячо любимых родителей в 1668 году ван Барле-сын нашел эти деньги совершенно новенькими, хотя одни из них были отчеканены в 1640 году, другие — в 1610-м. А это говорило о том, что то были флорины ван Барле-отца и ван Барле-деда. Поспешим заметить, что четыреста тысяч флоринов были только наличными, так сказать, карманными деньгами героя этой истории Корнелиуса ван Барле, поскольку от своих владений в провинции он получал ежегодно еще около десяти тысяч флоринов.
Когда достойный гражданин, отец Корнелиуса, умирал через три месяца после похорон своей жены (она скончалась первой, словно для того, чтобы облегчить мужу путь к смерти, так же как она облегчала ему жизненный путь), он, обнимая в последний раз сына, сказал ему:
— Если ты хочешь жить настоящей жизнью, то ешь, пей и проживай деньги, ибо работать целые дни на деревянном стуле или в кожаном кресле, в лаборатории или в лавке — это не значит жить. Ты тоже умрешь, когда придет твой черед, и если тебе не посчастливится иметь сына, то наше имя угаснет и мои флорины будут очень удивлены, оказавшись в руках неизвестного хозяина, эти новенькие флорины, которых никто никогда не взвешивал, кроме меня, моего отца и чеканщика. А главное, не следуй примеру твоего крестного отца, Корнелия де Витта: он всецело ушел в политику, самую неблагодарную из профессий, и, безусловно, плохо кончит.
Затем достойный г-н ван Барле умер, оставив в полном отчаянии своего сына Корнелиуса, равнодушного к флоринам и очень любившего отца.
Итак, Корнелиус остался одиноким в большом доме.
Напрасно его крестный отец Корнелий предлагал ему общественные должности; напрасно он хотел соблазнить его славой, когда Корнелиус, чтобы пойти навстречу желанию крестного, отправился вместе с ван Рюйтером на военном корабле «Семь провинций», шедшем во главе ста тридцати девяти судов, с которыми знаменитый адмирал готовился в одиночку бросить вызов соединенным силам Англии и Франции. Когда ведомый лоцманом Леже, он приблизился на расстояние выстрела из мушкета к боевому судну «Принцу на котором находился брат английского короля герцог Йоркский; когда нападение его патрона ван Рюйтера было проведено энергично и умело и герцог Йоркский, чувствуя, что его корабль захватят, едва успел перейти на борт „Святого Михаила“; когда он увидел, как „Святой Михаил“, разбитый и изрешеченный голландскими ядрами, вышел из строя; когда он увидел, как взорвался корабль „Граф Сандвич“ и погибло в волнах и в огне четыреста матросов; когда он убедился, что в конце концов, после того как двадцать судов было разнесено в куски, три тысячи человек убито и пять тысяч ранено, исход боя все же остался нерешенным и каждая сторона приписывала победу себе, так что все надо было начинать сначала и лишь к списку морских сражений прибавилось новое название — сражение у Саутуолдской бухты; когда он понял, сколько времени теряет человек, закрывающий глаза и затыкающий уши, стремясь мыслить даже в те часы, в которые ему подобные палят друг в друга из пушек, — тогда-то Корнелиус распростился с ван Рюйтером, с главным инспектором плотин и со славой. Он облобызал колени великого пенсионария, к которому чувствовал глубокое уважение, и вернулся в свой дом в Дордрехте. Он вернулся, обогащенный правом на заслуженный отдых, своими двадцатью восемью годами, железным здоровьем, проницательным умом и убеждением более ценным, чем капитал в четыреста тысяч и доход в десять тысяч флоринов, — убеждением, что человек всегда получает от Неба слишком много, чтобы быть счастливым, но достаточно — чтобы не узнать счастья.
Поэтому, стремясь создать себе счастье по своему вкусу, Корнелиус стал изучать растения и насекомых. Он собрал и классифицировал всю флору островов, составил коллекцию насекомых всей провинции, написал о них трактат с собственноручными рисунками и, наконец, не зная, куда девать свое время, а главное — деньги, количество которых ужасающе увеличивалось, стал выбирать среди увлечений своей страны и своей эпохи одно из самых изысканных и самых дорогих увлечений.
Он полюбил тюльпаны.
Как известно, то была эпоха, когда фламандцы и португальцы, соревнуясь в этом роде садоводства, дошли буквально до обожествления тюльпана и сделали с этим привезенным с востока цветком то, чего никогда ни один натуралист не осмеливался сделать с человеческим родом из опасения вызвать ревность у самого Бога.
Вскоре от Дордрехта до Монса только и говорили о тюльпанах мингера ван Барле. Его гряды, оросительные канавы, его сушильни, его коллекции луковиц приходили осматривать так же, как когда-то знаменитые римские путешественники осматривали галереи и библиотеки Александрии.
Ван Барле начал с того, что истратил весь свой годовой доход на составление коллекции; затем, для улучшения ее, он впервые посягнул на новенькие флорины, и его труд увенчался блестящим успехом. Он вывел пять разных видов тюльпанов, дав им названия: „Жанна“ — имя своей матери, „Барле“ — фамилию своего отца, „Корнелий“ — имя своего крестного отца; остальных названий мы не помним, но любители, без сомнения, найдут их в каталогах того времени.
В начале 1672 года Корнелий де Витт приехал в Дордрехт, чтобы провести три месяца в своем старом доме, ибо известно, что не только Корнелий родился в Дордрехте, но и вся семья де Виттов происходила из этого города.
Как раз в это время Корнелий стал блистать, по выражению Вильгельма Оранского, самой полной непопулярностью. Однако же для своих земляков, добродушных жителей Дордрехта, он еще не был преступником, заслуживающим виселицы, и хотя они и были не очень довольны его слишком стойкими республиканскими взглядами, но все же, гордясь его личными достоинствами, приветствовали его местным вином.
Поблагодарив сограждан, Корнелий пошел посмотреть родной дом и распорядился, чтобы там произвели кое-какой ремонт, прежде чем приедет г-жа де Витт, его жена, с детьми.
Затем он направился к дому своего крестника, вероятно единственного в Дордрехте человека, еще не знавшего о прибытии инспектора плотин в родной город.
Насколько Корнелий де Витт вызывал к себе повсюду ненависть, рассеивая зловредные семена, именуемые политическими страстями, настолько ван Барле приобрел всеобщую симпатию, совершенно отказавшись от политики и всецело занявшись разведением своих тюльпанов.
Ван Барле любили и работники его, и прислуга, и он даже не представлял себе, что на свете может существовать человек, который желал бы зла другому человеку.
И однако же, пусть это будет сказано к стыду человечества, Корнелиус ван Барле имел, не подозревая этого, врага, куда более злобного, более ожесточенного, более непримиримого, чем имели инспектор плотин и его брат среди оранжистов, крайне враждебно настроенных против этой удивительной братской дружбы, безоблачной при их жизни и только что перенесенной по ту сторону смерти силой их взаимной преданности.
Увлекшись тюльпанами, Корнелиус стал тратить на них и свои ежегодные доходы, и флорины отца.
В Дордрехте, дверь в дверь с ван Барле, жил некий горожанин по имени Исаак Бокстель, который, как только достиг вполне сознательного возраста, стал страдать тем же увлечением и приходил в восторженное состояние при одном только слове тюльбан (как утверждает французский флорист, то есть наиболее сведущий историк этого цветка, сингальское „тюльбан“ было первым словом, служившим для обозначения того венца творения, что теперь называют „тюльпаном“).
Бокстель не имел счастья быть богатым, как ван Барле. С большими усилиями, с большим терпением и трудом разбил он при своем доме в Дордрехте сад для культивирования тюльпанов. Он возделал там, согласно всем необходимым предписаниям, землю и дал грядам ровно столько тепла и прохлады, сколько полагалось по правилам садоводства.
Исаак знал температуру своих парников до одной двадцатой градуса. Он изучил силу давления ветра и устроил такие приспособления, что ветер только слегка колебал стебли его цветов.
Его тюльпаны стали нравиться. Они были красивы и даже изысканны. Многие любители приходили посмотреть на них. Наконец Бокстель выпустил в мир Линнея и Турнефора новый вид тюльпанов, дав ему свое имя. Этот тюльпан получил широкое распространение: завоевал Францию, попал в Испанию и проник даже в Португалию. Король дон Альфонс VI, изгнанный из Лиссабона и поселившийся на острове Терсейра, где он развлекался, в отличие от занимавшегося поливкой гвоздик Великого Конде, разведением тюльпанов, посмотрел на „Бокстель“ и сказал: „Неплохо“.
Когда Корнелиус ван Барле после всех своих прежних занятий страстно увлекся тюльпанами, он несколько перестроил свой дом, расположенный, как мы уже говорили, рядом с домом Бокстеля. Он нарастил этаж на одном из зданий своей усадьбы, чем лишил сад Бокстеля тепла приблизительно на полградуса и соответственно на полградуса охладил его, не считая того, что отрезал доступ ветра в сад Бокстеля и этим нарушил все расчеты своего соседа.
В конце концов, с точки зрения Бокстеля, это было не столь существенно. Он считал ван Барле только художником, то есть своего рода безумцем, который пытается, искажая чудеса природы, воспроизвести их на полотне; если он пристроил над мастерской один этаж, чтобы иметь больше света, — это его право. Господин ван Барле был художником, так же как г-н Бокстель был цветоводом, разводящим тюльпаны. Первому нужно было солнце для его картин, и он отнял полградуса у тюльпанов г-на Бокстеля.
Закон был на стороне г-на ван Барле. Bene sit[3].
К тому же Бокстель установил, что избыток солнечного света вредит тюльпанам и что этот цветок растет лучше и ярче окрашивается под мягкими лучами утреннего и вечернего солнца, чем под палящим полуденным зноем.
Итак, он был почти благодарен Корнелиусу ван Барле за бесплатную постройку заграждения от солнца.
Может быть, это было не совсем так; может быть, Бокстель говорил о своем соседе ван Барле не совсем то, что он о нем думал, ведь сильные души в тяжелые минуты жизни находят удивительную поддержку в философии.
Но, увы, что сталось с этим несчастным Бокстелем, когда он увидел, что окна заново выстроенного этажа украсились луковицами, их детками, тюльпанами в ящиках с землей, тюльпанами в горшках и, наконец, всем, что характеризует профессию маньяка, разводящего тюльпаны!
Там находились целые пачки этикеток, полки, ящики с отделениями и железные сетки, предназначенные для прикрытия этих ящиков, чтобы обеспечить постоянный доступ свежего воздуха к ним без риска, что туда проникнут мыши, жуки, долгоносики, а также полевые мыши и крысы — эти любители тюльпанов по две тысячи франков за луковицу.
Бокстель остолбенел при виде всего этого оснащения, но он не постигал еще размера своего несчастья. Ван Барле знали как любителя всего, что радует взгляд. Он до тонкости изучал природу для своих картин, законченных, как картины Герарда Доу, его учителя, и Мириса — его друга. Может быть, он собирался писать картину — комнату садовода, разводящего тюльпаны, для чего и собрал в своей новой мастерской все эти принадлежности?
Однако же, хотя Бокстель и убаюкивал себя этой обманчивой идеей, он все же сгорал от пожирающего его любопытства. Как только наступил вечер, он приставил к стене, разделявшей их владения, лестницу и стал разглядывать, что делается у соседа ван Барле. Он убедился, что громадная площадь земли, раньше усеянная различными растениями, была взрыта и разбита на грядки; земля смешана с речным илом — сочетание, самое благоприятное для тюльпанов, и все было окаймлено дерном, чтобы предупредить осыпание земли. Кроме того, Бокстель убедился, что грядки расположены так, чтобы они согревались восходящим и заходящим солнцем и оберегались от солнца полуденного; что запас воды достаточный, и она тут же под рукой; что весь участок обращен на юго-юго-запад, — словом, соблюдены все условия не только для успеха, но и для усовершенствования дела. Сомнений больше не было: ван Барле стал разводить тюльпаны.
Бокстель тут же представил себе, как этот ученый человек, с капиталом в четыреста тысяч флоринов и ежегодной рентой в десять тысяч, употребит все свои способности и все свои возможности на выращивание тюльпанов. Он предвидел в смутном, но близком будущем его успех и заранее почувствовал такие страдания, что его руки разжались, ноги ослабли, и он в отчаянии скатился с лестницы вниз.
Итак, значит, не для тюльпанов на картинах, а для настоящих тюльпанов ван Барле отнял у него полградуса тепла. Итак, ван Барле будет иметь превосходное солнечное освещение и, кроме того, обширную комнату для хранения луковиц и их деток, светлую, чистую, с хорошей вентиляцией, — роскошь, недоступную для Бокстеля, который был вынужден пожертвовать для этих целей своей собственной спальней и, чтобы испарения человеческого тела не вредили растениям, смирился с тем, что ему пришлось спать на чердаке.
Итак, дверь в дверь, стена в стену, у Бокстеля будет соперник, конкурент, быть может, победитель. Этот соперник не какой-нибудь маленький, не ведомый никому садовод, а крестник Корнелия де Витта, то есть человек известный.
Как видно, Бокстель был менее рассудителен, чем индийский царь Пор, который, потерпев поражение от Александра Македонского, утешался тем, что его победитель — великая знаменитость.
Действительно, что будет, если ван Барле выведет когда-нибудь новый вид тюльпана и назовет его „Яном де Виттом“, а другой перед тем назовет „Корнелием“? Ведь тогда можно будет задохнуться от бешенства.
Таким образом, в своем завистливом предвидении Бокстель, пророк собственного несчастья, угадывал то, что могло произойти.
И вот, сделав это открытие, он провел самую ужасную ночь, какую только можно себе представить.
VI
НЕНАВИСТЬ ЛЮБИТЕЛЯ ТЮЛЬПАНОВ
С этого времени Бокстелем овладела уже не забота, а страх. Когда человек трудится над осуществлением какой-нибудь заветной цели, это придает усилиям его духа и тела мощь и благородство. Их-то Бокстель и утратил, думая только о том, какой вред причинит ему замысел соседа.
Ван Барле, как можно было предполагать, применил к делу все свои изумительные природные дарования и добился превосходных результатов, вырастив красивейшие тюльпаны.
Корнелиус успешнее кого бы то ни было в Харлеме и Лейдене (городах с самой благоприятной почвой и самым здоровым климатом) достиг большого разнообразия в окраске и в форме тюльпанов и увеличил количество разновидностей их.
Он принадлежал к той изобретательной и простодушной школе, что с седьмого века взяла своим девизом афоризм "Пренебрегать цветами — значит оскорблять Бога", развитый в 1653 году одним из ее приверженцев.
Это была посылка, на которой последователи школы тюльпановодства, самой необычайной из всех школ, построили в 1653 году следующий силлогизм:
"Пренебрегать цветами — значит оскорблять Бога.
Тюльпаны прекраснее всех цветов.
Поэтому тот, кто пренебрегает ими, безмерно оскорбляет Бога".
На основании подобного заключения четыре или пять тысяч цветоводов Голландии, Франции и Португалии (мы не говорим уже о цветоводах Цейлона, Индии и Китая) могли бы, при наличии злой воли, поставить весь мир вне закона и объявить раскольниками, еретиками и достойными смерти сотни миллионов людей, равнодушных к тюльпанам.
И не следует сомневаться, что Бокстель, хотя и был смертельным врагом ван Барле, стал бы во имя этого сражаться вместе с ним под одними знаменами.
Итак, ван Барле достиг больших успехов, и о нем стали всюду столько говорить, что Бокстель навсегда исчез из списка известных тюльпановодов Голландии, а представителем дордрехтского тюльпановодства стал скромный и безобидный ученый Корнелиус.
Так из маленькой веточки черенка вдруг появляются необычайные побеги и от бесцветного шиповника с четырьмя лепестками ведет свое начало великолепная благоухающая роза. Так иногда корни королевского рода выходили из хижины дровосека или из лачуги рыбака.
Ван Барле, весь ушедший в свои работы по высаживанию, выращиванию и сбору цветов, ван Барле, прославляемый всеми тюльпановодами Европы, даже и не подозревал, что рядом с ним живет несчастный развенчанный король, чьим престолом он завладел. Он успешно продолжал опыты и благодаря своим победам в течение двух лет покрыл свои гряды чудеснейшими творениями, равных которым никогда никто не создавал после Бога, за исключением, может быть, только Шекспира и Рубенса.
И вот, чтобы получить представление о страдальце — такого Данте забыл поместить в своем "Аде", — нужно было только посмотреть на Бокстеля. В то время как ван Барле полол, удобрял и орошал грядки, в то время как он, стоя на коленях на краю грядки, выложенной дерном, занимался обследованием каждой жилки на цветущем тюльпане, раздумывая о том, какие новые видоизменения можно было бы в них внести, какие сочетания цветов можно было бы еще испробовать, — в то время Бокстель, спрятавшись за небольшим кленом (он посадил его у стены, устроив себе как бы ширму), с воспаленными глазами, с пеной у рта следил за каждым шагом, за каждым движением своего соседа. И когда тот казался ему радостным, когда он улавливал на его лице улыбку или в глазах проблески счастья, он посылал ему столько проклятий, столько свирепых угроз, что непонятно даже, как это ядовитое дыхание зависти и злобы не проникло в стебли цветов и не внесло туда зачатков разрушения и смерти.
Вскоре — так быстро разрастается зло, овладевшее человеческой душой, — Бокстель уже не довольствовался тем, что наблюдал только за Корнелиусом. Он хотел видеть также и его цветы, ведь он был в душе художником, и достижения соперника хватали его за живое.
Он купил подзорную трубу и при ее помощи мог следить не хуже самого хозяина за всеми изменениями растения с момента его прорастания, когда на первом году показывается из-под земли бледный росток, и вплоть до момента, когда, по прошествии пяти лет, начинает округляться благородный и изящный бутон, а на нем проступают неопределенные тона будущего цвета и когда затем распускаются лепестки цветка, раскрывая наконец тайное сокровище чашечки.
О, сколько раз несчастный завистник, взобравшись на лестницу, замечал на грядках ван Барле такие тюльпаны, что ослепляли его своей изумительной красотой и подавляли его своим совершенством!
И тогда, после периода восхищения, которое он не мог побороть в себе, им овладевала лихорадочная зависть, разъедавшая грудь, превращавшая сердце в источник мучительных страданий.
Сколько раз во время этих терзаний — описание их не поддается перу! — Бокстеля охватывало искушение спрыгнуть ночью в сад, переломать растения, изгрызть зубами луковицы тюльпанов и даже принести в жертву безграничному гневу самого владельца их, если бы тот осмелился защищать свои цветы.
Но убить тюльпан — это в глазах настоящего садовода преступление ужасающее!
Убить человека — это еще куда ни шло.
Однако же непрерывные, ежедневные достижения ван Барле в науке, которых он добивался как бы инстинктом, доводили Бокстеля до такого приступа озлобления, что он замышлял забросать палками и камнями гряды тюльпанов своего соседа.
Но он представлял себе, как на другое утро при виде этого разрушения ван Барле произведет дознание и установит, что дом расположен далеко от улицы, что в семнадцатом веке камни и палки не падают больше с неба, как во времена амаликитян, и виновник преступления, даже если он действовал ночью, будет разоблачен и не только наказан правосудием, но и обесчещен на всю жизнь в глазах всех европейских тюльпановодов. Тогда Бокстель сменил ненависть на хитрость и решил применить тот способ, что не скомпрометировал бы его.
Правда, он долго искал его, но наконец нашел.
Однажды ночью он привязал двух кошек одну к другой за задние лапы бечевкой в десять футов длины и бросил их со стены на середину самой главной гряды, можно сказать королевской гряды, где находились не только "Корнелий де Витт", но также "Брабантец" — молочно-белый и пурпурно-красный, "Мраморный" из Ротра — сероватый, красный и ярко-алый, "Чудо", выведенный в Харлеме, а также тюльпаны "Голубиный темный" и "Голубиный блекло-светлый".
Обезумевшие от падения с высокой стены, животные, оказавшись на грядке, сначала бросились в разные стороны, пока не натянулась связывающая их бечевка. Но затем, чувствуя невозможность бежать дальше, они с диким мяуканием заметались во все стороны, ломая своей бечевкой цветы, — в общем, разыгралась битва. После пятнадцатиминутной яростной борьбы им удалось разорвать связывавшую их бечевку и они исчезли.
Бокстель, спрятавшись за кленом, ничего не видел в ночной тьме, но по бешеному крику двух кошек он представил себе картину разрушения, и сердце его, освобождаясь от желчи, наполнялось радостью.
Желание убедиться в причиненных им повреждениях у Бокстеля было так велико, что он остался на месте до утра, чтобы собственными глазами посмотреть, в какое состояние пришли грядки его соседа после кошачьей драки.
Он окоченел от предрассветного тумана, но не чувствовал холода, согреваясь надеждой на месть, когда горе соперника вознаградит его за все страдания.
При первых лучах солнца дверь белого дома открылась. Показался ван Барле и направился к грядкам с улыбкой человека, проведшего ночь в своей постели и видевшего приятные сны.
Вдруг он замечает на земле, еще накануне ровной, как зеркало, борозды и бугры; вдруг он замечает, что симметричные гряды его тюльпанов в полном беспорядке, подобно солдатам батальона, среди которого упала бомба.






