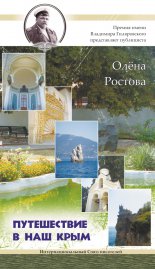Червоный Кокотюха Андрей

А дальше все получилось совсем неинтересно.
Я лелеял надежду, что Ульяна Волощук — не сразу, конечно, но очень скоро — после своего освобождения начнет искать Червоного, чтобы сообщить: луцкая группа под наблюдением, надо остерегаться провокаций и ловушек. Несомненно, самих членов группы она тоже нашла бы способ предупредить об опасности, ведь бандеровцы в лесу должны тоже знать это, чтобы помочь своим сообщникам незаметно уйти из города. Обложили Волощучку плотно, предельно осторожно и максимально незаметно. Едва ли не две трети личного состава луцкого областного управления привлекли к операции.
А Данила Червоный взял и сам пришел.
Точнее, с ним было еще трое, их конспиративно сняли возле Ульяниного дома. Всех четверых, вместе, без единого выстрела — вот чем я лично горжусь до сих пор. Позже стало известно: Червоный был в курсе, что его подругу арестовали, и, когда узнал, что она вышла, и быстро убедился — выпустили за отсутствием доказательств, проверяли тщательно, подозрения сняты, собственной персоной объявился. Так спешил обнять свою милую, что не позаботился об элементарной осторожности.
Знаете, почему именно так он поступил? Оказывается, Ульяна была беременна.
Срок небольшой, месяца два. Поэтому никто ничего не замечал, медики задержанную не обследовали, сама она в Луцке к врачу не ходила: это ж объяснять надо, от кого да как, кто отец… По всем подсчетам, в конце февраля это произошло. Или сразу в начале марта. Засиделись парни в своих крыйивках, весна, молодые же все, здоровые, да еще и прибавьте сюда любовь — у бандеровцев она тоже случается, вы не думайте…
Эх, знать бы раньше, о чем я уже говорил! Не так бы я комбинацию строил, не усложнял бы. Что может быть проще такой наживки для бандита — любовница с его ребенком под сердцем…
Куда делась группа Остапа? По моим данным, без командира к лету все разошлись, кто куда. Прибились кто к другим разрозненным отрядам, кто за границу бежал. Правда, никто не сдался, так как добровольно сложившие оружие себя называли, перечисляли весь свой послужной список. Если бы кто-то был с Червоным, наверное, не промолчал бы.
Что касается дальнейшей судьбы самого Остапа, он же Данила Червоный… Следствие, суд, приговор. Не расстреляли, дали по максимуму. И ему, и тем, кто с ним был. Хорошо помню псевдо каждого: Лютый, Мирон и Ворон. Фамилии не скажу, да и не нужны они вам. Когда их судили, меня уже не было в Луцке, а до того момента успел немного лично пообщаться с Червоным… Вывод такой: убежденный враг советской власти, бандитом себя не признавал. Получил по заслугам…
Да. Кажется, обо всем поговорили. Большая просьба: как напишите что-нибудь, оформите, так сказать, нашу беседу, покажите, пожалуйста. Может, я еще пару фактов подкину…
Собственно, это не просьба. Вы же сами понимаете прекрасно.
Примечание Клима Рогозного: Рассказ отставного офицера КГБ Льва Доброхотова, особенно финальная его часть, другим и быть не мог. Вообще я вначале удивлялся, как это Лев Наумович пошел на контакт с провинциальным журналистом. Позднее объяснил сам себе, теперь поясню вам: если Титаренко, автор этих записей, шел ва-банк, на свой страх и риск, желая заполнить определенный пробел в своей истории, на тот момент уже почти сложившейся, то Доброхотову сначала было просто интересно. Ведь в телефонном разговоре Титаренко назвал фамилию Червоного, а это пусть не секретная, но в некоторой степени закрытая информация. Таким образом, Доброхотов только играл со своим собеседником, милостиво делился кое-какими воспоминаниями, которые, дойди дело и правда до публикации, беду вряд ли навлекут — все выдержано в должном духе. Ну а потом попросил своих коллег с улицы Короленко[16]проверить, кто же это такой любопытный. Вот тогда и выплыли связи, через которые Титаренко вышел на бывшего узника ГУЛАГа Виктора Гурова. Связи, честно говоря, для журналиста опасные, особенно в те времена, когда на Украине начиналась новая волна арестов диссидентов, а те, кого выпустили, получали новые сроки.
Думаю, стоит хотя бы немного пояснить, что скрывал Лев Доброхотов за словами «следствие, суд, приговор». Теперь из многочисленных воспоминаний известно, как именно МГБ проводило следственные мероприятия. Я не удивлюсь, если Данилу Червоного и его побратимов, которые прежде всего были обычными людьми, потому и попали в тщательно подготовленную ловушку, не просто били на допросах смертным боем. На допросах садисты в энкаведистской форме укладывали, например, жертву голым животом на табурет, ноги и руки растягивали в разные стороны так, чтобы спина напрягалась, и лупили либо крепкими палками, либо железными розгами. После такой пытки долгое время истязаемый не мог лежать на спине. Бывало, на допросах заключенным специально давали наркоз, чтобы те засыпали, и с их беспомощными телами вытворяли такое, что пробуждение казалось полнейшим адом. Но даже если к Червоному не применяли таких пыток — в арсенале НКВД было много чего другого.
Выдерживал не каждый. К примеру, вот я не уверен, что выдержал бы. Тем не менее, судя по тому, что узнал Григорий Титаренко от Виктора Гурова, командир УПА Данила Червоный достойно прошел сквозь этот ад, чтобы оказаться в другом и выжить там.
Тетрадь третья
Виктор Гуров
Коми АССР, Воркута, осень 1948 — весна 1949 года
1
Впервые я увидел Данилу Червоного на утренней проверке.
И хотя тогда стоял всего лишь сентябрь, в тех краях, на русском Севере, начинались первые заморозки. Подморозить могло даже в разгар короткого воркутинского лета. Сидя в лагере, который уже привычно называл нашим, я успел почувствовать на себе убийственные возможности местного климата. Одна фраза все объяснит: зима восемь месяцев в год. Сентябрь здесь считался переходным месяцем, когда нужно было готовиться к длительным холодам.
Каторжный труд здесь не зависел от погодных условий — каждое утро сотни доходяг, выкрикнув охрипшими голосами положенное «Я!» на перекличке, медленно двигались на шахты, где одиннадцать часов в день должны были добывать уголь для страны. Или на кирпичный завод — первую его очередь тогда уже запустили, но надо было возводить вторую. Или в глиняные карьеры — долбать глину, из которой потом будут делать кирпич. Так день за днем, месяц за месяцем, год за годом.
Чтобы еще бодрее идти на работу и с работы, мы выстраивались и двигались под музыку. Репродуктор — его называли у нас матюгальником — висел на высоком, хорошо просмоленном деревянном столбе, почти в центре прямоугольного лагерного плаца. В определенные часы его жерло хрипло докладывало ежедневные новости. Именно так мы услышали о победе над немцами в мае и над японцами в сентябре. Даже обитатели нашего «политического» барака тогда искренне кричали «ура». Хотя попробовали бы враги народа не кричать — это вам не блатные, нашего брата даже за меньший косяк сразу брали на карандаш и делали соответствующие, всегда неутешительные для нас выводы.
Но в основном через матюгальник оглашали информацию, касающуюся заключенных, и еще крутили музыку. Наверное, в радиорубке нашего лагерного отделения, или, как еще говорили — лагпункта, запас пластинок был небольшой: песни заводили одни и те же, даже не баловали зеков, хотя бы как-то меняя порядок мелодий. Поэтому, честно вам скажу, меня даже теперь, через тридцать лет, трясет от Утесова с его джазом, «Амурских волн», «Сопок Маньчжурии», «Утомленного солнца».[17]Даже от Вертинского плохие воспоминания…
Червоный и другие бандеровцы пришли с очередным этапом, также под музыку. Но когда новеньких завели в наш барак, мы, старожилы, их не очень-то и разглядывали. Контингент обновлялся часто, а доходяги — те вообще еженедельно. Кто-то мог замерзнуть в стволе шахты, кто-то — не проснуться. Но в большинстве случаев тех, кто выработал в шахтах и карьерах свой человеческий ресурс и не цеплялся за жизнь, тащили в больницу. Не лечить: для таких построили отдельный барак около собственно больнички, где их складывали в ряд на голые доски и ждали, пока несчастные дойдут. Я это знал, как никто: собственно моя бригада работала главным образом как похоронная команда.
Работа тоже не из легких. Большинство смертей приходилось на затяжную зиму, земля промерзала, и одну могилу приходилось копать от рассвета до заката — целую рабочую смену. Лагерное начальство пыталось оптимизировать работу нашей бригады, вводило разные инициативы, только из этого ничего полезного не получалось.
К примеру, нам могли приказать копать большую общую могилу. Но для этого необходимо прогреть больший участок грунта, очертить больший периметр, а при таких раскладах на одну могилу тратилось больше времени. Хорошо, что мертвым зекам все равно. Они, как шутил начальник нашего лагерного пункта майор МВД Василий Абрамов, уже свое отспешили. Сложность ситуации заключалась в том, что их место в бараке обреченных должны были занять другие, ведь их нары в лагерных бараках уже ждали новых зеков. Вот так работал конвейер смерти — именно для того, чтобы человек скорее умер, ему присуждали соответствующие сроки каторжных работ в Воркуте и других лагерях, названных почему-то исправительными или трудовыми.
Но предлагаю немного отвлечься.
Представьте ситуацию: умерших выносят из барака и складывают у стены. Даже брезентом не накрывают. Так они и лежат в течение дня. И пусть обычный воркутинский день короткий, а в темноте трупов не видно. Начальство отлично знает об этой куче мертвецов, так же как отлично понимает: смерть здесь, на Воркуте, — вполне привычное, даже естественное явление. К тому же тела не завоняются, не разложатся… Но, как мы успели тогда понять, существовал еще и показательный советский гуманизм.
С одной стороны, товарищу Абрамову, «куму», то есть начальнику оперативной части лагпункта, капитану Бородину, остальному лагерному начальству, включая доктора Тамилу Михайловну Супрунову, не говоря уже об остальных вертухаях, — всем, кто не одевался в зековскую робу, плевать было на то, сколько народу здесь уйдет на тот свет, скажем, за рабочую неделю. Однако, с другой стороны, такого равнодушного отношения к массовой смертности каторжан они не могли себе позволить — как советские военнослужащие, солдаты и офицеры МВД или обычные вольнонаемные с безупречно чистыми анкетами. Ведь это шло вразрез с заявлениями о надлежащем содержании осужденных, которых справедливый советский суд отправил на перековку. Мы узнавали об этом от новых зеков, пришедших сюда с воли. А в нашем бараке не было никого, кроме предателей родины, то есть политических. Это, как я успел убедиться, народ по большей части грамотный, вполне владеющий ситуацией в стране. К тому же «враги народа» могли не только привести какой-то факт, но и сделать из него определенный вывод.
Так, доцента Бориса Шлихта, преподавателя права в Ленинградском университете, то есть моего земляка, забрали прямо на лекции. За что, теперь не существенно. На самом деле причина, по которой Шлихту впаяли пятьдесят восьмую статью,[18]в те времена значения не имела. Важно то, что рассказал нам Шлихт: вскоре после войны Америка и Западная Европа вдруг заинтересовались, в надлежащих ли условиях содержат подследственных в советских тюрьмах, а зеков — в советских лагерях. После отбоя Шлихт шепотом клялся, что сам лично слышал разговор: мол, Гитлеру и фашизму шею скрутили, теперь надо не допустить ничего подобного в СССР, потому что существование концлагерей вроде как противоречит каким-то там международным законам или конвенциям. Я особенно в это не вникал тогда, соответствующего образования не хватало — прошел только ускоренные курсы механиков, там такому не учили, никаких премудростей, кроме как разобраться, где в танке какие рычаги. Из всего, сказанного мудрым Шлихтом, я понял тогда одно: даже если лагерное начальство в своей повседневной работе не слишком стремится соблюдать приличия, оно должно делать это хотя бы формально.
Нам, например, регулярно предлагали писать жалобы и пожелания. Наивные, особенно из интеллигентов, непременно пользовались такой возможностью. Реакции не было никакой — и это в лучшем случае. В худшем — жалующийся либо по какой-то причине попадал в ШИЗО — штрафной изолятор, либо нарывался на якобы случайную заточку блатаря, либо… Ну, сами понимаете, начальство имело массу возможностей устроить любому зеку еще более веселую жизнь, чем та, которая у него была в лагере. То же и с захоронением, или, как любил говаривать товарищ Абрамов, утилизацией шлака. Ну, вот не положено трупам лежать под стеной барака! Правило такое, а против правила у нас, сами знаете, никто не пойдет. Его, правила, следует придерживаться хотя бы формально, для себя, для «галочки».
Начальник четвертого лагерного отделения мог не видеть свалки трупов в темноте, однако он должен был знать, что тела эти свалены, и за это — нагрянь вдруг проверка — его по головке не погладят. Поскольку поверяющие должны доложить по инстанциям о выявленных непорядках, чтобы формально наказать нарушителя. Разумеется, не слишком жестко, но майора Абрамова могут снять отсюда, с насиженного места, и перебросить куда-нибудь ближе к зоне вечной мерзлоты. Просто так, чтобы отрапортовать о принятых мерах. Ведь где-то там, на Большой земле, как здесь называли любое место южнее Ухты и Инты,[19]таких как Абрамов с Бородиным, тоже за людей не считают. Потому и тасуют их, как карты в колоде. Следовательно, наше начальство должно держать нос по ветру и не давать никому ни малейшей возможности для такого шантажа.
Это мне также доцент Шлихт объяснил: хоть лагерное руководство и конвойные находятся по ту сторону проволоки, их свобода — на самом деле формальность. Они тоже повязаны Системой, так же, как и мы, сидят в лагерях, и колючая проволока для них означает то же самое, что и для нас. Разница только в том, что нам, зекам, уже нечего терять, тогда как они, конвойные, легко могут оказаться на нашем месте. Итак, подытожил Шлихт, мы все вместе свободнее в своих словах и поступках, чем люди, подобные майору Абрамову и капитану Бородину.
Легче от выводов Шлихта мне, честно говоря, не становилось. Ведь моя личная свобода от этого не приближалась. Более того: в начале года, где-то в феврале или марте, теперь не вспомню, с очередным этапом пришло известие об отмене Президиумом Верховного Совета, считайте — лично товарищем Сталиным, указа двадцать два — сорок три. Чтоб вам было понятнее: именно по этому указу за измену родине меня осудили на пятнадцать лет каторжных работ. Тогда для меня открылась только одна дорога — туда, на Воркуту, потому что как раз тамошние лагерные пункты предназначались для каторжан. А подписал наш любимый вождь этот Указ аккурат 22 апреля 1943 года — ко дню рождения другого вождя мирового пролетариата, товарища Ленина…
Это я к тому, что Червоному и всем «политическим», которые тоже прибыли с новым этапом, можно сказать, повезло. Хотя бы в том, что теперь «политических» не изолировали от остальных заключенных. Впоследствии этим воспользовались сначала блатные, а затем бандеровцы. Относительно свободное передвижение по территории само по себе ускорило события, начавшиеся с появлением в нашем лагпункте большого количества украинцев. Другое обстоятельство — еще год назад в стране отменили смертную казнь,[20]так что бандеровцев, которых судили сейчас, не расстреляли. Правда, впаяли на полную. И хоть их сослали в Воркуту, но это уже не считалось каторжными работами. Исправительными — да. Но так, объяснял Шлихт, возникло определенное юридическое отличие при полном отсутствии отличия формального.
Однако приговоры в отношении меня и остальных «изменников», вынесенные до отмены указа двадцать два — сорок три, по этому постановлению не пересматривались. Так что я и дальше отбывал каторжные работы. Хотя как раз в то время, когда в нашем лагере появились украинцы и литовцы из «буржуазных националистов» и «немецких пособников», моя бригада находилась на особом положении. Как бы то ни было, а там, в лагерях, мы всегда скрупулезно изучали детали и малейшие нюансы всего, что происходило на воле и могло так или иначе касаться нас. Подобную информацию, пусть даже слабенькую, мы получали из рассказов вновь прибывших.
Думаю, теперь вы понимаете, почему я сначала возненавидел Червоного и всех, кто пришел с ним. В отличие от меня и ребят из моей похоронной команды, прибывшие были настоящими изменниками и врагами — как нам тогда казалось, эти враги еще и обладали пускай незаметными, как все в условиях вечной мерзлоты, статусными преимуществами над нашим братом, старым зеком.
Да, в лагере мы выполняли функции могильщиков. Впрочем, по странной, действительно извращенной логике, именно эта работа позволила всем нам не превратиться в классических дохляков — доходяг. И не попасть самим в барак обреченных. Нас выручали, пусть это прозвучит сейчас диковато, местные погодные условия.
Они не позволяли так просто, приложив столько усилий, сколько для этого нужно, копать землю. Как я уже говорил, для каждой новой ямы — большой или маленькой, грунт приходилось прогревать. Из-за этого мы регулярно жгли костры. И, понятное дело, сами грелись возле них. К тому же хоронить приходилось не только каторжан вроде нас, а и уголовников, которые чаще резали друг друга на смерть — как раз начиналась «сучья война».
Но об этом после. Собственно, эта лагерная война между настоящими преступниками достаточно близко свела нас с Данилой Червоным.
2
Итак, впервые фамилию Червоного я услышал на проверке на следующее утро после того, как новая партия зеков оказалась в нашем бараке. Честно говоря, даже не разглядел его тогда. Чего там смотреть…
Увидишь такого же, как ты сам, худого заключенного, наголо бритого тупой машинкой, а через эту машинку проходил каждый из нас, независимо от присужденной статьи, и вряд ли ее наточили хоть раз за эти годы. На нем такой же, как на тебе, грязный ватник, под ним — жесткая роба и, если повезло сохранить на этапе, свитер толстой вязки (правда, его могли забрать блатные или конфисковать конвойные, наказывая за какую-нибудь провинность); впрочем, долго такая одежка не продержится — расползется на нитки. Еще ватные штаны, по большей части не новые, снятые с очередного умершего дохляка и обработанные в средстве для дезинфекции, а потом подобранные для новичка по размеру. А вместо опорок с калошами, сооруженными из кусков автомобильных покрышек, на ногах у новоприбывших красовались кирзовые сапоги.
Собственно, правом одеваться кроме лагерной еще и в остатки «вольной» одежды осужденные после отмены указа двадцать два — сорок три отличались от нас, настоящих каторжан. Мы такой возможности не имели, даже если кто-то поддерживал связь с родственниками и мог бы иногда получать теплую одежду и белье с передачей — дачкой по-нашему. А обувь Червоного привлекла не только мое внимание. В нашей команде собрались фронтовики, среди которых — разжалованный офицер. В этом, кстати, был злой умысел Абрамова: я, сержант, водитель и механик танка, фактически руководил — насколько это может позволить себе обычный каторжанин — старшим по званию. Но, так или иначе, каждый из нас не забыл, какие на вид пускай грязные, стоптанные, но настоящие хромовые офицерские сапоги.
Конечно, такая обувь на зеке, обреченном прозябать в угольной шахте, выглядела откровенным пижонством и издевательством над другими заключенными. Ведь подобное воспринималось как по меньшей мере потакание со стороны лагерной администрации. Но меня удивило другое: офицерские сапоги Червоный умудрился сохранить на этапе, где всегда пасутся блатари, выискивая у других осужденных что-нибудь ценное и питательное. Когда по этапу вели меня, собственными глазами видел, как бедолаг, пытавшихся сопротивляться, безо всяких сомнений душили, пыряли самодельной пикой, калечили и даже выбрасывали из «телячьих» вагонов на ходу при полнейшем равнодушии конвоя в красных погонах.
Очень скоро не только я — мы все поняли, как и почему Червоный, его друзья-бандеровцы и прибалтийские «лесные братья» доехали до места отбытия наказания в своей одежде и даже в собственных сапогах…
Еще Данила Червоный и другие бывшие бойцы отличались цветом кожи, особенно на лице. Впрочем, эта разница быстро исчезнет: вскоре угольная пыль прочно въестся в лица, они будут зудеть, и светлыми останутся только белки глаз, а если кто-то из них доживет до лета, угольная пыль смешается еще и с солидолом. Короткими летними днями будут докучать комары и мелкая, почти незаметная и оттого еще более противная мошкара. Намазав морды тонким слоем солидола, мы могли хоть немного уберечься от укусов. Насекомые липли к жиже, вязли в ней. Время от времени мы счищали их вместе с остатками солидола, чтобы намазаться снова. К этой процедуре рано или поздно здесь прибегают все, как бы долго ни брезговали, оттягивая неприятный момент. С окончанием лета защитная маска смывалась, а угольная пыль оставалась.
Разобрав новеньких по бригадам, бригадиры — бугры, преимущественно зеки с бытовыми статьями или уголовные элементы, которым их закон не запрещал занимать эту должность, по большей части — так называемые суки, повели отряды на работу. Развернул свою команду и я: так начался новый день, похожий на все, что были, и все, что будут.
Пожалуй, пора несколько слов сказать о том, как я сам оказался не такой блатной или, лучше сказать, придурочной работе.
Весной 1944 года из всех обитателей «политического» барака я оказался первым фронтовиком, осужденным на полтора десятка лет каторги. Тогда особенного отношения ко мне у майора Абрамова не было. Но немного позже, к лету, с разными этапами пришли Саня Морозов, прозванный Морячком, Иннокентий Свистун, к которому, несмотря на красноречивую фамилию, прилипла простенькая кличка Кеша, и тот самый бывший офицер Красной армии Марат Дорохов, еще на пересылке окрещенный Сапером. Вот тогда начальник лагеря начал уделять нам чем дальше, тем больше внимания. Однажды Абрамов вызвал меня к себе через «кума», капитана Бородина, и поставил вопрос ребром:
— У меня, Гуров, сын на фронте без вести пропал. Как и ты, в танковых войсках служил. Только командир танка, младший лейтенант. Абрамов, Александр… Шурик… Не встречал?
— Нет, — ограничился я коротким ответом, зная — мое дело начальник лагеря наверняка изучил, значит — в курсе, что с его Шуриком мы воевали на разных фронтах. Спросил Абрамов скорее машинально, такое часто вырывается, даже когда человек встречает военного в обычных условиях, на воле: не видел ли ты, сынок, мол, моего там, на войне…
— Что ты там с особистом не поделил — не мое дело, — сказал майор, выдержав короткую паузу. — Твое скорее. — Тут он красноречиво похлопал по не очень пухлой картонной папке, которую я видел уже несколько раз, то есть моему уголовному делу с тщательно подшитыми одна к другой бумажками. — Есть мнение, Гуров, что эти вот враги народа, которым не угодила советская власть, к ответственным работам не готовы. С людьми они не смогут здесь работать, скажи, Гуров?
Я молчал. За время, пока меня мотало по тюрьмам, пересылкам и этапам, успел усвоить одно правило: когда к тебе обращается сотрудник МВД — лучше слушать и молчать. Так как все, что ты можешь ему ответить, он наперед знает.
— Им, Гуров, физический труд на благо и процветание советской промышленности очень полезен, — продолжал майор Абрамов. — Умственную свою деятельность они запороли. Мозги — просрали троцкизмом и другой контрреволюцией. Им власть большевиков давала шанс послужить. Теперь пусть кайлами машут. Ты же боевой офицер, танкист, людьми командовал. Значит, и с человеческим материалом справишься. Справишься, Гуров? Можно на тебя положиться?
— Так точно, гражданин майор, — автоматически отчеканил я, еще не взяв в толк, к чему он ведет.
Когда дошло, лишний раз удивился поистине ни на что не похожему, чисто лагерному, можно сказать — воркутинскому чувству юмора начальника лагеря. Эта его работа с людьми, или, как он потом чаще говорил, с людями, действительно предусматривала подобный род лагерных работ. Только речь шла о еле живых, умирающих или уже мертвых людях.
Приказав мне самому подобрать зеков из числа «политических» для работы в похоронной команде и вообще при больнице, Абрамов прозрачно намекнул: да, я враг народа, но дело мое он внимательно прочитал, сделал поправку на то, что я воевал, пусть и недолго, и его предложение в определенной степени вызвано желанием хоть как-то компенсировать потерю сына. Иногда мне даже казалось, что начальник лагеря видит на моем месте или на месте кого-то из моих товарищей по несчастью своего парня, о котором я так и не узнал ничего больше — только то, что обронил мимоходом Абрамов.
Теперь, после всего, что мне пришлось пережить в лагере, я готов честно признать: перевод меня, а вместе со мной Морозова, Свистуна и Дорохова из угольной шахты в так называемую похоронную команду был чуть ли не единственным достойным поступком, который позволил себе начальник лагеря от назначения на эту должность до самой смерти, преждевременной и страшной.
Ой, что-то меня опять понесло не туда…
Но уж потерпите, давно я ничего из этого не вспоминал вслух. Тем более, что если бы я не крутился постоянно возле больницы, то не имел бы возможности более-менее свободно общаться с теми, кого по существующим в лагере правилам держали отдельно от нас. В частности — с вором-законником, которого все звали Коля Тайга.
Считалось, что именно он держит зону, то есть он — ее неофициальная власть, иногда сильнее власти Абрамова. Волею судьбы я познакомился с Тайгой на пересылке. Узнав, что я тоже ленинградский, да еще и жил на Ваське — Васильевском острове, профессиональный вор сразу посоветовал его держаться. И хотя я сам мог о себе позаботиться, решил — такое землячество ни к чему не обяжет, а мне, для которого все вокруг было новым, неожиданным и диким, из этого знакомства может выйти прок.
Прогнозы сбылись: уже в зоне нас разделили, поместив меня к «политическим», но блатных, в отличие от нашего брата, в передвижении по территории лагеря никто не ограничивал. Поэтому я нечасто, но все-таки контачил с Тайгой, иногда получал какой-нибудь мелкий грев — горбушку хлеба или маленький кусок сахара, а когда был назначен бугром так называемой похоронной команды и оказался при больнице, общаться с Колей стал чаще: блатные всегда имели у медсанчасти массу своих интересов.
Я не слишком удивился, когда через три дня после появления в лагере бандеровцев, среди которых Данила Червоный считался чуть ли не командиром, и уж точно — старшим, из-за угла барака, где располагался морг, мне сначала тихонько свистнули, потом — так же негромко окликнули:
— Э, Танкист… Тайга перетереть хочет.
Повернувшись, я увидел Васю Шарика — киевского щипача — карманного вора, одного из приближенных к ленинградскому авторитету. Вообще свита Коли Тайги состояла из десяти всецело преданных ему людей, где каждый знал свое дело. Например, Шарик, получивший прозвище не за идеально круглую форму головы, как могли подумать непосвященные, а за то, что однажды в оккупированном Киеве не умер с голоду, поймав, сварив и съев немецкую овчарку, был у Тайги посыльным. Но это не означало, что Шарик — типичная шестерка : для мелких поручений у него самого на подхвате была стайка молодых уголовников, проходивших только первый курс своего лагерного университета. Если от имени Тайги с кем-то приходил говорить сам Вася Шарик, это означало, во-первых, важность дела, о котором идет речь, а во-вторых — определенную степень доверия со стороны самого смотрящего.
Кроме Шарика в распоряжении Коли Тайги было несколько настоящих бандитов и убийц, но, чтоб вы знали, даже рецидивист, зарезавший или застреливший человека во время своего очередного преступления, имел по суду меньший срок, чем жители нашего, «политического» барака. Рассказанный не в той компании политический анекдот или даже осторожно высказанное сомнение по поводу конкретных действий партии, правительства и лично товарища Сталина наказывались примерно так же, как умышленное убийство человека. Вот только условия для убийц и вообще разных уголовных элементов в тюрьмах и зонах были лучше, чем для нашего брата, осужденного за политику. Я, вообще-то, даже не за политику… Ладно, позже об этом, ко мне же применили пятьдесят восьмую.
И еще скажу, чтобы потом не отвлекаться: сейчас в советских тюрьмах мало что поменялось. Да и в целом законодательство не слишком изменилось. У меня, как вы уже знаете, есть определенные знакомства среди юристов, адвокатов в частности. Могу даже юридические консультации давать, но не дай бог вам они понадобятся, молодой человек.
Ага, опять немного в сторону отошли. Придется потерпеть, все-таки воспоминания о Даниле Червоном — это воспоминания о времени, о котором стоит говорить и писать. Только запрещено это, посадят за антисоветчину. Поэтому уж извините за желание выговориться. Тем более что без таких вот подробностей вам не будет до конца понятно, как развивались события в лагерном отделении номер четыре особого лагеря номер шесть с появлением Червоного и других бандеровцев.
3
Итак, осмотревшись, чтобы убедиться, что мы здесь одни, я не спеша приблизился к Васе Шарику. Тот протянул недокуренную самокрутку: уголовники как-то умудрялись добывать в зоне самосадную махорку, и я даже видел у Коли Тайги пачку пижонского «Казбека».
Да, признаю: в нашем положении приходилось докуривать за ворами, а кое-кто из доходяг вообще мог схватить окурок, брошенный под ноги конвойным, часовым или кем-то из офицеров. По этому поводу доцент Шлихт развил целую теорию о том, что лагерные условия позволили ему наконец справиться с вредным пристрастием к курению. Лучше перетерпеть, чем вот так… Тем не менее я, как и многие товарищи по несчастью, в какой-то момент перестал думать о том, что такое унижение за колючей проволокой.
Уже само пребывание здесь было унижением. Голод, холод, лишение элементарных условий для жизни и даже намека на гражданские права, каторжный труд и главное — невозможность что-то изменить, кроме как тихо умереть вот здесь, в бараках, или броситься от отчаяния на колючую проволоку, ведь попытка бегства дает гарантированную смерть и избавление от лагерных мук.
Поэтому я запросто взял окурок из рук вора. Глаз на такие вещи уже набит: оставалось минимум на три затяжки. Щедрость подарка или подачки — понимайте, как хотите! — переоценить в лагере трудно. Курить сразу не стал: аккуратно завернул окурок в кусочек грязной газеты, положил в карман бушлата. Потом из этой бумажки сделаю мундштук и докурю сигарету до последнего грамма. Шарик следил за моими манипуляциями без интереса — такое он видел каждый день. А я понимал — вот так, запросто, за здорово живешь, жирные окурки нашему брату от блатных не перепадают. Поэтому спросил коротко:
— Ну?
— Гну, — автоматически ответил Шарик. — Тайга интересуется, достойно ли вы тут похороните наших товарищей.
— Закопаем как положено, — в тон ему ответил я.
— Это были достойные люди, — гнул свое Шарик.
— Были, — согласился я. — Только отдельных ям для вашего брата начальством не предусмотрено.
— С этим разберемся. — Шарик снова настороженно огляделся. — Для сук отдельное место готовится, правильно?
Кажется, я упоминал уже о них…
«Суками» в лагерях называли уголовников, преимущественно воров, которые нарушили законы уголовного мира. Даже теперь я не очень хорошо в них разбираюсь. Тем более что эти законы корректируются — незначительно, но все-таки. А тогда, после войны, главным определением «суки» было его согласие работать на советскую власть. Например, когда осужденные за уголовные преступления соглашались идти на фронт.
«Ссученные» — так на языке воров окрестили за предательские действия ренегатов преступного мира. С ними мне довелось послужить в штрафном батальоне: пока меня не отдали под трибунал за драку с офицером особого отдела НКВД. Благодаря этому я и другие фронтовики, даже понимая всю условность ситуации, поначалу готовы были воспринимать «ссученных» преступников как товарищей по оружию. Ну а уголовники, верные традициям, которые воевать с оружием в руках за родину и за Сталина не пошли, объявили сукам войну не на жизнь, а на смерть. Этого требовали их неписаные законы. И «ссученные» это прекрасно знали. Потому и приготовились защищаться.
В том, что рано или поздно воры и суки встретятся, сомневаться не приходилось. Служба в штрафбате предусматривала: свою вину перед властью преступник смоет кровью в бою. С первым тяжелым ранением боец-штрафник получал возможность погасить все свои судимости досрочно. Можно и не ловить пули, а прослужить, то есть продержаться в штрафбате три месяца, и, если за это время бойца не убили, судимости с него также снимали, а его самого переводили в обычную общевойсковую часть, где он воевал дальше, даже зарабатывал награды.
Вот только ни одна медаль еще не перевоспитала профессиональных преступников. После войны подавляющее большинство «ссученных» вернулись к привычному образу жизни: никакого другого применения на воле вчерашние воры, разбойники, грабители и бандиты просто не находили. Соответственно, рано или поздно они попадались, по приговору суда шли по этапу, а в лагерях предателей ждали верные уголовным законам воры, чтобы исполнить свой, воровской приговор. Он всегда означал смерть сукам.
Покаяться и тем самым сохранить жизнь не получалось. Даже советские суды присуждали расстрел врагам народа, хотя их покаянные заявления занимали по нескольку листов, а речи отличались пламенной чистосердечностью. Поэтому у «ссученных» было два выхода: драться на смерть, как в последний раз, и побеждать силу силой, а массу массой, или заручиться поддержкой лагерной администрации. То есть изменять законам дальше, сотрудничая с властью.
Три десятка лет прошло. Можете поверить моему опыту: суки всегда сотрудничают с властью. А власть — только с суками. В этой стране менялось многое — только эта форма сотрудничества осталась без изменений. Знаете, что хуже всего? Жизнь будет продолжаться; наверное, сменится власть. Но это, к сожалению, не изменится: с властью будут сотрудничать только суки … Ну, это так, сугубо мои выводы…
Так вот, когда уголовники грызлись между собой, ни на кого не обращая внимания, война воров и сук оставалась их личным делом. Так что начальство одинаково наказывало за нарушения обе враждующие стороны. Но если суки шли на сотрудничество с лагерной администрацией, они получали союзника. Фактически советская власть вербовала в свои ряды убийц и бандитов, чтобы те забирали себе власть в лагерях и контролировали внутреннюю ситуацию. Заодно выполняя отдельные, часто негласные распоряжения администрации.
У нашей зоны пока что был статус «воровской». То есть заправляли заключенными уголовники, которыми руководил Коля Тайга. Видимо, майор Абрамов был намерен переломить ситуацию: несколько последних этапов по большей части состояли из сук, и взаимная травля происходила сознательно, по его плану. Однако Коля Тайга еще чувствовал за собой силу, и наш лагерь не «краснел», оставаясь «черным»,[21]то есть воровским.
Все эти внутренние противоречия уголовников нас, политических, не касались, ведь мы жили обособленно от основного лагеря. А остальные доходяги, сидевшие по бытовым статьям, во время кровавых стычек между заключенными старались держаться как можно дальше, даже забивались под нары, чтобы пересидеть очередную бурю. Хотя не слишком прыткие могли-таки попасть под горячую руку бойцам из обоих лагерей: махая ножами и заточенными металлическими пиками, ни воры, ни суки не разбирали в темноте барака, кто свой, а кто случайный.
Накануне на «воровской» барак после небольшого перерыва напала сучья команда. Застать врасплох противника им не удалось, людей Тайги предупредили в последний момент. Стычка получилась короткой, но с обеих сторон все же были жертвы. В частности, зарезали Ботву, известного в воровских кругах рецидивиста, старого товарища Коли еще с довоенных времен.
— Правильно, — повторил я после паузы.
Тем самым не вдаваясь в подробности, а только подтвердив: троих воров, включая Ботву, похоронят в общей могиле, а двоих сук, по распоряжению майора Абрамова, — рядом, отдельно.
Некая, если можно так сказать, дискриминация мертвых во время «сучьей войны», только начинавшейся в то время, для начальника нашего лагеря была привычным явлением. Тогда мне даже казалось, что майор хотел, чтобы воры и суки просто уничтожили друг друга, и тогда круглосуточная жизнь зоны окажется под его личным контролем. И, между прочим, довольно скоро после событий, к которым мы уже подходим вплотную, я убедился в правоте своих предположений.
— Жмуров этих кнокает[22]кто? — уточнил Шарик.
— Больно надо начальству еще этим морочиться, — ответил я.
И это была правда: за все время, пока мы работали в похоронной команде, никто из администрации ни разу не заглянул в яму, чтобы посмотреть, кого именно мы собираемся закопать. Врач констатировал смерть, потом оформляли соответствующие справки и списывали дело умершего в архив.
— То-то и оно. — Шарик по-блатному цыкнул зубом. — Все допер, специально толочь не надо?
— Понял, — кивнул я.
Закопать Ботву и двоих других убитых воров отдельно, в могиле для сук, а убитых «ссученных», наоборот, положить в общую могилу мы еще могли без особенных для себя последствий. Пускай сук и воспринимают как фронтовиков, но торжественных похорон для них все равно не будет. Кстати, нас в случае чего ждала такая же судьба.
Но Шарик не торопился уходить. Из чего я понял: он не закончил. Дело о захоронении воров отдельно от сук, конечно, очень важное, но из своего опыта общения с Колей Тайгой я чувствовал: эту просьбу, точнее, этот приказ мог передать и кто-то помельче по статусу, чем Вася Шарик. Значит, это была только затравка.
И правда, снова выдержав небольшую паузу, Шарик продолжил, для чего-то еще больше понизив голос:
— У вас там бандеровцы в доме…
— Так точно, — подтвердил я, для чего-то добавив: — Восьмеро. И пятеро прибалтов… Пособники… Это пока, чует мое сердце, ими нас еще допакуют.
— Это херня, — отмахнулся Шарик. — Пусть пакуют, вам-то что. Они сидят, вы тоже сидите, вашу баланду не сожрут… Ну а чьи они там пособники, пусть граждане прокуроры разбираются. Им за это зарплату платят. — Он снова цыкнул зубом. — Ты как-то с ними контачишь?
На самом деле сложный для меня вопрос на тот момент. Хотя Уголовный кодекс предусматривал для нас с бандеровцами одну статью, пусть и разные пункты, между нами я не видел ничего общего. Более того: такие, как Червоный, по моему убеждению, служили фашистам, потом американцам, то есть врагам советской власти. У меня же, например, была совсем другая история, и к настоящей измене родине я не имел никакого отношения.
К тому же существовала еще одна причина держаться подальше от бандеровцев: тогда я считал, что они ненавидят русских, они даже между собой говорили по-украински, хотя русский хорошо понимали. Вообще эта группа заключенных с самого начала казалась достаточно организованной, закрытой, они сами не очень искали с другими жителями барака контактов ближе, чем того требовали правила сожительства под одной крышей.
— Ну… Не очень…
— Придется законтачить. Кто у них старший?
Думаю, Коля Тайга это знал. Соответственно, владел информацией и Шарик. Но я оставил свои мысли при себе и коротко ответил:
— Есть там такой… Червоный. Данила, кажется.
— Кликуха?
— Фамилия. Ты же знаешь, у нас без прозвищ…
— То у вас… Танкист! — Вор криво улыбнулся, хотя глаза не излучали веселья. — Значит, так. Дашь ему знать: пускай сегодня ночью он и его кореша не спят. Спросит почему, скажешь — от Коли Тайги маячок. Совсем давить будет, говори: жить хотят — пусть слушаются. Все, больше ничего для тебя нет. — Уже собравшись уходить, Шарик вдруг снова повернулся ко мне, глянул прямо в глаза. — Своих тоже подкрути. Жарко ночью будет. Так что берегитесь, обожжетесь…
4
Не хочу сейчас говорить, что совсем не понял намеков блатаря.
Но для чего ворам предупреждать «политиков», да еще и бандеровцев, о какой-то угрозе? Если бы угроза исходила от заключенных, управляемых Тайгой, естественно, никаких предупреждений Червоному не передавали бы. Разве что воры надумали прибегнуть к одной из своих любимых сложных игр, на которые были мастаками всегда, а в лагерных условиях и подавно. Вот только опыт подсказывал: «законникам» с националистами нечего делить. Допустим, Коля Тайга пронюхал — администрация собирается прессовать бандеровцев. Но здесь хоть предупреждай, хоть нет — это все равно произойдет, и сопротивляться насилию бессмысленно.
Выходит, остается один источник реальной угрозы для бандеровцев — суки.
Они претендовали на статус третьей лагерной власти. По слухам, отдельные зоны уже понемногу «краснели». И происходило это благодаря активности «ссученных», которые, как я уже говорил, иногда пользовались молчаливой поддержкой лагерной администрации и даже обозначали себя, надевая на рукава красные повязки. Тем не менее наш особый лагерь номер шесть до сих пор держался на воровском большинстве, то есть считался «черным»: Коля Тайга и ему подобные считали себя «черной мастью». Криминальный табель о рангах вообще делил не только преступный, но и весь мир на масти, как в картах. Красное, черное, короли, тузы, шестерки… Ну, понимаете, наверное, ведь по телевизору фильмы соответствующие показывают.
Вот только меня все это не касалось. По крайней мере, я сам так хотел.
Но годы, проведенные в Воркуте, помноженные на то, через что мне пришлось пройти до лагерей, изрядно повлияли на мои, так сказать, жизненные установки. Самая первая из них: в отличие от того же доцента Шлихта или других осужденных с высшим образованием, еще на этапе я понял, что изменить ничего не удастся — придется терпеть, и я смирился.
Хотите — верьте, хотите — нет… Не дай вам бог, конечно, оказаться в такой ситуации, хотя и сейчас все возможно… Словом, не хочу, чтобы вы на собственной шкуре убедились, как это: после надрыва и слома вот здесь, внутри, плыть по течению, словно щепка в грязном ручейке на тротуаре после дождя. Даже то, что майор Абрамов обратил на меня внимание и своей властью перевел в похоронную команду, подальше от медленной смерти в угольной шахте, я воспринял как высшую благодарность за покорность судьбе. Пусть я и поддерживал — опять-таки в силу обстоятельств — контакты с уголовниками, но не считал, что чем-то обязан таким, как Коля Тайга. И тем более не имел никакого желания хоть каким-то боком вписываться в их разборки с суками. Да и вообще, единственная надежда, которую я себе оставил, — это тихонько досидеть свой срок, выйти и незаметно где-нибудь осесть.
Если сравнивать воров с теми, кого они называли «ссученными», то на самом деле мое отношение именно к сукам могло бы быть другим. Ведь мне довелось побыть штрафником: повоевать с бывшими уголовниками плечом к плечу и поспать с ними в одном окопе. И хотя часть из них после войны опять взялись за старое, я и другие фронтовики, попавшие в один лагерный барак, воспринимали их как товарищей и даже симпатизировали им. Особенно если вспомнить, что именно штрафников бросали вперед, на тяжелейшие участки фронта, и они, часто даже не вооруженные, все-таки прорывались, рвали немцев чуть ли не зубами и прочно укреплялись на взятых рубежах.
Однако именно здешним, воркутинским сукам, рассчитывать на поддержку других фронтовиков без уголовного прошлого не приходилось. Так как верховодил «сучьим бараком» Савва Зубанов, он же Зубок, арестованный и осужденный за мародерство.
Таких в войсках не любили — независимо от того, штрафник он или воюет в общевойсковой части. Как я узнал, Зубка захватили и привели в комендатуру женщины в только что освобожденном от немцев белорусском городке. Он и еще трое его подельников обирали погибших и не только: на них пожаловалась изнасилованная этим кагалом девочка-подросток, у которой во время боев за городок осколком снаряда убило маму. На следствии Зубок кричал, что эта девочка, как и большинство молодых женщин города, служили немецким оккупантам, были подстилками гитлеровцев, а он только проверял сигнал, пытаясь задержать подозреваемую и доставить в комендатуру. Конечно же, ему никто не поверил: изнасилование приобщилось к фактам мародерства, и Савва Зубанов, побывав на многих пересылках, в конце концов оказался в нашем лагере. И здесь окружил себя такими же, как он сам.
Очевидно, майору Абрамову Зубок и ему подобные были выгодны. Отселенные в отдельный барак тамошние суки, имевшие не очень заметные, но ощутимые поблажки со стороны администрации, создали свору таких редкостных подонков, что по сравнению с ними воры, подчиненные Коле Тайге, действительно казались аристократией преступного мира. А наша небольшая группа фронтовиков однозначно отказалась признавать Зубанова и других «ссученных» равными себе.
Адресованное Червоному предупреждение Тайги так или иначе касалось сложных отношений между уголовниками внутри лагеря, с одной стороны, и суками и администрацией — с другой. Но Коля Тайга вряд ли учел, что к бандеровцам, и в частности к Даниле Червоному, я сам тогда относился не намного лучше, чем к типам вроде Саввы Зубанова. И если смотрящий намекал на то, что бандеровцам следует остерегаться какого-то маневра от лагерных сук, то я мог бы эту информацию адресату не передавать. Тайга этого никак не проверит, поскольку бандеровцы в лагере принципиально ни с кем не сходились, держались отдельной группой, даже общались между собой исключительно по-украински.
Тогда даже показалось, что украинцы держатся свысока, как будто не сидят с нами в одном бараке и не хлебают одну баланду. Поэтому если бы речь шла не о Зубке, я, наверное, так и сделал бы: пускай «ссученные» выясняют отношения с бандеровцами и рвут друг друга на куски, и от этого как-то легче на душе. Вот только подыгрывать таким, как Зубанов, я не мог себе позволить даже в лагере.
Так вот, дождавшись, когда жители нашего барака вернутся со смены и без сил упадут на нары, чтобы найти хоть небольшое облегчение в коротком лагерном сне, выбрал момент и подошел к Червоному.
Не сел возле него. Не заговорил. Так как не имел такого намерения. У вас может сложиться неправильное впечатление о том, как именно жил «политический» барак. Только кажется, что все мы там — товарищи по несчастью и связаны крепкой мужской дружбой. На самом деле здесь не собрание благородных людей. Оперативная часть лагеря и даже лично «кум», капитан Бородин, должны быть в курсе того, как и чем живут осужденные «враги народа». И стукачей среди тех, кого посадили по пятьдесят восьмой статье, хватало, как и в других бараках и вообще в лагерной среде.
Вполне возможно, за моими перемещениями и контактами тогда следила пара любопытных глаз. Собственно, не за мной, а просто так, чтобы потом, обжигая губы кипятком, щедро сдобренным пайковым офицерским сахаром, в закрытом изнутри кабинете было о чем доложить начальнику оперчасти. Чай и любую другую подачку сексот должен отрабатывать, иначе не видать ему больше горячего чайку…
Я пошел в глубь барака, к самодельной печке, в качестве которой служила большая бочка из-под мазута. Там доходяги пристраивали миски с вечерней пайкой, чтоб создать хотя бы иллюзию теплого ужина. Проходя мимо Червоного, я вскользь коснулся его плеча. Поняв, что прикосновение не случайно, Червоный, также не привлекая к себе внимания, повернулся ко мне. Со стороны казалось, будто зек удобнее устраивается. Но когда наши взгляды пересеклись, я заметил, что на меня настороженно поглядывает исподлобья товарищ Червоного, сидевший на соседних нарах и вроде бы ушедший глубоко в себя после работы. Его фамилия вспомнилась сразу, так как приметная была — Воропай. Правда, в то время я уже знал, что бандеровцы обращаются друг к другу, как привыкли: у них принято давать всем что-то вроде прозвищ. Например, к Червоному, главному своему, другие обращались Остап. Этого Воропая называли Лютым. Были еще Мазепа, Мирон, Холод, Ворон — этих прозвищ я в голове тогда не держал, а теперь совсем вылетели. Это ж тридцать лет прошло!
Когда Лютый глянул на меня, я понял: Червоный дал знать товарищу: с ним вошел в контакт чужой, что на уме — неизвестно, поэтому на всякий случай надо готовиться. К чему? А эти люди, как понял я впоследствии, когда познакомились ближе, всегда готовы к схватке, к бою, словом — дать кому-нибудь отпор. Даже эти несколько человек вместе уже были определенной организацией — ни больше ни меньше…
Дав Червоному понять, что к нему есть разговор, я пристроился у огня — благо, топить воркутинским углем заключенным не запрещалось. Печка была небольшой, греться хотелось всем, так что долго здесь никто не сидел — лучше чаще подходить. Вот так, сидя на утрамбованном земляном полу барака, я ждал. Минут через десять ко мне подсел на корточках Червоный. Растопырил большие ладони, прислонил их к горячему металлическому боку печки, прищурил глаза и, не поворачивая головы, спросил тихо:
— Что надо?
Кстати, позже у меня была возможность убедиться еще в одной вещи: как Червоный и другие бандеровцы, так и прибалты, тоже составлявшие определенное сообщество и старавшиеся держаться возле украинцев, очень плохо говорили по-русски. Тогда для меня это было странно. Как это так: кто-то из жителей Советского Союза не знает нашего общего, ну, понимаете — главного языка. Господи, у меня командир танка был из Тального — это такой городок украинский есть, да вы знаете, наверное. А один инструктор на курсах — из Сум, тоже украинец. Так они, и не только они, прекрасно говорили по-русски.
Я думал сначала: это бандеровцы так нарочно. Но со временем осознал: для них и правда этот язык чужой! Иностранный! Ну как для нас с вами польский или чешский! Нет, конечно, они все понимали, даже говорили на ломаном русском, когда общались с кем-то из нас или с начальством. Но в большинстве случаев, по крайней мере в разговорах со мной, которых было немало, Данила Червоный говорил по-украински. И я его понимал.
Но в тот момент, у печки, мы заговорили впервые. Ответил я не сразу и тоже коротко:
— Сегодня ночью будьте осторожны.
— Почему?
— Не знаю. Просили передать.
— Кто?
В сокрытии источника информации я не видел смысла.
— Тайга. Знаешь такого?
— Блатной?
— Угу.
— Понял.
Потом, когда наше знакомство с Червоным стало более тесным, я убедился: в тот момент Данила действительно все понял. А сам я, оказывается, о многом даже не догадывался…
А тогда, выслушав меня, он кивнул, отвернулся, а я поднялся на ноги, подпуская к печке очередного желающего хоть немного отогреться. Мне казалось — все, свою маленькую миссию я выполнил. Оставалось теперь и самому не спать ночью, но об этом и речи не было: на такую жертву, как отказ от положенных по лагерным законам нескольких часов отдыха, я идти не собирался. Ведь чужие дела, что бы за ними ни стояло, меня не касались.
Оказывается, Червоный этого не знал. Или, скорее, совсем на жизненную установку какого-то Виктора Гурова не обращал внимания. Потому что уже через час, когда я укладывался на нары, рядом из темноты услышал тихое:
— Когда все уснут — перейдешь на место Остапа.
Резко повернулся на голос, но, как следовало ожидать, никого в темноте барака не разглядел. Но просьбу, точнее, распоряжение, передал не сам Червоный. До сих пор не могу объяснить, почему решил подчиниться и через полчаса, когда барак погрузился в сон, осторожно сполз со своих нар на нижнем ярусе и в сумраке пошел туда, где разместились бандеровцы.
Когда и как Червоный прошел мимо меня — не знаю. Нашел его место, тоже нижнее, устроился. Доски, как сейчас помню, еще сохраняли остатки человеческого тепла. Вытянулся на спине, закрыл глаза и понял, что вот теперь точно спать не буду.
Что бы ни началось этой ночью, о времени, когда все произойдет, мне ничего не известно. Поэтому приготовился ждать. Потом веки сами сомкнулись. Чтобы, как мне казалось, через мгновение разомкнуться снова.
Я услышал скрип входной двери. Другие не услышали, поскольку ни о чем еще не подозревали. «Политический» барак крепко спал. Время здесь остановилось, ведь мы измеряли его от подъема до отбоя. Я проснулся от этого звука, потому что чего-то напряженно ждал. Вот и отлетел сон. Его место занял страх. Не тот, лагерный, к которому привыкаешь.
Это было липкое предчувствие близкой и неминуемой смерти.
5
Глаза мои давно привыкли к темноте. Не только тут, в бараке: большую часть года здешние северные ночи держались дольше, чем дни. Поэтому вследствие длительного проживания в условиях ночи человеческое зрение приспосабливалось. Кое-кто из политических, тех, кто умудрился прожить здесь свыше пяти лет, приучился видеть в темноте, как кот.
Рассмотреть тех, кто проскользнул в барак, удалось не сразу. Понял только: в кого бы ни материализовались эти темные фигуры, они пришли убивать. И двигались как раз в мою сторону. Даже не так — они надвигались на меня.
Вспоминаю, что в ту ночь, застыв на нарах с полуприкрытыми глазами, я не чувствовал своего скованного ужасом тела, но сознание работало на полную. Не решаясь ни одним движением выдать себя, я тем не менее с каким-то странным для меня самого спокойствием посчитал двигавшиеся тени. Их было десятеро, и в движении они выстроились в боевом порядке, рассредоточившись по всему бараку. Они как будто заполонили собой барак через какое-то короткое мгновение и заняли проход, не оставив шанса выскользнуть для тех, кто вдруг отчаянно решил бы это сделать.
Первая фигура, которая двигалась крадущимися шагами хищника, была уже близко. Теперь даже из-под полуопущенных век я рассмотрел лицо Саввы Зубанова. Скользнув взглядом ниже, увидел в его правом кулаке короткую заточенную железку — пику. Мозг работал на полную катушку, и я достаточно легко сложил два и два: Зубок и другие суки пришли среди ночи не за мной.
На месте, где сейчас лежал я, раньше спал Данила Червоный. И Зубок это знал, так как уверенно подходил именно сюда.
Значит, отметил я для себя, кто-то из нашего барака поддерживает связь с «ссученной» командой. А суки, в свою очередь, имеют возможность свободно передвигаться по территории зоны ночью, поскольку на их дела лагерная администрация по большей части закрывает глаза, ведь они работают в одной спайке. То есть информаторы рядом с нами все-таки есть и если не напрямую передают сведения сукам, то через оперативную часть лагеря точно.
Почему в то мгновение думал именно об этом — сейчас не скажу. Зато точно помню, какой была следующая мысль: мое место в бараке — ближе к двери, и сейчас Червоный лежит за спинами Зубка и его банды убийц. То есть у них в тылу. Значит, бандеровец либо знал, что так получится, либо очень быстро «прокачал» ситуацию и предпринял тактические шаги. Остается понять, подставляет ли этот бандюга меня под ножи уголовников или…
От осознания того, что Червоный послал меня на смерть вместо себя, а я подчинился, из головы вылетели вдруг все мысли, кроме одной: сейчас меня зарежут, как свинью. Захотелось кричать, заявить об ошибке, попробовать хоть так спастись от неминуемой гибели. Но вряд ли Зубка и его сообщников остановило бы то, что в катавасии попадет под горячую руку случайный человек. Один или несколько. Тем не менее я уже собрался кричать.
Но не успел.
Тяжелую тишину барака вдруг всколыхнул громкий выкрик:
— ХЛОПЦЫ!
Это Данила Червоный крикнул из-за сучьих спин. От неожиданности Зубок, который стоял в двух шагах от меня и даже примерялся ударить, застыл, согнул колени, приседая, и резко обернулся на голос. Никто из ночных визитеров не готовился к организованной встрече — бандеровцам удалось-таки застать их врасплох.
Со своего места я только успел увидеть, как на вооруженных заточками сук с разных сторон дружно кинулись бандеровцы. Они навалились все вместе и сразу, действовали молча и слаженно. Рукопашная началась стремительно, шум борьбы разбудил всех, пространство барака мгновенно заполнили крики — удивления, страха, боли.
Оцепенение вмиг отпустило, и я сбросил свое тело с нар на пол. Но желание лезть под нары, чтобы не участвовать в чужой войне, вдруг пропало. Поднявшись на ноги, я замер, пытаясь понять, что происходит в проходе. Я не хотел становиться ни на сторону сук, которых привел сюда мародер и насильник Зубанов, ни на сторону националистов, к которым примкнули численно уступавшие прибалты, я впервые за годы тюрем, пересылок и лагерного выживания ощутил острую потребность что-то сделать. Почувствовать себя опять человеком, способным огрызаться.
В конце концов, суки пришли ко мне в дом, каким бы этот дом сейчас ни был. Пускай сегодня они пришли за жизнями бандеровцев, но где гарантия, что завтра они так же свободно среди ночи не придут за кем-нибудь другим. За мной, например… Кулаки сжались непроизвольно, и я сделал шаг вперед, выдвигаясь в проход между нарами. Туда, где драка была в разгаре. Я видел, как передо мной бандеровец Лютый голыми руками ломал вооруженного пикой суку, крпко обхватив врага. Чуть дальше двое других, украинец и литовец, сосредоточенно пинали кого-то, сбитого с ног. Разобрать, кто есть кто, было трудно, и мне даже показалось: бандеровцев и «лесных братьев» значительно больше, чем сук, так что у последних не оставалось шансов, хотя против них были безоружные и бесправные зеки.
Я не сомневался — на крики охрана не прибежит. Похоже, у вертухаев был приказ не реагировать на шум в «политическом» бараке. Но если это не остановят часовые — то этого не остановит никто: тишину распороли первые крики боли — так кричат раненые. В следующее мгновение прямо на меня из кучи бойцов выпал согнутый пополам человек. Он держался за лицо, сквозь пальцы текла кровь. Раненый не удержался, опустился на колени — и тут же над ним завис разъяренный бандит, замахнувшись заточкой и собираясь добить врага.
У меня сработали давно забытые рефлексы — резко бросился наперерез, перехватил занесенную руку и вложил всю оставшуюся силу в удар, нацеленный в лицо. Кулак врезался в острый подбородок, послышалось клацанье челюсти, сука зарычал, развернулся ко мне, легко освободил руку и ударил в ответ.
От первого выпада я уклонился инстинктивно, сделав шаг в сторону, и опять попробовал ударить, но во второй раз бандит прицелился лучше — и боль обожгла левый бок. Я закричал, отшатнулся, схватился за рану, почувствовав липкую кровь. Третьим ударом меня собирались добить, но вдруг за спиной убийцы выросла высокая худощавая фигура. Я узнал Червоного.
Резко развернув суку за плечо к себе, бандеровец, коротко замахнувшись, рубанул его ребром ладони, метя в горло. Но тот дернулся, и удар пришелся на ключицу, рука с ножом опустилась, и Червоный вывернул суке руку, причиняя боль и вынуждая уронить оружие на пол.
Схватка увлекла бандеровца, и он не заметил стремительного нападения сзади. Я предупредил его выкриком. Похоже, это спасло ему жизнь — пика, которая могла проткнуть спину, скользнула по правому боку. Червоный пошатнулся, не удержался на ногах, споткнулся о раненого и упал. Я снова разглядел Зубка — это он собрался добить Данилу, но не успел. На него навалились двое, сбили, и он проворно пополз под нары — только так смог спастись.
Вот теперь снаружи заревела сирена. Даже если так и планировалось, уголовники имели возможность убежать из нашего барака раньше, до появления охранников во главе с капитаном Бородиным. Для меня и, думаю, для других все вокруг закрутилось, поэтому, сидя на полу и опершись спиной о нары, я не зафиксировал четко, когда именно побежали из барака суки, а когда налетели вертухаи.
Пространство барака вмиг наполнилось светом их фонариков. Его оказалось достаточно, чтобы увидеть разгром, вызванный короткой кровавой схваткой, и понять: никого из напавших здесь нет. Вдоль нар с обеих сторон прохода выстроились по приказу Бородина зеки. Кроме раненых. Тот, кого ударили в лицо, лежал дальше на полу, впоследствии я узнал, что это литовец Томас, в драке ему выкололи глаз. А я стоял рядом с Червоным, мы даже поддерживали друг друга, каждый держась за окровавленный бок. Правда, я дернулся стать со всеми в строй, но Червоный, слегка стиснув мое плечо, не дал этого сделать.
— Что тут такое? — рявкнул «кум», ослепляя меня электрическим лучом. — Осужденный Гуров, какого хрена здесь происходит? Подрались? Чего не поделили? Оружие где, мать вашу, враги народа долбаные!
— Своему народу я не враг, — процедил сквозь зубы бандеровец, и как раз тогда я впервые услышал от него такие странные и не до конца понятные мне слова.
— Это кто там у нас? — луч переместился на Червоного. — Ага, фашистский пособник? Не поделил что-то с советским танкистом, морда бандеровская?
— На нас напали, гражданин капитан, — выдавил я из себя.
— Напали на них… Кто тут такой борзый, а? Молчим? В молчанку играем, Гуров?
Но начальник оперативной части уже сам понимал — что-то не сработало, и он увидел точно не то, чего ожидал. В его полной информированности насчет того, кто приходил сюда ночью и с какой целью, я уже не сомневался. Теперь перед ним была другая проблема: трое раненых. Даже по здешним правилам всех троих следовало поместить в больничку, а уже потом — разбираться. Если бы таких, как мы, можно было просто застрелить на месте, на глазах у таких же бесправных зеков, это сделали бы уже давно. Однако для лагерной администрации даже бандеровцы — прежде всего рабочие руки, и добывать воркутинский уголь они должны до последнего.
— Разберемся, — отчеканил Бородин, отводя луч и пробегая им по шеренгам доходяг. — Во всем разберемся. И накажем. Вы, — кивок в нашу сторону, — в медицинский блок… Пока что. Вижу, ковыляете. Так что сами доползете. Его заберите. — Кивок на Томаса. — Всем остальным — спать! Услышу еще хоть писк до утра — разбираться не буду. Десять доходяг в ШИЗО, давно оно по вам плачет! Профилактика… бля…
Это он произнес, уже двигаясь к выходу. Все-таки не сдержался: остановился около первого попавшегося зека, приказал сделать шаг вперед, обвел тяжелым взглядом, без замаха влупил в солнечное сплетение, удовлетворенно посмотрел, как тот сгибается от боли, и наконец оставил нас в покое.
6
Прибалту Томасу повезло меньше, чем нам, — он все-таки потерял глаз.
Хотя он и увидел в этом определенную выгоду: теперь его держали в санчасти, давали «больничную» пайку — чуть больше хлеба, кашу и мерзлую свеклу, и, по большому счету, не имели права использовать для работ в шахте. Из моего опыта, выздоровлением раненого в лагерях считается момент, когда у него перестает идти кровь из раны. Но все равно какое-то время ему не найдут другой работы, кроме как санитаром.
Наша с Червоным ситуация оказалась лучше. Меня приголубили ножом не очень сильно, его — немного серьезнее, пришлось даже зашивать. Однако более чем десять дней никто нас с такими ранениями не держал на больничной койке с относительно свежими, зато всегда выстиранными простынями.
Конечно, в том, что произошло ночью, никто особенно не разбирался. Нас по очереди допросили под протокол, и я почему-то решил не называть «куму» Савву Зубка. Ни с кем об этом не договаривался — решение последовало из нежелания всех других участников стычки называть вообще хоть кого-то. Общее «не знаю», полная несознанка бандеровцев и прибалтов передалась и мне, так что я давил на другое: случайно попал в эту кашу. В принципе, такие ситуации отвечали действительности. Вряд ли я мог вступить в какой-то сговор с националистами, да и Бородин с Абрамовым хорошо изучили меня и, соответственно, мое нежелание влезать в чужие разборки по доброй воле.
Впоследствии я понял нежелание бандеровцев пересказывать в оперативной части лагеря истинное развитие событий. Во-первых, это означало сотрудничество с администрацией, с коммунистами, чего Червоный и другие позволить себе не могли. Во-вторых, они сделали выводы, и результаты этого не только я, а и вся зона увидели довольно скоро. Пока же мы лежали на соседних койках. Так и началось наше более тесное знакомство.
И хотя мы с бандеровцем дрались плечо к плечу в темноте, мне все равно не хотелось вступать с ним в более тесный контакт. Червоный начал первым, спросив на следующий же день, когда меня отпустили с допроса в больничную палату:
— Тебя как зовут?
— Виктор, — ответил я удивленно, так как почему-то считал: Даниле мое имя уже известно.
— Откуда ты?
— Ленинград.
— За что здесь? — это уже смахивало на допрос.
— Тебе какое дело? — невольно огрызнулся я.