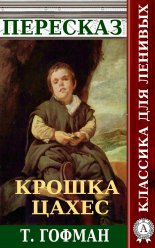Жена авиатора Бенджамин Мелани

– Нет, совсем нет. – Я не могла заставить себя встретиться с ним взглядом, чтобы он не заметил, какой я чувствую себя виноватой и несчастной. Ведь он построил мне такой милый домик, твердо уверенный, что я буду здесь заниматься писательством, а я до сих пор так ничего и не сделала, только мечтала, делала записи в дневнике, плакала и читала романы. Дрянные романы, говоря по правде. По непонятной причине глубокая, наполненная поэзией литература, которую я любила раньше – Сервантес, Джойс, Пруст, – теперь утомляла меня. Неужели с потерей привлекательности я еще и поглупела? Вместо серьезных книг я поглощала популярное чтиво. Книга, которую я спрятала от Чарльза, был последний роман Кэтлин Винсор. Хотя он даже рядом не стоял с «Навеки твоя, Эмбер».
– Тебе нравится этот домик?
Чарльзу пришлось наклонить голову, чтобы пройти в дверь. Не подумав, он сделал ее только под мой небольшой рост. Окна были низкими, крыша тоже. Он едва мог выпрямиться внутри. Его голова, которая теперь стала совсем седой, лишь с проблесками золотисто-рыжих прядей, почти доставала потолка.
– Да, очень. Я тебе очень благодарна.
В отличие от других подарков Чарльза, вроде мотоцикла, на котором он хотел научить меня кататься, забыв, что у меня проблемы с равновесием, поэтому я не могла кататься даже на велосипеде, этот домик оставался символом его заботы обо мне, и то, что я не использовала его по назначению, было только моей виной, а не его. Он ведь только убеждал, а не настаивал. Возможна, я была слишком чувствительна к его критике. Предоставленная самой себе, я не слишком-то преуспела в своих занятиях. Несмотря на располагающую обстановку, тишину и покой – казалось, даже бревна, сделанные из старых лиственниц, были согласны ждать, пока я не соберусь с силами, – я чувствовала себя виноватой каждый раз, когда переступала порог этого домика. Я не сделала ничего, достойного такого подарка, только писала списки продуктов, которые надо было купить слугам. И читала скверные романы.
– Я хочу поговорить об одном особенном проекте. Том самом, о котором я говорил тебе, когда звонил на прошлой неделе, – Чарльз пододвинул стул. В его руках было три толстые тетради, – я делал кое-какие наброски, ты знаешь. Это описание моего перелета через Атлантику. – Покраснев, он выглянул из окна, потом осторожно положил тетради мне на колени.
– Но ведь ты написал об этом еще в двадцать седьмом году, не так ли?
– А, это, – Чарльз фыркнул и так сильно откинулся на стуле, что тот заскрипел, – я бы предпочел вообще забыть об этом. Издатель заплатил мне кругленькую сумму, чтобы я провел уик-энд в отеле и записал свой перелет, а настоящий писатель потом это обработал. Я был тогда еще таким зеленым. Это произошло сразу после моего возвращения в Америку. Меня тогда просто рвали на части: надо было поехать туда-то, выступить там-то, я еще не научился говорить «нет». Но то изложение не отражало всей правды. Только сейчас, оглядываясь назад, я могу увидеть того молодого человека, увидеть, какие на самом деле были случайности, опасности, понять всю важность того перелета. Я долго работал над этим, начал еще до войны, когда мы были в Англии.
– Ты начал писать еще в Англии?
Это был удар ниже пояса, как будто меня предали. Как он мог среди всех этих дел – полетов, участия в различных комитетах, войны, наконец, выкроить время для своих записок? Когда мне, которая всего лишь вынашивала и воспитывала детей, было так трудно писать про что-то другое, кроме рутинных подробностей моей ежедневной жизни?
Еще одно подтверждение того, что я всего лишь его тень.
С большим трудом я удержалась, чтобы не швырнуть его записные книжки на пол.
– И чего ты хочешь от меня? – спросила я вместо этого, открыв одну из них; почерк Чарльза заполнял каждую страницу. На всех полях были пометки, маленькие стрелки указывали на текст.
– Стань снова моей командой, – проговорил он негромко, – ведь это ты писатель в нашей семье. – Я вздрогнула при этих словах, но он не заметил. – «На север к Востоку», письма, которые ты писала во время войны, – в них была поэзия, так же, как и во всем, что ты пишешь. Это не значит, что я хочу, чтобы ты совсем переписала мои заметки, просто помоги мне придать им литературную форму – постарайся сделать это более занимательным, чем простое изложение фактов и цифр. Я хочу, чтобы это была настоящая книга, а не сумбурный отчет о проделанной работе. Ты единственный человек, который может сделать его таким.
Я молча листала страницы, не в состоянии сосредоточиться, и думала лишь о разных побудительных мотивах мужчин и женщин. Почему я не смогла найти время написать мою великую книгу? Потому, что он сослал меня сюда, в Коннектикут, чтобы я присматривала за его детьми, пока он бороздит небеса всех стран света, занимается своей работой – восстанавливает былой имидж, поняла я с поразительной ясностью, вспомнив его недавние фото и многочисленные интервью, которые он в последнее время давал журналистам. А теперь еще эти воспоминания. Почему именно теперь?
Потому что через два года наступит двадцать пятая годовщина его перелета через Атлантику. Чарльз Линдберг не был глупцом.
Я смотрела на мужа, наклонившегося вперед в кресле. Его руки нервно сжимали колени, в глазах были мольба и нежность, которую я не видела так давно, и я почувствовала себя беспомощной, как всегда в его присутствии. Бывали ночи, когда я мечтала о наших первых полетах, о той близости, уверенности друг в друге. Просыпаясь в своей одинокой постели, я прижимала к груди его подушку. Бывали ночи, когда ярость покинутой женщины поднималась так мощно, что я не могла ни спать, ни думать. Я, как дикарка с всклокоченными волосами, вставала, бродила по террасе и курила, поскольку он не мог мне этого запретить, хотя в нормальном состоянии я не имела такой привычки.
Но, увидев его потребность во мне – чудо, мираж, который мог исчезнуть в любую минуту, – я поняла, что у меня нет другого выбора. В конце концов, я была женой авиатора. Я сделала этот выбор раз и навсегда, еще до войны.
– Какой у тебя план? – Я была уверена, что он у него есть.
Его лицо прояснилось. Он улыбнулся и одобрительно сжал мою руку.
– Хорошая девочка. В общем, я подумал, что тебе надо будет просмотреть мои записки и сделать некую обработку. Потом я просмотрю и включу твои замечания, потом ты… и так далее. Есть несколько издателей, которые заинтересованы в публикации, – я прозондировал почву. Я не был вполне уверен, что кого-то это заинтересует после… в общем, при моей репутации в определенных кругах. Ты ведь знаешь этих евреев-издетелей, – он нахмурился и стал вертеть карандаш в своих длинных пальцах, – я теперь понял, что действовал опрометчиво. Я действительно тогда верил в то, что говорил. Но людям свойственно меняться. Я тоже изменился. Правда, не уверен, что публика поверит в то, что я изменился. Но я надеюсь, что книга мне в этом поможет.
На его лбу появились морщины, теперь его путь явно не был таким прямым, как раньше. Он думал только о себе и своей репутации; ему никогда не приходило в голову позаботиться о моей, даже после того, как он увидел вред, нанесенный ей моим эссе.
Но правда состояла в том, что публика не ждала, затаив дыхание, моих объяснений. Я была принята обратно в свои прежние круги, лишь за спиной раздавался шепот, что я послушная игрушка в руках Чарльза в этом «неудачном деле». Кто теперь поверит, что покорная жена может поступать самостоятельно?
Гнев, раздражение, боль. Я была переполнена всем эти последние дни. Подавляя одно горькое чувство, я чувствовала, что его место немедленно занимает другое. Горечь, страх, тревога, иногда радость. Но гнев – это было что-то новое, и он пугал меня. Однако я начала понимать, что он также мог быть и возбуждающим.
Проглотив эту последнюю обиду, я положила тетради на стол.
– Хорошо. Когда тебе нужна моя правка?
– Завтра я должен лететь в Берлин по заданию Пан Ам. Вернусь через месяц.
– Месяц? Тебя не будет целый месяц?
Во мне поднялась волна гнева, и я выругалась про себя, потому что он опять делал это так неожиданно, что заставлял меня скучать по нему.
– Да. У тебя будет достаточно времени, не так ли?
– Надеюсь. Джон сможет возить девочек на уроки фортепиано, и если Лэнд не пойдет этой весной на баскетбол, тогда я не должна буду…
– Энн, – Чарльз взял меня за руку, – перестань. Я не хочу слышать всего этого. Ты должна успеть. Ты всегда успевала.
Я отвела его руку.
– Это не так просто, как ты думаешь. Ты не знаешь, потому что тебя здесь никогда не бывает. Ты уверен, что я должна все сделать, хотя на самом деле просто не понимаешь…
– Я так считаю, потому что ты всегда все успеваешь – это надо воспринимать как комплимент, – сказал он мягко.
И я поняла, что он решил, что уговорил меня.
Но так ли это?
Мне бы хотелось, чтобы так оно и было. Я боялась спугнуть эти чары, редкие мгновения, когда мы оба вращались на одной орбите, по-прежнему разделяли одни и те же взгляды. Я заставила себя поверить, что это так. Я заставила себя выдавить на лице улыбку, когда он покидал домик, а потом открыла первую страницу первой записной книжки.
И начала читать.
О, почему я не знала этого парня, двадцатисемилетнего храбреца, чистого, простого и неиспорченного? Когда я встретила его, он был уже по другую сторону океана, уже знал свое место в учебниках истории.
Каким-то образом Чарльз нашел способ избавиться от наслоений ожиданий и разочарований, которые годы и мир навязывали ему, и снова обрести сердце и голос того юноши, которым был когда-то. Не понимаю, как ему удалось это сделать. Я знала, что никогда бы не смогла снова воскресить прежнюю непосредственность, веру в добро и справедливость. Похищение сына навсегда изменило меня. Наконец-то я поняла, почему у меня возникали такие трудности с написанием моей книги. Потому что я до сих пор не понимала ту молодую девушку, которая с идиотской улыбкой позировала фотографам до «событий 32-го года». Я никогда не могла понять ее, как ни старалась.
Но, описывая самое выдающееся событие своей жизни, Чарльз Линдберг нашел способ вернуться, почти как герой романа Г. Дж. Уэллса.
С поэтичной простотой, больше соответствовавшей тому сельскому парню, которым он был, чем потускневшему божеству, которым стал теперь, Чарльз писал об опасностях, подстерегавших его, когда он готовился к своему историческому полету, о том, как трудно было найти спонсоров, о насмешках знатоков, когда он, простой сельский парень, привез домой величайший приз, какой только мог получить авиатор. Он описывал многочасовые перелеты по стране, которой теперь больше не было – стране коровников, пыльных дорог и малочисленных телефонных столбов, где люди выбегали из домов, чтобы подивиться на странную машину, летящую по воздуху на высоте всего лишь нескольких сотен футов. Он писал о часах, которые провел, изучая подробности этих полетов, о заметках, написанных впопыхах на оборотной стороне карт и квитанций.
А потом и о самом полете – Чарльз создал шедевр приключенческого романа. Читатель следил за действием, затаив дыхание, хотя результат был известен. И приземление, когда оно совершилось, – взрыв радости, а в центре всего – молодой парень, ошеломленный, но все еще столь сосредоточенный на своем полете, что не хотел выходить из самолета и его пришлось чуть не силой извлекать оттуда по распоряжению мэра Парижа.
Талант заставил его закончить повествование на этом месте – за мгновение до того, как он понял, что теперь весь мир ворвался в его кабину. За мгновение до того, как он начал подозревать, что существует наказание для тех, кто осмеливается мечтать так масштабно, летать так высоко.
Я испытала потрясение, прочитав его записки, – потрясение и зависть. Несмотря на то что они были не обработаны и имелись пробелы в повествовании, как раз перед началом полета; у меня появились мысли, как их заполнить.
И мы начали совместную работу, в первый раз за много лет, хотя редко бывали теперь вместе. Когда он уезжал, я читала его замечания к написанному мною тексту, делала на них свои замечания и заполняла пустоты. Когда он возвращался, то брал с собой рукопись, исправленную мною, и работал над ней в пути. Потом он давал мне свой следующий вариант, и так далее; мы писали в тандеме, так же как летали когда-то.
Я видела, что он вкладывал в страницы всю душу. Самолет «Дух Сент-Луиса» был его настоящей любовью. Он говорил о нем с неподдельным горем, с сожалением, как о давно утраченном любимом человеке, и мне приходилось корректировать эту единственную часть повествования, которая не звучала естественно. Он верил этой машине, как никогда не доверял никому из людей. Включая и меня.
Меня удивляло, что его воспоминания были написаны гораздо откровеннее и непосредственнее, чем все остальное, включая его предвоенные речи. И я сделала заключение – так случилось потому, что он писал о машине. Все остальное касалось людей и идей – а у Чарльза всегда были проблемы с их пониманием.
Те дни, когда мы работали вместе над книгой, которая должна была быть названа просто «Дух Сент-Луиса»; замечания, которые постоянно то появлялись, то отпадали; вечера, когда работа близилась к концу, когда мы сидели рядом в моем домике, предоставив детей самим себе, были лучшими днями нашего брака. Он позволил себе быть ведомым. Я позволила себе надеяться, еще раз, что мы можем быть вместе на этой земле, иметь одни цели, одни радости, нежность и незащищенность.
Он посвятил эту книгу мне.
«Э. М.-Л. – которая никогда не узнает, как много в этой книге написала она».
Когда я прочла эти слова, мое сердце воспарило, как звезды на обложке. Чарльз очень редко упоминал обо мне в печати, в основном отвечая на вопросы интервьюеров, почему он на мне женился. Чарльз обычно отвечал, что ему было важно выбрать супругу из хорошей семьи. Как племенную кобылу.
Я приходила в бешенство, читая эти ответы, хотя он всегда отвечал, что это только шутка.
Теперь он в первый раз позволил миру увидеть, что я значу для него. Для меня это тоже кое-что значило – больше, чем если бы он был обычным человеком. Он был Чарльзом Линдбергом, раз и навсегда, а я чувствовала себя как старый биплан, который оставили ржаветь в сарае. Когда-то он считался чудом техники, но со временем был забыт и заброшен.
И теперь об этом биплане вспомнили, стерли пыль, подновили… Старомодный, да, но все еще готовый бороздить небеса.
В первый год был продан миллион экземпляров книги. Голливуд купил права, и несколько староватый для этой роли Джимми Стюарт[35]сыграл в фильме Чарльза (мы взяли Рив на показ в Радио Сити Мюзик-холл; посреди фильма она повернулась ко мне с расширенными глазами и прошептала: «Он изображает это, да?»). Репортер из журнала «Лайф» посетил наш дом и сфотографировал нас обоих рядышком на диване, читающих книгу. «Миссис Линдберг, как всегда преданная мужу, поддерживает его последние начинания» – гласил заголовок. Успех книги открыл двери потоку наград и похвальных отзывов. Америка, казалось, нуждалась в героях больше, чем в преступниках, и желала, чтобы все плохое осталось в прошлом. Президент Эйзенхауэр наградил Чарльза медалью за военную храбрость. Опять в каждом городе появилась начальная школа имени Чарльза Линдберга.
Я ослепительно улыбалась фотографам, стоя рядом с Чарльзом, когда ему сообщили, что он получил Пулитцеровскую премию.
Моя улыбка увяла, однако, когда он забыл поблагодарить меня, вместо этого поблагодарив братьев Райт.
Она исчезла окончательно, когда ему был предложен контракт на другую книгу.
Зависть – ужасное чувство. Оно заставляет вас просыпаться посреди ночи, требует огромного количества энергии, чтобы просто оставаться на плаву. Вам необходимо удовлетворять ее, поэтому постоянно нужно доказывать, что вы тоже чего-то стоите. Она меняет вас. Меняет ваш взгляд на мир, незначительные неудачи внезапно приобретают размах катастроф; празднования становятся испытаниями.
Я гордилась Чарльзом. Он сделал это – это была его история, и он изложил ее великолепно. Неважно, сколько времени я работала над ней, все равно она принадлежала ему.
И я снова ушла в тень, на этот раз не получая удовлетворения от своей незаметности. Я недоумевала, что во мне не так, что удерживает меня здесь, что препятствует мне писать мою книгу. Неужели мне нечего написать о своей жизни, той, которая не являлась бы отражением его истории и не имела бы никакого отношения к нашим полетам и его участию в политике.
В нашей семье писатель – ты, всегда говорил Чарльз, он даже построил мне домик для моих занятий творчеством, хотя не было никаких реальных доказательств моих возможностей, кроме туманных мечтаний и моего классического образования.
И я всегда держалась за это, благодарная, что есть хоть что-то, что я делаю лучше его – по крайней мере он так считает. Я больше не могу заниматься самообманом. В нашей семье писателем был он.
Таким горьким был постоянный привкус поражения, таким узким мое воображение, что я решила спастись бегством. В место, которое всегда пробуждало во мне мои лучшие качества.
Я сбежала во Флориду, на остров Каптива – в лечебную, благотворно влияющую на нервы дикую местность, которую мы с Чарльзом обнаружили перед войной, когда наш друг Джим Ньютон убедил нас приехать посмотреть этот девственный остров недалеко от побережья Флориды. С тех пор я приезжала туда несколько раз, иногда с Чарльзом, иногда со своей сестрой Кон.
Теперь я прилетела сюда одна. Мне нужно было снова обрести смелость, свою собственную, чтобы перестать занимать у него. Я должна была обрести свой голос и перестать повторять его слова, как эхо. Я должна была найти свою собственную историю. И рассказать ее. И даже если я потерплю поражение, то все равно стану сильнее от этой попытки.
Я сложила дорожную сумку, купила бумагу и карандаши, поцеловала детей и попросила Чарльза отвезти меня на вокзал.
Он на прощание только помахал мне рукой – единственный жест, который мог позволить себе на публике. Но сказал, что я поступаю правильно. Он произнес это тем же тоном, как однажды сказал, что я смогу научиться управлять самолетом, выучить азбуку Морзе и находить путь по звездам.
Часть моей зависти испарилась уже тогда, потому что я понимала – это не пустые слова. Он всегда знал, что я могу сделать больше, чем предполагаю. Он всегда подталкивал меня к этому, хотя иногда перебарщивал в своих попытках.
Я помахала ему в ответ, потом села в поезд. Итак, я направлялась во Флориду, в ветхий прибрежный коттедж. Без понятия, когда вернусь назад. Я знала только то, что ради нас обоих, ради наших детей я должна вернуться со своей собственной историей.
Глава семнадцатая
Однажды, когда ей было около десяти, Энси вошла в кухню, держа в руке конверт. Это был один из тех дней, когда каждое устройство в доме пыталось объявить мне забастовку. Раковина снова засорилась, стиральная машина начала барахлить, тостер непонятным образом сжигал одну сторону тоста, оставляя другую белой и мягкой. Взбунтовались даже часы, их мелодия внезапно как будто выдохлась и приобрела металлический отзвук.
Я суетилась, звала рабочих, вытирала воду и останавливалась перед часами через каждые пятнадцать минут, как будто могла починить их силой собственного взгляда. На мне было домашнее платье, фартук, носки и кожаные тапочки. Уже несколько месяцев я не ходила к парикмахеру из-за отсутствия времени. Я просто мыла голову, кое-как закалывала волосы и стала похожа на официантку в придорожном кафе.
– Мама, это тебе? – спросила Энси, суя мне конверт.
На нем было написано «Энн Линдберг».
– Конечно, – ответила я в спешке, – ты уже большая девочка. Ты можешь прочесть.
– Значит, это тоже твое? – Она вытащила из кармана маленькую желтую карточку и начала читать: – «Настоящим удостоверяется, что Энн Линдберг успешно выполнила все задания по пилотированию самолета для личного употребления».
– Где ты это нашла? – Я опустила таз с мокрыми полотенцами, который держала в руках. Взяв карточку, я увидела, что это моя лицензия на управление самолетом. – Я думала, твой папа куда-то ее запрятал.
– Так и есть, – весело ответила Энси, – она лежала в его письменном столе.
– Ты ведь знаешь – нельзя рыться в его вещах. Энн, если он узнает, то…
– Не беспокойся. Я очень осторожна, не оставляю никаких улик, вроде отпечатков пальцев. Видишь?
Она подняла руки. На них были белые матерчатые перчатки, обычно надеваемые в церковь.
Мне пришлось улыбнуться. Моя золотоволосая дочурка – вылитый портрет Хайди, проходила через фазу Нэнси Дрю.
– Понятно. Пожалуйста, положи это обратно и больше не ройся в его вещах. Пожалуйста. Ты ведь знаешь, как он к этому относится.
– Знаю. Но, мама, это правда твое?
И она рассмеялась.
– Правда. Почему ты смеешься?
– Ну, потому что… Ты пилот! Такой же, как папа?
– Нет, не совсем как папа, потому что… потому что он – папа! Но после того как мы поженились, я выучилась летать. Ты ведь знаешь о том, как мы летали на Восток и все такое.
– Нет, нет, мама, не знаю, – глаза Энси расширились, и она перестала смеяться, – ты никогда мне не рассказывала.
– Ну, ты, наверное, слышала это от учителя, когда проходила материал о полетах папы.
– Нет, в книгах написано только о нем одном.
– Я летала вместе с ним в качестве второго пилота. Мы вместе совершили некоторые очень важные полеты. Оказалось, что я стала первой женщиной – профессиональным пилотом в Соединенных Штатах.
Я не знала, на кого мне сердиться – на историков или на себя, за то, что никогда не рассказывала об этой части моей жизни своим детям.
– Как странно думать о тебе как о пилоте! – Энси продолжала весело смеяться. – Ты ведь мама! Папа – пилот, он герой. А ты заботишься о нас, о доме. Но представить тебя высоко в воздухе, в маленьком самолете…
– У меня и был такой – собственный маленький самолет. Маленький «Куртис». Его купил мне твой папа, хотя большей частью мы летали с ним на его самолете, который был больше. Мой был одноместный. Мы оставили его здесь, когда переехали в Европу, – припоминая, я опустилась на стул, – у Гуггенхаймов. Думаю, что он до сих пор у них. После возвращения домой я никогда не летала на нем. У меня тогда родились мальчики, а вскоре появилась ты. Потом началась война, и Скотт, Рив, и…
– Когда ты летала в последний раз?
Энси сидела на полу, скрестив ноги, и смотрела на меня.
– Я и не вспомню. Правда, не помню. Папа ведь тоже теперь редко летает – большей частью это коммерческие перелеты. Правда, он совершает учебные вылеты на военных самолетах и, кроме того, как ты знаешь, иногда катает вас. Но это совсем не то, что было раньше, когда мы были первопроходцами. Мы летали по всей стране, нанося на карту маршруты, которыми теперь пользуются все коммерческие авиалинии. Нам ничего не стоило прыгнуть в самолет, чтобы долететь до Вашингтона или до Новой Англии – так люди сегодня садятся в свои автомобили. Это была наша работа. Мы летали.
– Нет, я спрашиваю, когда ты в последний раз летала одна?
– Не помню – возможно, это было в Англии. Там я пару раз летала одна. Англия очень красива, если смотреть на нее с высоты.
Ярко-зеленые болотистые равнины, опрятные маленькие домики и удивительно ровные ряды изгородей, покрывшие весь остров аккуратным рисунком. Вспомнилось все.
– Как думаешь, ты могла бы подняться в воздух сегодня? Помнишь, как это делается?
– Не знаю. Думаю, это зависело бы от самолета.
Смогу ли я? Я закрыла глаза, вспоминая предполетную памятку, сопротивление рычага управления моей руке, когда я поднимала самолет в воздух; маленький «Куртис» был очень чувствительным. Не то что большой самолет, «Сириус». Это был инстинкт – способность чувствовать самолет, понимать его тенденцию накреняться вправо или влево, знать, как лететь в потоках воздуха.
Теперь мои инстинкты были сосредоточены на том, хватит ли у нас молока до конца недели, как зажечь горелку под бойлером в подвале без риска взорваться, как распознать разбитые сердца и нелепые увлечения, неизбежные в доме, полном подростков.
– Сомневаюсь, – призналась я дочке, которая все еще сидела, слушая меня с несвойственным ей вниманием. Изо всех моих детей она единственная знала безошибочно, на какие мои кнопки надо нажимать, – тем более с новым радаром – у нас таких не было. И не было диспетчерских вышек. И, конечно, не было всех этих самолетов в небе, больших пассажирских самолетов. Тогда времена были проще.
– Но тогда было страшнее. Ты была очень храброй, мама.
– А теперь, думаешь, я не такая? – Я скосила глаза на Энси, которая снова рассмеялась.
– Мама! Ты начинаешь верещать при виде мышки! – Все еще смеясь, она вскочила с пола, взяла мои летные права и осторожно положила их в конверт. – Это все же довольно странно. То есть это ведь было так давно. Теперь ты просто мама, и я могу представить тебя только такой. Вот и все.
Она вышла, беспечно насвистывая и не подозревая о том, как подействовали на меня ее слова.
Я никогда не забывала их. Для моих детей я была просто мама. И только. А до этого я была просто жена Чарльза, безутешная мать похищенного и убитого ребенка. И только.
Но до этого я была пилотом. Отважной женщиной. Ставила новые рекорды, но я забыла об этом. Стояла у истоков авиации – но теперь я безнадежно отстала. Рассекала небо на огромной высоте с такой же отвагой, как Счастливчик Линди, единственная в мире, кто мог летать наравне с ним.
Да, материнство опустило меня на землю и держало меня там щупальцами пеленок, детских слез, колыбельных песен, телефонных звонков и липких следов лака для волос, размазанных по всему умывальнику. Смогу ли я снова взлететь? Хватит ли у меня смелости?
А другая женщина на моем месте смогла бы?
Или мы существуем только тогда, когда на нас смотрят миллионы глаз? Неподдельное веселье моей дочери, когда она попыталась представить меня пилотом самолета, авиаторшей, летящей в одиночку над землей, никогда мне его не забыть. Я видела себя ее глазами, как я всегда видела себя глазами Чарльза. Даже глядя в зеркало, я не видела себя собственными глазами.
Но сделала это однажды вечером после пары стаканов дюбонне. Я зашла в ванную, уставилась в кривобокое зеркало над туалетным столиком и увидела себя – женщину с седеющими волосами, коротко постриженными, потому что у меня не было времени, чтобы тратить его на прически. Карие глаза, уголки которых смотрели вниз, всегда настороженные, старающиеся предугадать требования мужа. Оливковая кожа, теперь немного морщинистая, ставшая местами жесткой, несмотря на большие количества крема «Пондс», который я мазала толстым слоем, и все это из-за многолетних полетов в открытой кабине самолета так близко к солнцу. Строго сжатый рот, как будто оставляющий невысказанными какие-то слова, скрывающий горе и гнев. А может, и радость тоже?
Кто была эта женщина в зеркале, на которую возлагалось столько надежд?
Я была Матерью. Я была Женой. Я была Трагедией. Я была Пилотом. Они все были мной, а я – ими. Это была судьба, которой не можем избежать мы, женщины. В нас всегда чувствовали потребность там, где мужчины были не нужны. Но разве мы прежде всего не были женщинами? Разве именно в этом не заключалась наша сила, ясность и победа на всех стадиях женской жизни?
«Раковины». Это было заглавие, придуманное мною для серии эссе, мысль о которых посещала меня уже давно. Я хотела сравнить стадии женской жизни с различными раковинами. Все совершенные, все разные, каждая служит определенной цели, а все вместе они составляют одно великолепное пиршество.
Так и жизнь женщины, всегда меняющейся, приспосабливающейся, старые обязанности дополняя новыми, одни ожидания на другие, и, наконец, становящейся все сильнее. Совершеннее.
Я не закончила книгу во время этого отдыха; пришлось совершить несколько поездок на Каптиву в начале 1950-х, чтобы дописать ее, а также потом провести много месяцев сражений с окончательным текстом в моем писательском домике.
Каждый раз, перед тем как сесть за стол и начать писать, я закрывала глаза и читала молитву. И не останавливалась, пока не заканчивала восстанавливаться, дюйм за дюймом – жемчуг и раковины, призы, медали, ленты и церковные облатки. Глотая слезы, внезапно возникающие теперь, двадцать лет спустя, как прозрачные кристаллы горного хрусталя, я любовалась красотой солнца, сиявшего через легкую дымку, и испытывала благодарность судьбе.
Я работала с близорукой сосредоточенностью ремесленника, не спеша, не следуя предложению Чарльза ежедневно писать определенное количество слов, как делал он. Я не торопилась, прокладывая собственный путь, подбирала слова, искала образность. Я заново воссоздавала себя – мудрую, чуткую, уравновешенную женщину; я восстанавливала себя на странице, молясь, чтобы смочь воссоздать себя в жизни тоже. Зная, что, если смогу это сделать, это будет самый смелый поступок в моей жизни. Поскольку я знала своего мужа слишком хорошо. Знала, что он желает мне успеха, но только теоретически.
Практически ему было лучше, когда я оставалась слабой. Готовой смотреть на мир его глазами, а не своими собственными.
Как раз перед смертью мамы в 1954 г. я провела с ней день. Она перенесла инсульт, после которого не могла говорить, потеряла память, но за несколько дней до ухода у нее появились признаки чудесного выздоровления. В ее внезапно просветлевших карих глазах я снова увидела ясный ум, и мне так захотелось сказать ей что-то ободряющее, что у меня вырвалось: «Ты – моя героиня!»
– Энн? – Она повернула ко мне голову с кривой улыбкой, потому что двигалась только одна сторона ее лица.
– Я сказала, что ты моя героиня. Ты так мужественно перенесла смерть папы и Элизабет, ты воссоздала себя.
Мама нетерпеливо затрясла головой.
– Тебе надо… перестать искать героев, Энн, – ее речь была медленной, неотчетливой, но понятной, – только слабым нужны… идолы… а героям нужно… чтобы около них были слабые… Ты… не слабая.
Я запомнила эти слова. Знала, что это правда. Правда обо мне, правда о Чарльзе. Я вспоминала их во время работы – над рукописью и над собой. И над своим браком, скорее молитвой о своем браке, браке двух равных людей. С различным, но равно значимым видением мира. Глядящих не через одни и те же очки, но в одну сторону. Все время, пока я работала, я занималась воспитанием детей, пока однажды, к моему крайнему удивлению, они оба не закончили школу. И одновременно я вышла из своего домика, закончив книгу, мою книгу. Мой «Подарок моря».
Мне не терпелось показать ее остальному миру. Но главное – мне не терпелось показать ее моему мужу.
* * *
1974
За окном хижины ревет прибой. Я спешу закрыть двери и окна, чтобы заглушить этот рев. Потом возвращаюсь к его постели.
– Не понимаю! – Я стучу по матрасу, вынуждая его не засыпать, оставаться здесь. – Дом в Дарьене был твоей идеей. Дети – ведь это наши дети! Почему ты обращал на них внимание, только чтобы покритиковать? Ты ранил их тогда, ты ранишь их теперь. Не будем говорить обо мне. Как насчет Джона? Лэнда? Скотта? Девочек? Ты когда-нибудь задумывался, как они станут на это реагировать?
– Это не имеет никакого отношения к тебе и к ним. Ты – ты моя семья. Наши дети – мои наследники. Другие женщины – я не сказал бы, что они ничего не значили для меня. Но они были не ты.
– Сколько им лет?
– Не знаю. Они молоды – или были молодыми, когда мы познакомились.
– Моложе меня?
– Да.
– И ты поэтому их выбрал? Потому что они молоды, потому что они немки. – Мне хочется смеяться, но это слишком трагично. Неужели после стольких лет все опять возвращается? Человек, который тридцать лет старался изменить представление о себе и доказать, что он не нацист, имеет тайное любовное гнездышко в Германии? – Опять эта пресловутая господствующая раса – мне следовало об этом помнить! У меня недостаточно чистая кровь? Наши дети тоже не хороши для тебя?
– Энн, не впадай в истерику! – Чарльз кашляет, все его тело сотрясается от усилий, и я протягиваю ему стакан воды. Он пьет, его адамово яблоко, которое теперь сильно выдается вперед, с трудом движется вверх и вниз, и когда он машет рукой, я убираю воду. – Мужчина может бросать свое семя независимо от возраста. Только это я и делал. Я следовал своему инстинкту.
– Это типично мужской аргумент.
– Ты ведь сама говоришь, что была счастлива все эти годы, что никогда не нуждалась в ком-то другом, когда я отсутствовал?
Теперь он похож на прежнего Чарльза, уверенного, здорового, недосягаемого Чарльза. Его взгляд ясен и проникает прямо вглубь меня.
– Я никогда не хотела, чтобы ты уходил, – отвечаю я правдиво, не уклоняясь от его взгляда, но думаю о своей тайне.
И в первый раз спрашиваю себя, не догадался ли он о ней.
Глава восемнадцатая
Когда дети начинают покидать дом, первое, что замечаешь, – это тишина.
И не только оттого, что выключен проигрыватель и не звучит радио. И даже не из-за отсутствия звуков от занятий на каком-нибудь инструменте за закрытой дверью. И даже не из-за молчащего телефона, отсутствия топота ног вверх и вниз по ступенькам, хлопанья дверей, постоянного шума льющейся воды из ванной.
Нет, это что-то другое. Это нестройный шум, это вибрация, прекратившиеся с их отъездом. Даже воздух в доме стал более медленным и скучным, более приемлемым для ушных перепонок.
Первым уехал Джон, который поступил в Стэнфорд в 1950-м. Исполненный сознания долга, как всегда, он приезжал домой каждые каникулы, стремясь ликвидировать возможные разрушения, которые его родные братья и сестры произвели в его отсутствие. Он женился рано, в 1954 году, после чего все реже стал приезжать домой.
Лэнд тоже поступил в Стэнфорд, только два года спустя. Наш последний сын, Скотт, вырвался из дома, как дикое животное из клетки. Он поступил в Амхерст в 1959 году, и вскоре стало ясно, что он единственный, кому придется туго в постижении уроков жизни.
Скотт редко приезжал домой на каникулы, да я и не особенно этого ждала. Его подростковые годы были бы такими же, как у других детей его возраста, если бы его фамилия не была Линдберг. Чарльз просто не желал понять психологии тинейджеров, ему претили полуночные проказы, частые вечеринки. Он не мог понять нежелания сосредоточиться на серьезных вещах, нежелания видеть дальше собственного носа. Когда они собирались вместе, ситуация становилась взрывоопасной. Девочки ходили на цыпочках, стараясь не попасть под горячую руку.
Но я не собиралась ходить на цыпочках.
– Ты не должен с ним так разговаривать! – кричала я Чарльзу. Руки непроизвольно сжимались в кулаки, сердце разрывалось от боли за сына, которого только что его собственный отец назвал ленивым идиотом. – Такие слова никогда не забываются! Он будет помнить об этом всю жизнь!
Чарльз оставался спокойным, что еще больше раздражало меня.
– Конечно, ты будешь его защищать. Он точно такой, как ты. Все ваше семейство Морроу упрямые и капризные. Если бы я только знал…
– Что? Что бы ты знал?
– То, о чем ты не сказала мне, когда я за тобой ухаживал. Про Дуайта и его проблемы. Про Элизабет.
– Элизабет? Что ты имеешь в виду?
– Про ее слабое сердце. Про ее эмоциональное состояние.
– Про то, что она чувствовала? Что она любила? Только не надо переводить стрелки на мою семью. Это твой сын.
– Меня не удивляет, что он такой засранец, принимая во внимание его генетическую историю. Но я сделаю из него настоящего Линдберга.
– То есть совершенно бесчувственного человека?
– Я буду строг с ним, как мой отец был строг со мной. Ты его мать, и ты его балуешь. Но теперь ты уже сделала все, что могла. Я покажу, кто его отец.
– Неужели твой отец воспитывал тебя, вбивая тебе в голову, что ты ни на что не годен? Неужели он был так же жесток, как ты? Расскажи-ка мне. Я хочу знать, потому что ты никогда мне ничего не рассказываешь. Ты уезжаешь из дома и оставляешь меня одну воспитывать детей, и не говоришь мне ничего о своей жизни. Я ничего не знаю о твоем детстве. Я не знаю, что ты делал вчера. Я не знаю, что ты собираешься делать завтра. Я твоя жена – поговори же со мной! Когда-то мы ведь разговаривали, помнишь? Когда ты приходил домой с работы, мы разговаривали о многих вещах. Помнишь, когда мы летали вместе, мы разговаривали о полетах. Почему все прекратилось? Мне не хватает этого, не хватает так сильно, что…
– Ты истеричка, Энн.
Он по-прежнему оставался невозмутимым, стараясь продемонстрировать свое превосходство. Он даже взял журнал, устроился в кресле и начал читать, как будто я была просто докучной мухой, жужжащей у его лица.
Я вырвала журнал из его рук.
– Наконец-то я начинаю понимать, – прошипела я, – ты ведь велел мне обрести свой голос – я так и сделала. Теперь я его использую. Или ты меня не слышишь, потому что слишком высоко забрался на свой пьедестал?
Он не ответил. Мы пристально смотрели друг на друга, и многолетнее непонимание, как ядовитое пятно, расплывалось между нами, все больше разделяя нас. Когда-то мы в течение многих дней делили одну маленькую кабину, и его это не раздражало. Он освобождал мне пространство, хотя это означало, что сам он должен сидеть скрючившись, кое-как пристроив свои длинные ноги. И он никогда не жаловался.
Теперь казалось, что нас разделяют целые континенты. Я не понимала, что изменилось, только знала, что я единственная, кого это заботит.
Чарльз наконец поднялся с кресла, все еще неторопливый, недоступный, вышел и направился в гараж, где, я знала, останется на всю ночь. В последнее время он проводил в гараже почти все время, работая над различными двигателями – какими-то новыми техническими приспособлениями.
Скомкав журнал, я отбросила его в сторону. Я не пошла за Чарльзом. Я раздувала свою боль и упивалась ею, как бывало в детстве, когда отец называл меня «самым дисциплинированным членом семьи». Я носилась со своей обидой до тех пор, пока почти не переставала чувствовать ее тяжесть. Она становилась как бы частью меня, как старая широкая юбка в сборку, которую я надевала, когда бродила по окрестностям. Я забыла, что это такое – быть рядом со своим мужем и не раздражаться, не скрежетать зубами, не плакать каждый раз после его отъезда, мечтая, что он хотя бы раз предложит мне поехать с ним.
Но больше всего я страдала за своих детей, особенно за Скотта. Он отдалился даже от меня; во время семейных праздников он присутствовал, но был совершенно отстраненным. Он был настолько погружен в себя, что можно было почти осязать напряженность, исходившую от него.
Когда он уезжал в школу, я знала, что теперь увижу его очень не скоро. Я понимала, что это и моя вина в не меньшей степени, чем вина Чарльза. Если бы я знала больше о детстве своего мужа, все еще покрытом тайной, смогла бы я защитить собственных детей от злых духов, которые его обуревали? Если бы я раньше осмелилась обрести голос, смогла бы я задать верные вопросы?
Но теперь было уже слишком поздно. Мы все были разобщены, пронзены этим непоколебимым стальным взглядом, который осуждал нас и считал не заслуживающими внимания. Я могла только надеяться, что мои дети смогут когда-нибудь восстановиться, как смогла я, и станут теми, кем хотят быть, а не теми, кого он хотел из них сделать.
С девочками было проще, хотя я потеряла надежду увидеть свою собственную уступчивую натуру в своих дочерях, особенно в Энси.
Она мечтала поехать в Париж, в Сорбонну, но Чарльз не хотел об этом даже слышать. Поэтому она поступила в Рэдклифф, подчеркнуто, но без эксцессов, отказавшись от Смита. Она постоянно боролась за то, чтобы стать не такой, как я, но это никогда не было яростное сопротивление. Это было мягкое, но упорное противодействие, как постоянные удары волн о скалы, постепенно стирающие их до основания.
Рив, самая легкая и непосредственная (и самая избалованная, мы все это знали, и все были ответственны за это, даже Чарльз), последовала за своей сестрой в Рэдклифф. Но даже когда она еще не уехала в университет, ее постоянно не было дома. Самая общительная из моих детей, она постоянно проводила свободное время с друзьями, пропадала на вечеринках.
И я осталась одна. Впервые с тех пор, как вышла замуж за Чарльза. Я думала, что брак послужит гарантией того, что я никогда не буду одна. Теперь я знала: замужество порождает свой собственный вид одиночества, гораздо более мучительный. Ты больше тоскуешь, потому что больше знаешь.
В календаре, некогда столь заполненном праздниками, встречами, концертами и разными мероприятиями, все больше становилось незанятых клеток. Однажды утром я взяла карандаш, чтобы что-то записать в нем – посещение бакалейной лавки, кажется, чтобы он не выглядел так удручающе пусто, но потом передумала. Чарльз отсутствовал, как обычно, и я не знала, когда он вернется. К тому времени старшие мальчики уже уехали учиться, Скотт был в лагере, Энн проводила лето у своей тети Кон, Рив уехала на каникулы к подруге. Твердо настроенная не предаваться жалости к себе, я решила пойти прогуляться. Я покинула чисто убранный, аккуратный дом – все раковины и бытовые приборы решили вести себя прилично теперь, когда редко бывали мне нужны, – и отправилась по направлению к своему писательскому домику, расположенному у подножия холма в маленькой впадине.
Дойдя до середины двора, я замедлила ход и оглянулась вокруг. Стоял июнь, на мне были блузка, рабочие брюки из хлопчатобумажной саржи и кожаные мокасины. Облака, насыщенные парами соленой воды с океана, лежавшего далеко внизу, поднимались вверх и уносились ветром, нежно овевавшим меня. Листья уже распустились, зеленый полог пронизывали золотые лучи солнца. Пара ржавых велосипедов стояла у сарая, сад манил к себе, гамак с разбросанными по нему романами в бумажных обложках тихо качался между деревьями.
До сих пор это был хороший дом, удобный для воспитания детей, подумала я. Я подняла этих детей, двух взрослых, троих подростков, которые никогда не переставали удивлять меня своими взглядами, своими вполне сформировавшимися индивидуальностями, своим противодействием, большим и малым. Было время, когда я думала, что никогда больше не смогу полюбить детей; когда не могла себе представить, как воспитывать хотя бы одного после того, что произошло. Перед глазами стоял образ малыша и именинного пирога с одной свечкой, которых кто-то вырвал из моих рук, и пришлось начинать все сначала.
Но я это сделала. Плакала, когда у них резались зубы, следила, как они ползали на четвереньках, видела, как они взрослели, переживала их обиды, слезы, глупые шутки и глупый смех. Здесь, на этом клочке земли, где Чарльз спрятал нас от мира, только иногда вспоминая, что надо приезжать к нам, я воспитала свое семейство. Сама.
В конце концов я поняла, что Чарльз не собирается сюда возвращаться навсегда. Особенно теперь, когда шум, беготня и детские игры стихли. У него больше не было сил рваться в стратосферу, где он царил один. Он возвращался к тому, с чего начал. Одинокий Орел, швыряющий за борт все, что могло тянуть его вниз. Даже меня.
Так что я начала строить свою собственную жизнь. Это было непросто. Я чувствовала себя виноватой – я, которая написала книгу, убеждавшую женщин поступать именно так! Временами я не узнавала собственных слов, ведь до сих пор много боялась в жизни. Боялась разгневать мужа. Боялась разочаровать его.
Боялась, что он разочарует меня.
Меня мучило чувство вины от собственного успеха, желание оставаться «хорошей девочкой» для Чарльза в сочетании с раздражением на то, что он больше не звал меня в свой мир и что я больше не нужна своим детям. На время я нашла утешение в психоанализе, посещая доктора, который лечил Дуайта.
Чарльз наказал меня, перенеся свои принадлежности из нашей спальни перед очередным отъездом.
Но самоанализ помог. Постепенно я научилась преодолевать гнев и огорчения, заставляя их уноситься вместе с ветром, дувшим с моря. Я больше не думала о наших золотых годах и совместных полетах.
В следующий раз, когда он вернулся домой и, сидя за обеденным столом напротив меня (по обе стороны от нас стояли пустые стулья), спросил, что будет на десерт, вместо ответа я сообщила ему, что хочу продать это имение.
– Для меня одной дом слишком велик.
– Но ты не одна. – Он действительно казался удивленным.
– Чарльз! – Я рассмеялась. Он что, считает, что дети спрятались на чердаке? – Конечно, я одна. Ну да, формально трое наших детей-подростков все еще находятся дома, но их здесь никогда не бывает. Старшие мальчики уехали навсегда.
– Они вернутся домой на каникулы.
– Да, на несколько дней, но я-то все время нахожусь здесь, вдалеке от мира. Что мне здесь делать – всю жизнь ждать их и тебя?