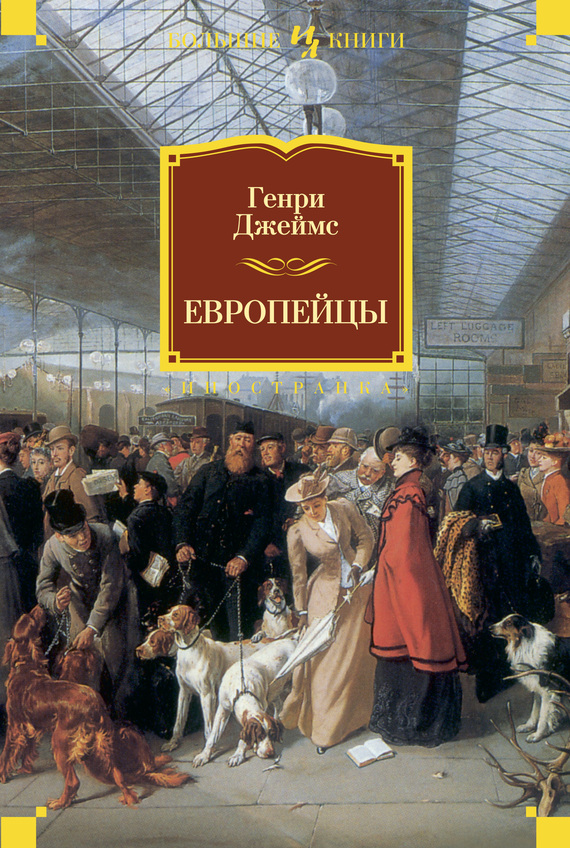В дороге Керуак Джек
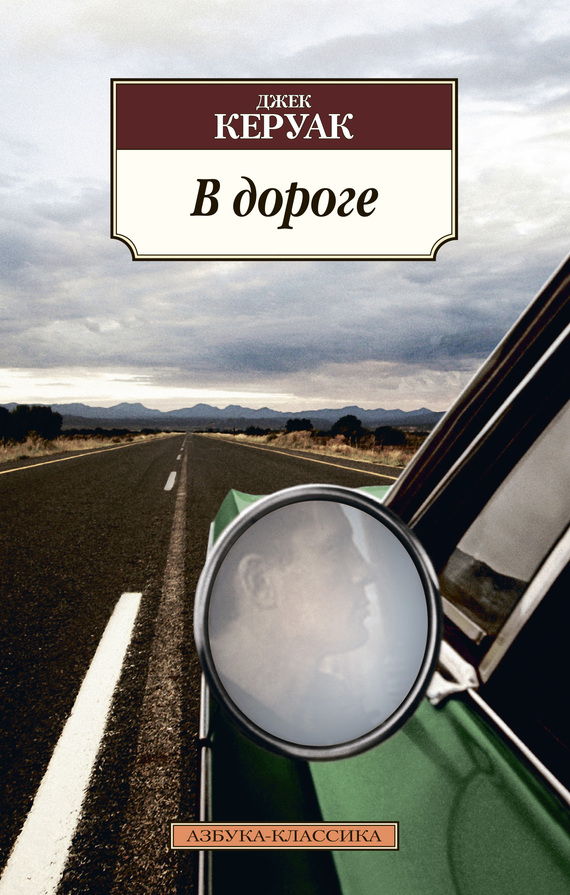
Мы решили купить пива и пойти к нашей переселенке Фрэнки слушать музыку. Набив баночным пивом сумку, мы добрались туда на попутках. Малышка Джэнет, тринадцатилетняя дочь Фрэнки, была самой хорошенькой девочкой на свете и вскорости обещала превратиться в бесподобную женщину. Особенно хороши были ее длинные, тонкие, нежные пальцы, с помощью которых она разговаривала, как в Нильском танце Клеопатры.
Дин сидел в дальнем углу комнаты, прищурившись любовался ею и твердил: «Да, да, да». Джэнет уже начинала немного его побаиваться и искала моего заступничества. В начале того лета я много времени провел с ней в разговорах о книгах и занимавших ее мелочах.
7
Той ночью еще ничего не произошло; мы легли спать. Все случилось на следующий день. После полудня мы с Дином отправились в центр Денвера, чтобы покончить со множеством дел, а заодно зайти в бюро путешествий насчет машины в Нью-Йорк. Ближе к вечеру мы пустились в обратный путь к Фрэнки, и на Бродвее Дин внезапно завернул в магазин спортивных товаров, невозмутимо взял с прилавка софтбольный мяч и вышел, подбрасывая его на ладони. Никто ничего не заметил: таких вещей никто никогда не замечает. Был жаркий, навевающий дремоту день. По дороге мы перебрасывались мячом.
– Завтра уж мы наверняка раздобудем в бюро путешествий машину.
Еще раньше одна знакомая дала мне большую бутыль виски «Олд Гранддэд». Принялись мы за нее в доме Фрэнки. За кукурузным полем жила прелестная юная цыпочка, заняться которой Дин пытался с тех пор, как приехал. Надвигалась беда. При каждом удобном случае Дин бросал ей в окно камушки и в конце концов не на шутку ее перепугал. Пока мы пили виски в захламленной гостиной со всеми ее собаками, разбросанными повсюду игрушками и скучной болтовней, Дин то и дело выбегал в дверь черного хода и направлялся через кукурузное поле бросать камушки и свистеть. Джэнет изредка выходила посмотреть, что из этого выйдет. Неожиданно Дин вернулся без кровинки в лице.
– Беда, дружище. Мать этой девицы гонится за мной с дробовиком, а с ней целая шайка школьников с нашей улицы, они хотят меня избить.
– За что? Где они?
– За полем, дружище.
Дин был пьян и не очень-то волновался. Мы вместе вышли и пересекли освещенное луной кукурузное поле. На темной грунтовой дороге я увидел стоящих группками людей.
– Вот они! – услышал я.
– Минутку, – сказал я. – Вы не скажете, что стряслось?
Мамаша притаилась сзади с перекинутым через руку большим дробовиком.
– Твой дружок нам уже осточертел. Я не из тех, кто зовет полицию. Если он еще раз здесь появится, я буду стрелять, и стрелять наверняка.
Школьники сбились в кучу и сжимали кулаки. Я был так пьян, что и меня мало что трогало, однако я их слегка утихомирил. Я сказал:
– Больше он этого не сделает. Я за ним пригляжу. Он мой брат и слушается меня. Прошу вас, уберите ружье и успокойтесь.
– Пусть только попробует! – грозно и твердо произнесла она из тьмы. – Вот вернется муж, и я пошлю его с вами расправиться!
– Это совсем ни к чему. Поймите, он вас больше не потревожит. Успокойтесь, все будет в полном порядке.
Дин за моей спиной вполголоса сыпал проклятиями. Девица украдкой выглядывала из окна спальни. Я знал этих людей раньше, они верили мне и поэтому слегка угомонились. Я взял Дина под руку, и между освещенными луной рядами кукурузы мы направились к дому.
– Эх-ма! – заорал Дин. – Ну и наклюкаюсь я сегодня!
Мы вернулись к Фрэнки и детишкам. Дин внезапно пришел в исступление от пластинки, которую слушала маленькая Джэнет, и сломал ее о колено: пластинка была в стиле «хилбилли». На другой пластинке был ранний Диззи Гиллеспи, которого Дин очень ценил. – «Конго-блюз», с Максом Уэстом на барабанах. Я подарил ее Джэнет довольно давно, а теперь, когда она расплакалась, велел ей взять пластинку и разбить о Динову голову. Она так и сделала. Дин лишь разинул рот и немного пришел в себя. Все рассмеялись. Обстановка разрядилась. И тут ненасытной Фрэнки захотелось выпить пива в придорожном салуне.
– Пошли! – завопил Дин. – Черт подери, если б ты купила ту машину, что я показывал тебе во вторник, нам бы не пришлось шагать туда пешком!
– Да не подходит мне твоя треклятая машина! – заорала Фрэнки.
Детишки разревелись. В нашей обшарпанной гостиной с ее унылыми обоями, розоватым светом лампы и взволнованными лицами воцарилась густая непроглядная вечность. Малыш Джимми перепугался; я уложил его спать на кушетку и привязал возле него собаку. Фрэнки пьяным голосом вызвала по телефону такси, и пока мы его ждали, мне неожиданно позвонила моя знакомая. У нее был пожилой кузен, который ненавидел меня всеми печенками, а в тот самый день я написал письмо Старому Буйволу Ли, уже переехавшему в Мехико-Сити, и поведал ему о наших с Дином приключениях и о том, как мы устроились в Денвере. Я писал: «У меня есть подружка, которая снабжает меня деньгами и выпивкой и вдобавок кормит славными ужинами».
С безрассудной просьбой отправить это письмо я обратился к престарелому кузену – как раз после того, как мы отужинали, полакомившись жареным цыпленком. Кузен вскрыл письмо, прочел и сразу же вручил ей как доказательство того, что я – всего-навсего мошенник. И вот она, вся в слезах, позвонила мне сообщить, что не желает меня больше видеть. Потом трубку взял торжествующий кузен и принялся растолковывать мне, какой я ублюдок. Пока снаружи сигналило такси, а в доме плакали дети, лаяли собаки и танцевали Дин с Фрэнки, я изрыгал в телефонную трубку все мыслимые проклятия, приходившие мне на ум, сдабривая их вновь изобретенными, а потом, в хмельном бешенстве послав всех по телефону к черту, с размаху швырнул трубку и отправился напиваться.
Спотыкаясь друг о друга, мы выбрались из такси у придорожной пивной, захолустной деревенской пивной среди холмов, вошли и заказали пиво. Все шло кувырком, но вовсе невообразимое помешательство началось в тот момент, когда в баре нам попался страдающий судорогами восторженный малый, который обвил Дина руками и стонал ему в лицо, а Дина в который раз охватило безумие, и, желая внести свою лепту в эту непереносимую сумятицу, он в ту же минуту, обливаясь потом, выбежал на улицу, угнал прямо с подъездной аллеи машину, стремительно умчался в центр Денвера и вернулся на другой машине, поновей и получше. Между тем я немного очухался и вдруг увидел, что у подъездной аллеи в свете фар патрульных машин толпится народ, слушая, как копы что-то толкуют об угнанном автомобиле.
– Кто-то угоняет здесь машины направо и налево, – говорил полицейский.
Дин стоял у него за спиной, слушал и твердил: «Ах, да, да!» Копы пустились в погоню. Дин вошел в бар и принялся расхаживать взад-вперед со страдающим судорогами беднягой, который как раз в тот день женился и, пока невеста где-то его дожидалась, устроил себе грандиозную пьянку.
– Ах, старина, это великолепнейший малый на свете! – орал Дин. – Сал, Фрэнки, на этот раз я пойду и раздобуду первоклассную машину, и мы все, вместе с Тони (нашим подергивающимся праведником), уедем далеко в горы.
И он умчался на улицу. В тот же миг в бар ворвался коп, который заявил, что на подъездной аллее стоит машина, угнанная из центра Денвера. Люди собрались кучками и принялись обсуждать эту новость. В окно я увидел, как Дин вскочил в ближайший автомобиль и с ревом унесся прочь, при этом ни одна живая душа не обратила на него внимания. Через несколько минут он вернулся на совершенно новой машине с открывающимся верхом.
– Вот это красавица! – шепнул он мне на ухо, – Та, другая, слегка покашливала – я бросил ее на перекрестке, а эта прелесть стояла возле фермерского домика. Пришлось немного покружить по Денверу. Ну старина, собирайся, все едем кататься.
Вся горечь, все безрассудство его денверской жизни вспышками молний вырывались из самого его нутра. Лицо его было пунцовым и потным, а вид – просто жалким.
– Нет, я не собираюсь связываться с угнанными машинами.
– Ну как хочешь, старина! Со мной Тони поедет – верно, несравненный дорогуша Тони?
А Тони, худой, черноволосый, – стонущая, бурлящая заблудшая душа с глазами святого, – оперся о Дина и непрестанно охал, потому что его вдруг начало тошнить, а потом благодаря некоему странному наитию он пришел от Дина в ужас, всплеснул руками и с искаженным страхом лицом поковылял прочь. Опустив голову, Дин обливался потом. Затем он выбежал из бара и укатил. Мы с Фрэнки увидели на подъездной аллее такси и решили ехать домой. Когда таксист вез нас сквозь кромешную тьму бульвара Аламеда, по которому бесчисленными ушедшими ночами того лета я вышагивал пешком, на котором пел, стонал, питался звездами и где иссыхалась моя душа, каплю за каплей роняя свои живительные соки на раскаленный асфальт, позади нас неожидание возник Дин в угнанной машине и принялся непрерывно сигналить, оттеснять нас с дороги и орать. Таксист побледнел.
– Да это мой друг, – сказал я.
А Дин, вдруг почувствовав к нам отвращение, умчался вперед со скоростью девяносто миль в час, пустив нам в глаза выхлопные газы и призрачную пыль. Потом он свернул на улицу, где жила Фрэнки, и затормозил перед домом; так же внезапно он снова рванул с места, развернулся и, пока мы выходили из такси и расплачивались, укатил в сторону города. После нескольких минут тревожного ожидания в темном дворе мы увидели, как он вернулся, вновь на другой машине – помятом двухместном автомобильчике, остановился в клубах пыли перед домом, буквально вывалился наружу, направился прямиком в спальню и, мертвецки пьяный, плюхнулся на кровать. А нам досталась брошенная у самого крыльца угнанная машина.
Мне пришлось его разбудить: я хотел отогнать машину подальше от дома, но не смог ее завести. В одних спортивных трусах он сполз с кровати, под хихиканье собравшихся у окна малышей мы сели в машину и, подпрыгивая на ухабах, с неимоверным грохотом понеслись сквозь густые посадки люцерны в конце дороги и гнали до тех пор, пока машина наконец не выдохлась и не встала как вкопанная под старым тополем у ветхой мельницы.
– Все, больше не могу, – честно признался Дин.
Он вылез из машины и в лунном свете, как был в одних трусах, зашагал через кукурузное поле к дому, до которого было теперь не меньше полумили. Когда мы вернулись, он сразу же лег спать. Все смешалось в этой жуткой кутерьме, весь Денвер, моя знакомая, автомобили, детишки, бедняжка Фрэнки, комната, залитая пивом и усеянная пустыми банками, – и я никак не мог уснуть. Какое-то время мне не давал спать сверчок. Еще в Вайоминге я заметил, что ночами в этой части Запада звезды крупные, как римские свечи, и одинокие, как Принц Дхармы, который потерял свою родовую рощу и скитается теперь в пространстве между звездами Большой Медведицы в надежде вновь ее отыскать. Так вот, звезды эти неторопливо вращали ночь, а задолго до истинного рассвета вдали, за окутанными тьмой холодными землями, уходящими к Западному Канзасу, возникло огромное алое зарево, и птицы принялись выводить над Денвером свои трели.
8
Мутило нас наутро по-страшному. Дин первым делом направился на дальний край кукурузного поля выяснить, способна ли брошенная там машина дотянуть до Востока. Пошел он туда, несмотря на мои протесты, и вернулся бледный как полотно.
– Старина, это машина какого-то сыщика, а мои отпечатки пальцев известны в каждом участке города еще с тех пор, как я за год увел пятьсот машин. Ты же видел, что я с ними вытворяю – мне попросту хочется кататься, старина! Мне нельзя здесь оставаться! Пойми, если мы сию минуту отсюда не смоемся, считай, что мы уже в тюрьме.
– А ведь ты прав, черт подери! – сказал я, и со всей стремительностью, на какую только были способны наши руки, мы принялись укладывать вещи.
Не завязав галстуков и не заправив рубах, мы наскоро распрощались с нашей милой семейкой и потащились в сторону спасительной дороги, где нас уже никто не узнает. Наблюдая за моим или нашим, да и не так уж важно, чьим именно, бегством, малышка Джэнет расплакалась – Фрэнки же вела себя учтиво и деликатно, я поцеловал ее и попросил прощения.
– Он явно ненормальный, – сказала она. – И так напоминает мне моего сбежавшего муженька! Ну просто вылитый. Мой Мики таким ни за что не вырастет, хоть сейчас и все такие.
Попрощался я и с маленькой Люси, которая держала на ладони любимого жука, а малыш Джонни спал. Все это произошло за считаные мгновения, пока занималась чудесная воскресная утренняя заря и мы, спотыкаясь, выбирались из дома со своими жалкими пожитками. Приходилось поторапливаться. Мы не сомневались, что из-за поворота проселочной дороги вот-вот покажется прибывшая по нашу душу полицейская машина.
– Если та баба с дробовиком что-нибудь пронюхает, нам крышка, – сказал Дин. – Надо вызвать такси. Тогда мы спасены.
Мы собрались было разбудить одно фермерское семейство и воспользоваться их телефоном, но со двора нас прогнал пес. С каждой минутой опасность возрастала; вставший чуть свет местный житель непременно наткнется в кукурузном поле на наш потерпевший аварию автомобильчик. Наконец одна милая старушка пустила нас позвонить, и мы вызвали денверское такси, которого, однако, так и не дождались. Мы поковыляли дальше. На дороге началось утреннее движение, и каждая легковушка казалась нам патрульной машиной. А когда мы вдруг и впрямь увидели приближающуюся полицейскую машину, я понял, что это конец моей прежней жизни и одновременно – вступление ее в новую кошмарную стадию тюрем и кандальной скорби. Однако, когда полицейская машина подъехала, она оказалась нашим такси, и спустя мгновение мы уже мчались на восток.
В бюро путешествий на все лады расхваливали «Кадиллак-47», который надо было перегнать в Чикаго. Владелец ехал с семьей из Мексики, в Денвере он устал и загрузил своих домочадцев в поезд. Все, что ему было нужно, – это знать, с кем он имеет дело, и чтобы машина благополучно добралась до места. Мои бумаги убедили его в том, что все пройдет как нельзя лучше. Я велел ему не беспокоиться. А Дину я объявил:
– И никаких фокусов с этой машиной!
Завидев ее, Дин, не в силах скрыть радостного возбуждения, подскочил на месте. Оставалось часок подождать. Мы улеглись на травку у церкви, где в 1947-м я, проводив домой Риту Беттенкорт, коротал время в компании живущих подаянием бродяг, и там, лицом к послеполуденным птицам, я в полном изнеможении забылся сном. Откуда-то явственно доносились до меня звуки органа. А Дин не выдержал и отправился носиться по городу. В закусочной он завел шашни с официанткой, пообещал покатать ее сегодня на собственном «кадиллаке» и с этой вестью явился меня будить. Немного придя в себя, я поднялся навстречу новым проблемам.
Когда «кадиллак» прибыл, Дин тут же уехал на нем «заправляться», а служащий бюро путешествий посмотрел на меня и спросил:
– Когда он вернется? Все пассажиры уже готовы ехать. – Он показал на двух ирландцев из Восточной Иезуитской школы, которые ждали, поставив на лавки свои чемоданы.
– Он только заправится и сразу назад.
Дойдя до угла, я увидел Дина, запустившего двигатель в ожидании официантки, которая переодевалась в своем гостиничном номере; и даже ее я узрел со своего наблюдательного пункта: стоя перед зеркалом, она прихорашивалась и поправляла чулки, а я пожалел, что не могу поехать с ними. Выбежав из гостиницы, она впрыгнула в «кадиллак», а я побрел назад успокаивать хозяина бюро путешествий и пассажиров. Остановившись в дверях, я мельком увидел, как «кадиллак» пересекает Кливленд-плейс, как размахивает руками, что-то рассказывая девушке, счастливый Дин в своей вечной футболке, как он успевает сгорбиться за рулем, не давая машине сбиться с пути, и с каким серьезным и гордым видом сидит подле него его спутница. Средь бела дня они въехали на автостоянку, остановились в глубине, у кирпичной стены (и на этой стоянке Дин когда-то работал), и там, по его словам, он в мгновение ока ею овладел; мало того, вдобавок он взял с нее слово, что в пятницу, как только получит жалованье, она сядет в автобус и поедет вслед за нами на восток, а ждать мы ее будем в Нью-Йорке, в берлоге Иэна Макартура на Лексингтон-авеню. Она пообещала приехать; звали ее Беверли. Тридцать минут – и Дин помчался назад, с поцелуями, прощаниями и обещаниями вернул девушку в гостиницу и подлетел к бюро путешествий, чтобы взять команду на борт.
– Послушай, уже давно пора ехать! – сказал хозяин бюро путешествий, вылитый бродвейский гуляка. – Я уж было решил, что ты смотался вместе с «кадиллаком».
– Я за него ручаюсь, – сказал я, – можете не волноваться.
И сказал я это, потому что Дин был до такой степени взвинчен, что догадаться о его безумии не составляло труда. С деловым видом он помог иезуитам загрузить багаж. И едва они уселись, едва я помахал Денверу на прощание, как Дин уже тронулся в путь и монотонно запел обладавший поистине самолетной мощью мотор. Не отъехали мы от Денвера и двух миль, как сломался спидометр, потому что Дин выжимал из машины никак не меньше ста десяти миль в час.
– Ладно, обойдусь без спидометра, скорость мне знать ни к чему – вот доволоку эту железяку до Чикаго, а там прикину по времени.
Казалось, мы и семидесяти не тянем, вот только все машины на ведущей в Грили скоростной автостраде были по сравнению с нами просто дохлыми мухами.
– На северо-восток, Сал, мы едем, потому что нам непременно надо заглянуть в Стерлинг, на ранчо Эда Уолла, ты должен с ним познакомиться и увидеть его ферму, а посудина эта плывет так резво, что мы без особых хлопот попадем в Чикаго намного раньше, чем поезд того малого.
Прекрасно, я ничего не имел против. Пошел дождь, но Дин не сбавил скорость. Это был превосходный мощный автомобиль, последний из старомодных лимузинов, черный, с большим удлиненным корпусом и белобокими покрышками, а возможно – и с пуленепробиваемыми стеклами. Иезуиты – из колледжа Св. Бонавентуры – сидели позади, охваченные дорожным ликованием, и даже не догадывались о том, как быстро мы едем. Они попытались завязать разговор, но Дин хранил молчание; он снял футболку и сидел за рулем по пояс голый.
– Эх, бесподобная милашка эта Беверли… она приедет ко мне в Нью-Йорк… вот получу от Камиллы бумаги для развода, и мы поженимся… все уладим, Сал, и едем. Да!
Чем быстрее мы удалялись от Денвера, тем лучше я себя чувствовал, а удалялись мы быстро. Уже стемнело, когда у Джанкшна мы свернули с шоссе на грунтовую дорогу, которая через унылые равнины Восточного Колорадо должна была привести нас в глубь Пустоши Койотов, к ранчо Эда Уолла. Однако дождь не прекращался, и на скользкой грязи Дин сбавил скорость до семидесяти. Боясь, что нас занесет, я велел ему ехать помедленнее, но он ответил:
– Не волнуйся, старина, ты же меня знаешь.
– Но на этот раз, – сказал я, – ты и впрямь едешь чересчур быстро.
А он так и летел сквозь эту слякоть, и не успел я договорить, как мы резко вильнули влево, Дин бешено вывернул руль, пытаясь сладить с машиной, но громоздкий автомобиль занесло в самую грязь, и он угрожающе завихлял передними колесами.
– Берегись! – заорал Дин, но на самом деле ему было на все наплевать, еще мгновение он сражался со своим Демоном, после чего мы очутились задницей в канаве, а передние колеса застыли на дороге.
Наступила полная тишина. Слышно было, как жалобно воет ветер. Мы находились посреди диких прерий. В четверти мили от нас стоял у дороги фермерский домик. Я безостановочно чертыхался – Дин довел меня до белого каления. А он молча надел плащ и под дождем направился к домику за подмогой.
– Это твой брат? – спросили ребята с заднего сиденья. – С машиной он управляется чертовски здорово. И, судя по его рассказам, с женщинами ничуть не хуже.
– Он ненормальный, – сказал я, – да-да, он мой брат.
Дин вернулся вместе с фермером на тракторе. Прицепив к трактору машину, фермер вытащил нас из канавы. Автомобиль стал грязно-бурым, вдобавок было помято крыло. Фермер взял с нас пять долларов. Под дождем за нами с любопытством наблюдали его дочери. Самая красивая и самая застенчивая из них смотрела на нас, притаившись далеко в поле, и причина так себя вести у нее была веская: такой красивой девушки мы с Дином не видели никогда в жизни – это окончательно и бесповоротно. Ей было лет шестнадцать, у нее был типичный для Равнин румянец на лице, румянец цвета дикой розы, самые голубые на свете глаза, самые восхитительные волосы, и отличалась она стыдливостью и проворством дикой антилопы. Она вздрагивала от каждого нашего взгляда. Чудесный ветерок, долетевший к нам от самого Саскачевана, завивал волосы, таинственной пеленой окутывавшие ее прелестную головку. От смущения она заливалась краской.
Закончив расчеты с фермером, мы бросили последний взгляд на ангела прерий и поехали, уже не так быстро, а когда стало совсем темно, Дин сказал, что теперь до ранчо Эда Уолла рукой подать.
– Ох, боюсь я таких девушек, – сказал я. – Я бы мог все позабыть и броситься к ее ногам, а если бы она меня отвергла, тогда оставалось бы только пойти да и броситься вниз с края света.
Иезуиты захихикали. Они были просто напичканы банальным зубоскальством и теми россказнями, что в ходу в восточных колледжах, а в качестве начинки этой язвительности держали в своих куриных мозгах одного только так и не постигнутого Аквинского. Мы с Дином не обращали на них никакого внимания. Пока мы пересекали слякотные равнины, Дин рассказывал истории о своих ковбойских временах, он показал участок дороги, где когда-то все утро скакал верхом; а когда мы въехали во владения Уолла, которые оказались необъятными, он показал место, где чинил ограду; и место, где старик Уолл, отец Эда, то и дело с грохотом гонялся по пастбищу за телками, издавая страшный рев: «Держите ее, держите, черт подери!»
– Каждые полгода ему приходилось менять машину, – сказал Дин, – Он просто не умел осторожничать. Когда корова отбивалась от стада, он рулил за ней до ближайшего прудика, а там бросал машину и дальше бежал бегом. Считал каждый нажитый цент и откладывал его на черный день. Старый полоумный скотовод. Вот подъедем ближе к дому, и я покажу тебе остатки его машин. Сюда-то я и пришел отрабатывать условный срок после последней отсидки. Здесь-то я и жил, когда писал Чеду Кингу те письма, что ты видел.
Мы свернули с дороги и, переехав тропу, принялись петлять по зимнему пастбищу. Внезапно фары осветили стадо бестолково круживших на одном месте унылых беломордых коров.
– Ага! Они самые! Коровы Уолла! Уж теперь-то нам не проехать. Придется выходить и разгонять их! Хи-хи-хи!
Однако выходить не пришлось, мы просто черепашьим темпом потащились сквозь стадо, иногда легонько подталкивая животных, а те с мычанием кружили у самых дверей машины настоящим коровьим морем. Вдалеке показался огонек домика Эда Уолла. На сотни миль во все стороны от этого одинокого огонька простирались равнины.
Житель Востока не в состоянии представить себе такую кромешную тьму, какая окутывает прерию. Не было ни звезд, ни луны, ни единого огонька, кроме того, что горел на кухне миссис Уолл. Все, что лежало за смутными тенями скотного двора, являло собой бескрайний мировой пейзаж, который откроется взору лишь с рассветом. Постучав в дверь и вызвав из темноты Эда Уолла, который в хлеву доил коров, я на минуту осторожно углубился в эту тьму, футов на двадцать, не больше. Мне почудилось, что я слышу койотов. Уолл сказал, что это, должно быть, негромко ржет вдалеке одна из отцовских диких лошадей. Эд Уолл, наш ровесник, был высоким, жилистым и немногословным парнем с острыми зубками. Бывало, они с Дином подолгу простаивали на углах Куртис-стрит, свистом провожая проходящих девушек. Ныне же он милостиво позволил нам войти в его мрачную, неосвещенную и явно нежилую гостиную, пошарил в поисках тусклых светильников и, включив их, обратился к Дину:
– Какого черта, что у тебя с пальцем?
– Я врезал Мерилу, и у меня началось такое заражение, что кончик пальца пришлось ампутировать.
– Так на кой черт ты это сделал? – Я понял, что для Дина Эд был все равно что старший брат. Он покачал головой; ведро с молоком все еще стояло у его ног. – Как был ты полоумным сукиным сыном, так и остался.
Тем временем его молодая жена приготовила в просторной кухне роскошное угощение. Она попросила извинения за персиковое мороженое:
– Тут ничего особенного, я просто заморозила сливки вместе с персиками.
И разумеется, из всех мороженых, что я перепробовал в своей жизни, только это оказалось настоящим. Начала она довольно скромно, однако под конец стол ломился от яств; пока мы ели, на нем появлялись новые лакомства. Эта статная блондинка, как и все женщины, живущие среди невообразимых просторов, слегка сетовала на скуку. Она перечислила все радиопередачи, которые обычно слушает в это время ночи. Эд Уолл сидел, уставившись в свои ладони. Дин с жадностью поглощал еду. Он ждал от меня поддержки в своих рассказнях о том, что владелец «кадиллака» – я, что я очень богат, а сам он – мой друг и шофер. На Эда Уолла все это не произвело никакого впечатления. Он лишь изредка поднимал голову, вслушиваясь в каждый звук, издаваемый скотиной в хлеву.
– Что ж, надеюсь, вы доберетесь до Нью-Йорка, ребята.
И не подумав принять на веру басню о том, что «кадиллак» принадлежит мне, Эд был убежден, что Дин его попросту угнал. На ранчо мы пробыли около часа. Эд Уолл, точно так же как Сэм Брэди, потерял доверие к Дину – если он и смотрел на Дина, то смотрел с опаской. В прошлом бывали разгульные деньки, когда заканчивался сенокос и они под руку шатались по улицам Ларами, Вайоминг, но все это давным-давно быльем поросло.
Дин уже беспокойно ерзал на стуле.
– Ну что ж, да, да, по-моему, пора двигать, ведь завтра вечером надо быть в Чикаго, а мы и так потеряли несколько часов.
Студенты снисходительно поблагодарили Уолла, и мы вновь пустились в путь. Я обернулся посмотреть, как тонет в море ночи кухонный огонек. А потом решительно подался вперед.
9
В мгновение ока мы вновь оказались на главной автостраде, и той ночью моему взору открылся весь штат Небраска. Сто десять миль в час по прямой как стрела дороге, спящие городки, никакого дорожного движения, и лишь позади ползет в лунном свете поезд обтекаемой формы, принадлежащий компании «Юнион Пасифик».
В ту ночь мне совсем не было страшно; напротив, я чувствовал, что иначе нельзя, что непременно надо выжимать сто десять и болтать, в то время как один за другим с фантастической скоростью уносятся вспять Огаллала, Готенберг, Кирни, Гранд-Айленд, Коламбус – все городки Небраски. Машина оказалась бесподобной; на дороге она держалась, словно судно на поверхности воды. Плавные повороты она одолевала с напевной беззаботностью.
– Просто корабль мечты, старина, – вздохнул Дин. – Только представь, каких бы дел мы наделали, будь у нас с тобой такая машина! Тебе известно, что есть дорога, которая ведет в Мексику и дальше – прямиком в Панаму? А может, и на самое дно Южной Америки, где индейцы растут до семи футов и жуют на горных склонах кокаин? Да! Мы с тобой, Сал, с такой машиной могли бы весь мир повидать, ведь в конце концов, старина, та дорога должна и ко всему миру вывести. Больше-то ей вести некуда, верно? Ах, да мы еще на этой штуковине исколесим весь старый Чи. Представляешь, Сал, я в жизни не был в Чикаго, даже проездом!
– В этом «кадиллаке» мы явимся туда, как настоящие гангстеры!
– Да! А девушки! Мы ведь сможем и девушек снимать, Сал. Я решил ехать со сверхкурьерской скоростью, так что сможем колесить по городу весь вечер. Ты себе отдыхай, я уж сам доведу жестянку до места.
– А сейчас ты с какой скоростью едешь?
– По-моему, постоянно сто десять – просто это незаметно. Еще засветло мы проскочим Айову, а потом я вмиг доберусь до старого Иллинойса. – Ребята уснули, а мы проболтали всю ночь.
Дин обладал удивительной способностью: он мог лишиться рассудка, а потом неожиданно вновь его обрести, и тогда душа его – сокрытая, по-моему, в скоростном автомобиле, в Побережье, которого надо достичь, и в женщине в конце пути – становилась умиротворенной и здравой, словно ничего и не случилось.
– Стоит мне теперь попасть в Денвер, как я тут же схожу с ума – я больше не выношу этот город. Суета-суматоха – с чердаком у Дина плохо. Вперед!
Я сказал ему, что уже ездил по этой небрасской дороге в сорок седьмом. Дин тоже здесь бывал. – В тысяча девятьсот сорок четвертом, Сал, когда я присочинил насчет своего возраста и нанялся в лос-анджелесскую прачечную «Новая эра», я смотался оттуда с единственной целью: попасть в Индианаполис на гоночный трек и увидеть знаменитые гонки в честь Дня памяти погибших. Днем я добирался на попутках, а ночью, чтоб не терять время, угонял машины. К тому же в Лос-Анджелесе у меня остался двадцатидолларовый «бьюик», мой первый автомобиль. С его фарами и тормозами техосмотр ему было не пройти, вот я и смекнул: дабы избежать ареста, нужно разрешение выезжать за пределы штата, и как раз здесь-то я и задумал это разрешение получить. Спрятал я номерные знаки под пиджак, а когда проезжал на попутке один из этих самых городков, на главной улице ко мне привязался дотошный шериф, который решил, что я слишком молод, чтобы голосовать на дорогах. Он нашел номера и посадил меня в двухкамерную тюрягу, к местному преступнику, которому на роду было написано просидеть в каталажке до глубокой старости, потому что он и есть-то сам не мог (его кормила шерифская жена), и только и делал, что целыми днями распускал нюни и сопли. После допроса с применением таких банальностей, как отеческие уговоры, резкий переход к угрозам, сличение моего почерка и все такое прочее, и после того как, желая выбраться из этой передряги, я произнес самую вдохновенную речь в моей жизни, закончив признанием в том, что насчет угона машин я все наврал и что я всего лишь разыскиваю своего папашу, который где-то поблизости батрачит на ферме, шериф меня отпустил. На гонки я, конечно, не попал. Следующей осенью я снова проделал то же самое, чтобы посмотреть игру «Нотр-Дам» с «Калифорнией» в Саут-Бенде, Индиана, – на этот раз без приключений, а денег у меня было в обрез, только на билет, ни цента лишнего, и всю дорогу туда и обратно я ничего не ел, разве что удавалось кое-что выклянчить у разных психопатов, что попадались мне в пути, и при этом я еще успевал приударять за девчонками. Единственный малый в Соединенных Штатах Америки, который перенес столько лишений, чтобы посмотреть бейсбольный матч.
Я попросил его рассказать о том, как он жил в Лос-Анджелесе в 1944 году.
– Меня арестовали в Аризоне, каталажка оказалась самой гнусной из всех, где я сидел. Оставалось бежать, и я совершил самый великий побег в своей жизни, если уж говорить о бегстве в широком смысле этого слова. Только представь – лесом, ползком, по болотам, через всю тамошнюю гористую местность. Мне вовсе не улыбалась перспектива быть избитым шлангами, а то и умереть так называемой случайной смертью, вот и приходилось выбираться из леса вдоль горного кряжа и держаться подальше от тропинок и дорог. Надо было избавиться от тюремной робы, и на заправочной станции неподалеку от Флагстаффа я виртуознейшим образом украл рубашку и брюки, а через пару дней в наряде рабочего бензоколонки прибыл в Лос-Анджелес, явился на первую попавшуюся станцию обслуживания, нанялся на работу, снял комнату, сменил имя (Ли Булье) и провел в Лос-Анджелесе умопомрачительный годик – с целой шайкой новых друзей и просто несравненных девочек, а кончилось все однажды ночью, когда мы всей компанией ехали по Голливудскому бульвару и я велел дружку покрутить руль, пока я буду целоваться со своей девчонкой – за рулем-то сидел я, – а он не расслышал, мы врезались в столб, и, хотя мы ползли не быстрее двадцати миль в час, нос я все-таки сломал. Ты же видел, какой у меня был раньше нос – с греческой горбинкой вот здесь. После этого я отправился в Денвер, а весной встретил в забегаловке Мерилу. Ах, старина, ей было всего пятнадцать, она носила джинсы и только и ждала, чтоб кто-нибудь ее подцепил. Три дня и три ночи разговоров в гостинице «Ас», третий этаж, номер в юго-восточном углу, светлой памяти номер, святыня моих лучших дней, – какой она была тогда милашкой, какой молоденькой, хм-м, ах-х! Однако гляди-ка, провалиться мне на этом месте, если там, в темноте, не кодла старых бродяг, ну вон же они, у костра, возле железной дороги! – Он даже сбавил скорость, – Почем знать, может, там и мой отец, – У самой железнодорожной колеи вертелись возле костра какие-то люди. – Вечно я не решаюсь спросить. Он ведь где угодно может оказаться.
Мы неслись дальше. Где-то позади нас, а может, и впереди в непроглядной ночи лежал под кустом его пьяный отец, и с подбородка его наверняка стекала слюна, брюки были залиты водой, в ушах – черная патока, на носу – струпья, в волосах, быть может, кровь, и светила на него сверху луна.
Я сжал Динов локоть.
– Теперь-то уж мы точно едем домой, старина, – Впервые Нью-Йорк должен был стать его постоянным домом. Его всего трясло; он не умел ждать.
– Подумать только, Сал, вот доберемся мы до Пенси и услышим бесподобный «боп», который крутят по радио диск-жокеи. Эгей, плыви, старая калоша, плыви!
Наш шикарный автомобиль заставлял ветер реветь, заставлял равнины развертываться и расстилаться перед нами бумажным свитком; он мягко отбрасывал назад раскаленный асфальт – величественный корабль. Я открыл глаза и увидел, как разгорается утренняя заря; мы мчались ей навстречу. Как и прежде, Дин с каменным лицом, исполненным извечной его скуластой решимости, сидел, склонившись над огоньком приборного щитка.
– О чем задумался, старикан?
– Ха! Сам знаешь, все о том же – девочки, девочки, девочки.
Я уснул, и разбудил меня сухой нагретый воздух июльского воскресного утра в Айове, а Дин, не снижая скорости, все гнал и гнал машину вперед. Крутые виражи среди кукурузных полей Айовы он одолевал не меньше чем на восьмидесяти, а на прямой, как всегда, выжимал сто десять, если только двухстороннее движение не загоняло его в общий поток, ползущий на жалких шестидесяти. При малейшей возможности он вырывался вперед и обгонял с полдюжины машин, оставляя их позади в клубах пыли. Завидев такое дело, один психопат в новеньком с иголочки «бьюике» решил посостязаться с нами в скорости. Только Дин собрался предпринять очередной массовый обгон, как этот тип неожиданно вынырнул у нас перед носом и с ревом умчался вперед, бросив нам вызов гудками и миганием задних фонарей. Мы ринулись в погоню, словно хищная птица.
– Ах так! – рассмеялся Дин. – Погоняю-ка я этого сукина сына дюжину миль. Смотри!
Дав «бьюику» уйти довольно далеко, Дин увеличил скорость и самым неучтивым образом его догнал. Психопат Бьюик окончательно лишился рассудка: он уже выжимал не меньше сотни. У нас появилась возможность его рассмотреть. Его вполне можно было принять за чикагского хипстера, путешествующего с женщиной, по возрасту годящейся ему в матери, – а скорее всего, она ему матерью и приходилась. Одному Богу известно, выражала ли она недовольство, но он выжимал полный газ. У него были растрепанные темные волосы – итальянец из старого Чи; на нем была спортивная рубаха. Быть может, он вообразил себе, что мы – новоявленные лос-анджелесские бандиты, стремящиеся захватить Чикаго, к примеру, люди Мики Коэна, ведь лимузин имел абсолютно бандитский вид, да и номер был калифорнийский. А в общем-то, это было обычное дорожное озорство. Чтобы не выпустить нас вперед, он шел на жуткий риск: он совершал обгоны на поворотах и однажды едва успел вернуться в общий поток машин, когда перед глазами у него возник и завихлял колесами угрожающих размеров грузовик. Таким манером мы проскочили восемьдесят айовских миль, и гонки так меня захватили, что я даже не успел испугаться. Наконец психопат сдался, остановился у бензоколонки – вероятно, по требованию старой дамы – и, когда мы проносились мимо, весело помахал рукой. А мы мчались дальше: Дин без майки, я – задрав ноги на щиток, а студенты – погрузившись в сон на заднем сиденье. Решив позавтракать, мы остановились у ресторанчика, которым заправляла седая дама. Под перезвон церковных колоколов, доносившийся из расположенного поблизости городка, она дала каждому из нас по гигантской порции картошки. И снова в путь.
– Днем так быстро ехать не стоит, Дин.
– Успокойся, старина, я знаю, что делаю.
Меня уже пробирала дрожь. Дин обрушился на вереницы машин, словно Демон Страха. Выискивая просвет, он разве что не шел на таран. Он тормошил их бамперы, сбавляя скорость, а потом, резко увеличив ее, вытягивал шею, пытаясь увидеть лазейку, и наш громадный автомобиль, послушный малейшему прикосновению Дина, шел на обгон, всякий раз едва успевая вернуться на свою сторону дороги, чудом не столкнувшись со встречным потоком машин, а я дрожал мелкой дрожью. Это становилось невыносимым. В отличие от Небраски, в Айове редко попадаются длинные прямые дороги, и когда мы наконец выехали на одну из них, Дин вновь развил свои сто десять, а я увидел, как за окном промелькнули места, знакомые мне еще с 1947-го, – участок пути, где мы с Эдди крепко сели на мель. Вся давняя дорога прошлого разматывалась передо мной с такой головокружительной скоростью, словно кто-то опрокинул чашу жизни и мир сошел с ума. Глаза болели от страшного сна наяву.
– Черт возьми, Дин, я ухожу на заднее сиденье, больше я этого не вынесу, не могу смотреть.
– Хи-хи-хи! – прыснул Дин и, обогнав на узком мосту очередную машину, вильнул на мгновение в пыль и покатил дальше.
Я плюхнулся на заднее сиденье и, свернувшись калачиком, попытался заснуть. Один из ребят радостно плюхнулся на переднее. Охваченный тяжким приступом страха перед неминуемой и скорой катастрофой, я сполз на пол и закрыл глаза. Служа матросом, я частенько задумывался о волнах, стремительно набегающих снизу на корпус корабля, и о бездонной морской пучине под ними; теперь же в каких-нибудь двадцати дюймах от себя я ощущал дорогу, она с немыслимой скоростью раскрывалась подо мною и со свистом неслась через весь стонущий континент вместе с этим безумным Ахавом за рулем. И с закрытыми глазами я видел, как дорога проносится сквозь меня. А открыв их, я увидел, как мелькают на полу машины дрожащие тени деревьев. Спасения не было. Я смирился. А Дин гнал машину, ему и в голову не приходило поспать, прежде чем мы доберемся до Чикаго. После полудня мы вновь миновали старый Де-Мойн. Там мы, конечно, попали в пробку, пришлось сбавить скорость, и опять я пересел вперед. И тут произошла непонятная и прискорбная история. Впереди нас ехал в седане толстый негр со своим семейством; к заднему бамперу был подвешен один из тех брезентовых бурдюков, что в пустыне продают туристам. Негр резко затормозил. Дин заболтался с сидящими позади парнями и не заметил этого, и на скорости пять миль в час мы врезались прямо в бурдюк, который лопнул, как нарыв, выбросив вверх струю воды. Больше никаких повреждений, если не считать слегка помятого бампера. Мы с Дином вышли на переговоры. Кончилось все обменом адресами и непринужденной болтовней, во время которой Дин не сводил глаз с мужниной жены, чьи великолепные смуглые груди были едва прикрыты свободной хлопчатобумажной блузкой. «Да! да!» Оставив негру адрес нашего чикагского барона, мы поехали дальше.
На другом конце Де-Мойна нас нагнала патрульная машина с рычащей сиреной и громкими распоряжениями подъехать к тротуару.
– Ну что там еще?
Коп вышел из машины.
– Не вы, случаем, устроили аварию?
– Аварию? На перекрестке мы порвали одному малому мешок с водой.
– Он говорит, что в него врезалась полная народу краденая машина.
Это было одно из тех редких мгновений, когда нам с Дином попадался негр, ведущий себя как недоверчивый старый болван. И это так нас поразило, что мы расхохотались. Пришлось последовать за полицейским в участок и там битый час просидеть на травке, дожидаясь, пока они дозвонятся в Чикаго владельцу «кадиллака» и удостоверятся в том, что машину мы взяли напрокат. По словам копа, мистер Барон сказал:
– Да, это моя машина, но я не могу ручаться, что ребята больше ничего не натворили.
– Тут, в Де-Мойне, они попали в небольшую аварию.
– Да, это я уже слышал. Я говорю, не могу ручаться, что они ничего не натворили в прошлом.
Все утряслось, и мы помчались дальше. Ньютон, штат Айова, где в 1947-м я совершил рассветную прогулку. Еще днем мы вновь проехали сонный Давенпорт и переправились через низинную Миссисипи, заключенную в свое полное опилок русло; потом Рок-Айленд, несколько минут среди городского транспорта, солнце, окрашивающееся багрянцем, и внезапно открывшиеся взору живописные маленькие притоки, плавно струящиеся меж волшебных деревьев зеленого срединноамериканского Иллинойса. Местность вновь приобретала мягкие очертания плодородного Востока; великий засушливый Запад был позади. Штат Иллинойс во всю ширь расстилался передо мной те несколько часов, что Дин, не сбавляя скорости, катил напрямик. Усталость толкала его на отчаянный риск. С откровенным безрассудством он пулей влетел на узкий мостик через одну из живописных речушек, где ситуация и без него накалилась до предела. Перед нами протискивались через мост две тихоходные легковушки; навстречу приближался громадный грузовик с прицепом. Водитель наскоро прикидывал, сколько времени потребуется тихоходам, чтобы одолеть мост, и, по его расчетам, они успевали это сделать раньше, чем он сам до него доберется. Ни для грузовика, ни для любой другой встречной машины на мосту просто не было места. Машины позади грузовика дергались в поисках лазейки для обгона. Впереди тихоходных легковушек тащились другие тихоходы. В этом тесном скоплении машин каждый яростно стремился вырваться вперед. Недолго думая, Дин на скорости сто десять миль в час бросился в атаку. Он оставил позади тихоходов, вильнул в сторону, едва не врезавшись в левый поручень моста, очертя голову рванулся вперед, в тень не сбавляющего скорость грузовика, резко взял вправо, чудом не угодив под его левое переднее колесо, едва не столкнулся с первой тихоходной легковушкой, развернулся для обгона поперек дороги и вынужден был стремглав вернуться в общий поток, когда из-за грузовика выехала на разведку другая легковушка, – все это в течение двух секунд, с быстротой молнии, оставив всего лишь облако пыли позади, там, где должно было произойти страшное массовое столкновение ринувшихся во все стороны легковушек с огромным грузовиком, вставшим на дыбы в роковом багровом предвечерье Иллинойса с его уснувшими полями. К тому же я никак не мог отделаться от мысли о знаменитом «боп»-кларнетисте, погибшем недавно в иллинойской автокатастрофе, быть может, и в такой же день. Я опять перелез на заднее сиденье.
На этот раз и ребята остались сзади, а Дин твердо вознамерился еще засветло попасть в Чикаго. На железнодорожном переезде мы подобрали двух бродяг, которые совместными усилиями наскребли полдоллара на бензин. Еще минуту назад сидевшие среди сложенных штабелями шпал, приканчивая остатки какого-нибудь винишка, сейчас они очутились в замызганном, но непокоренном, роскошном лимузине, на всех парусах державшем курс на Чикаго. И старикан, усевшийся впереди, рядом с Дином, даже принялся, не отрывая взгляда от дороги, читать свои нищенские молитвы.
– Ну и ну, – сказали они, – мы и не мечтали так быстро попасть в Чикаго!
Для жителей сонных иллинойских городков, не понаслышке знающих о чикагских бандах, которые каждый день ездят мимо в лимузинах вроде нашего, мы являли собой диковинное зрелище: все небритые, водитель по пояс голый, двое бродяг, да еще я позади, сижу, уцепившись за ремень и откинув голову на мягкую подушку, и надменно оглядываю окрестности – ни дать ни взять новоявленная калифорнийская банда, прибывшая оттяпать у Чикаго его добычу, шайка головорезов, сбежавших из тюрем подлунной Юты. Когда мы остановились у бензоколонки маленького городка заправиться и выпить кока-колы, люди вышли поглазеть на нас, при этом никто не проронил ни слова, но каждый, по-моему, старался на всякий случай запомнить наши приметы. На деловые переговоры с девушкой, которая держала бензоколонку, Дин направился, набросив на плечи футболку. Произнеся, как всегда, несколько отрывистых грубоватых фраз, он вернулся в машину, и мы покатили дальше. Очень скоро багровый свет сменился пурпурным, промелькнула последняя из околдованных речушек, и в стороне от дороги мы увидели далекие дымы Чикаго. От Денвера до Чикаго, с заездом на ранчо Эда Уолла, 1180 миль, мы проехали ровно за семнадцать часов, не считая двух часов в канаве, трех на ранчо и двух в полицейском участке Ньютона, Айова, пересекли страну со средней скоростью семьдесят миль в час и с одним водителем. Что является своеобразным безумным рекордом.
10
Прямо перед нами засверкали огни огромного Чикаго. В мгновение ока мы оказались на Мэдисон-стрит в окружении шумной толпы бродяг. Одни разлеглись на тротуаре, задрав ноги на бордюр, сотни других толпились в дверях пивных и в узких переулочках.
– Эй, смотрите не прозевайте старого Дина Мориарти, в этом году он вполне мог забрести в Чикаго!
На этой улице мы высадили бродяг и направились в сторону центра. Визгливые трамваи, разносчики газет, спешащие куда-то девицы, воздух, напитанный запахами жареной снеди и пива, мерцающая неоновая реклама – «Ого! Мы в большом городе, Сал!»
Первым делом надо было подыскать укромное местечко для «кадиллака», а потом умыться и поприличней одеться. Через дорогу от общежития Христианской ассоциации мы обнаружили узкий проход между кирпичными домами, куда загнали «кадиллак», для пущей боевой готовности развернув его мордой на улицу, после чего вместе со студентами направились в общежитие, где они сняли комнату, пустив нас на часок в свою ванную. Мы с Дином побрились и приняли душ, я обронил в коридоре бумажник, Дин нашел его и уже собрался украдкой сунуть в карман рубахи, когда до него дошло, что бумажник наш, чем он был донельзя разочарован. Потом мы распрощались с ребятами, которые были страшно рады, что добрались до места целыми и невредимыми, и отправились перекусить. Сумрачный старый Чикаго, населенный странными людьми не то восточного, не то западного типа, оживал и выплескивался на улицы. Стоя в закусочной, Дин почесывал живот и пытался осмыслить происходящее. Ему захотелось пообщаться с чудаковатой немолодой негритянкой, которая, войдя в закусочную, с порога поведала о том, что денег у нее нет, однако имеются с собой сдобные булочки, и спросила, не дадут ли ей здесь немного масла. Вошла она, покачивая бедрами, а получив отказ, удалилась, вихляя задом.
– У-ухх! – вымолвил Дин. – Давай-ка ее догоним, давай затащим ее в подворотню, в наш родимый «кадиллак». Устроим потеху!
Однако мы тут же о ней позабыли и, покружив в Петле, направились прямиком на Норт-Кларк-стрит, желая поглазеть на тамошние танцевальные притоны и послушать «боп». И что за ночка нам предстояла!
– Ах, старина, – сказал Дин, когда мы стояли у входа в бар, – вот тебе улица жизни, только вдумайся: по Чикаго шляются китайцы! Что за чудной город – красотища! А вон та бабенка в окне наверху – вывалила из ночной рубашки свои мощные сиськи и глядит себе вниз, а глазищи-то какие огромные! Ну и ну! Сал, мы обязаны ехать без остановок, пока не доедем.
– Куда ехать, старина?
– Не знаю, но мы обязаны ехать.
Потом появилась компания молодых «боп»-музыкантов, которые вылезли из автомобилей с инструментами в руках. Они гурьбой ввалились в салун, а мы последовали за ними. Расположившись на сцене, они принялись дудеть, а только этого мы и ждали! Лидером был худой, сутулый и узкоплечий тенор-саксофонист с надменно поджатыми губами, одетый в просторную рубаху спортивного покроя. В жаркой ночи он не терял хладнокровия, а глаза выдавали в нем человека, потакающего лишь собственным желаниям. Он взял свою дудку, хмуро заглянул внутрь и сыграл спокойную, но замысловатую мелодию, грациозно притопывая ножкой, чтобы уловить одни идеи, и слегка отклоняясь в сторону, чтобы пропустить мимо ушей другие. «Дуй», – очень тихо произносил он, когда солировать брался кто-нибудь из других музыкантов. Среди них был Прес – напоминающий веснушчатого боксера, красивый светловолосый здоровяк, тщательно облаченный в плотный клетчатый костюм удлиненного покроя, вот только воротник стоял неважно, да и галстук был завязан с тонко рассчитанной небрежностью. Обливаясь потом, он встряхивал свою дудку и извивался, разве что в нее не вползая, а звук – в точности как у самого Лестера Янга.
– Видишь, старина, Прес во всем старается походить на музыканта, который заколачивает большие деньги, он единственный, кто хорошо одет, погляди, как он нервничает, когда фальшивит, а вот лидер – тот, что играет кул-джаз, велит ему взять себя в руки и дуть поспокойней, ведь самого его волнует одно только звучание да неисчерпаемое богатство музыки. Он артист. Он учит юного Преса, боксера. Однако полюбуйся на остальных!
Третий саксофонист играл на альтовой дудке, спокойный, задумчивый восемнадцатилетний негр чарли-паркеровского типа. Большеротый школьник, вымахавший выше всех прочих музыкантов, он держался на сцене весьма степенно. Поднеся инструмент к губам, он принялся негромко и вдумчиво извлекать из него фразы, напоминающие птичьи трели и выстроенные согласно архитектурной логике Майлза Дэвиса. Это были дети великих новаторов «бопа».
Некогда среди новоорлеанской грязи возник Луи Армстронг с его прекрасной яростной музыкой; предшественниками его были безумные музыканты, которые в праздник вышагивали по улицам, дробя марши Сузы на мелодии рэгтайма. Потом появился свинг, а с ним – Рой Элдридж, мужественный и сильный, и из трубы его хлынули неслыханные доселе волны мощи, логики и утонченности; с горящими глазами и ослепительной улыбкой он подносил инструмент к губам, и по всем приемникам звучала музыка, расшевелившая наконец джазовый мир. И тогда пришел Чарли Паркер, малыш из матушкиного дровяного сарая, что в Канзас-Сити, он дудел среди бревен в свой перемотанный тесьмой альт, упражняясь на нем в дождливые дни, а выбирался из сарая лишь для того, чтобы своими глазами увидеть, как свингует старик Бейси, и услышать ансамбль Бенни Мотена, где играл Пейдж «Жаркие Губки», да и всех прочих… Чарли Паркер покинул дом и приехал в Гарлем, где встретил безумного Телониуса Монка и еще более безумного Гиллеспи… Чарли Паркер в молодые годы, когда он получал зуботычины, а играя, ходил с шапкой по кругу. Немногим старше его и Лестер Янг, тоже из Канзас-Сити, этот угрюмый безгрешный увалень, в котором воплотилась вся история джаза; ведь когда он поднимал инструмент и держал его горизонтально на уровне рта, не было музыканта более великого; но по мере того, как отрастали его волосы, а сам он становился все ленивее и развязнее, дудка его опускалась, пока наконец не опустилась совсем, и сегодня, когда он носит башмаки на толстой подошве, чтобы не ощущать пешеходных тропок жизни, он слабыми руками прижимает инструмент к груди и играет холодные и простые, стерильные фразы. Да, перед нами были сыны американской «боп»-ночи.
Они были порождением странным и удивительным: чернокожий альт-саксофонист задумчиво и гордо созерцал что-то над головами публики, а молодой, высокий и стройный блондин с денверской Куртис-стрит, в джинсах с утыканным заклепками ремнем, посасывал мундштук в ожидании, когда закончат остальные; а когда они закончили, вступил он, и невозможно было не насторожиться и не начать разыскивать то место, откуда зазвучало это соло, потому что исходило оно из прижатых к мундштуку ангельски улыбающихся губ и было тихим, нежным, волшебным соло на альте. Одинокий, как сама Америка, раздирающий душу звук в ночи.
Что же прочие и как они строили звучание? Был среди них контрабасист – жилистый, рыжеволосый, с бешеными глазами; неистово дергая струны, он то и дело бился о контрабас бедром, а в наиболее темпераментных местах разевал рот, словно впадая в транс.
– Вот тебе парень, старина, от которого ни одна девица не отвертится!
Грустный барабанщик, похожий на нашего белого хипстера с сан-францисской Фолсом-стрит, вконец одурев, смотрел прямо перед собой широко раскрытыми невидящими глазами, жевал резинку и в самозабвенном порыве вдохновения с чисто райховской неутомимостью тряс головой. Пианист – детина-итальянец с мясистыми пальцами шофера – играл глубоко и сильно. Продолжалось это около часа. Никто не слушал, у стойки чесали языки старые бродяги с Норт-Кларк, вскрикивали в раздражении визгливые шлюхи. Куда-то направлялись таинственные китайцы. В зал вторгались жуткие звуки танцевального притона. А музыканты знай себе играли. На тротуаре у входа возникло привидение: шестнадцатилетний паренек с козлиной бородкой и тромбонным футляром. Этот рахитично-худой сумасброд хотел влиться в компанию музыкантов, а те знали его и не желали с ним связываться. Крадучись он вошел в бар, тайком достал из футляра тромбон и поднес его к губам. Никакого эффекта. На него никто не взглянул. Ребята доиграли, собрали инструменты и отправились в другой бар. Но он был неугомонен, этот тощий чикагский малыш. Оставшись один, он напялил темные очки, поднес тромбон к губам и, издав жалобный стон, выбежал вслед за музыкантами. Они ни за что не примут его в свою команду – ни дать ни взять дворовые футболисты, что играют на пустыре за топливной цистерной.
– Все эти ребятишки живут вместе со своими бабусями, в точности как Том Снарк и наш альтовый Карло Маркс, – сказал Дин.
Мы помчались догонять всю честную компанию. Музыканты обосновались в клубе Аниты О’Дэй, где, распаковавшись, играли до девяти утра. А мы с Дином пили пиво.
В антрактах мы садились в «кадиллак» и колесили по Чикаго в поисках девочек. А тех отпугивал наш большой, обезображенный шрамами автомобиль – предвестник беды. В своем бешеном неистовстве Дин с маниакальным хихиканьем наезжал задним ходом прямиком на водоразборные краны. К девяти часам машина представляла собой настоящую развалину: тормоза больше не работали, в крыльях зияли пробоины, громко дребезжали все стержни. Дин уже был не в силах остановить машину на красный свет, и она лишь судорожно дергалась на мостовой. За эту ночь она заплатила сполна. До блеска начищенный лимузин превратился в грязный башмак.
– Красотища! – Ребята все еще играли у «Нитса».
Внезапно Дин уставился во тьму угла позади эстрады и сказал:
– Сал, явился Бог.
Я осмотрелся. Джордж Ширит. И, как всегда, подперев незрячую голову бледной рукой, он по-слоновьи навострил уши, вслушиваясь в американские звуки, чтобы подчинить их своей английской летней ночи. Потом ребята принялись уговаривать его подняться и сыграть. Он уступил. И исполнил бесчисленное множество тем с поразительными аккордами, которые возносились все выше и выше, до тех пор пока рояль не оказался забрызганным потом, а всех слушателей не охватил благоговейный страх. Через час его увели со сцены. Он вернулся в свой темный угол – старый Бог Ширинг, – и музыканты сказали:
– После этого нам здесь делать нечего.
Однако худощавый лидер нахмурился:
– Давайте все-таки сыграем.
Как раз теперь у них должно было что-то получиться. Всегда есть нечто большее, всегда можно сделать маленький шаг вперед – предела нет. Теперь, после Ширинга, они стремились найти новые ходы, они выбивались из сил. Они корчились, извивались – и играли. Время от времени раздавался отчетливый и стройный крик, и в нем слышался намек на мелодию, которая в один прекрасный день станет единственной на свете и возвысит человечьи души, поселив в них радость. Они нашли эту мелодию, потеряли, вступили в борьбу за нее и нашли опять, они смеялись и плакали, а Дин за столиком обливался потом и заклинал их: еще, еще, еще…
В девять часов утра все – музыканты, девицы в брюках, бармены и все тот же маленький, тощий, несчастный тромбонист – вывалились из клуба в оглушительный грохот чикагского дня и разошлись отсыпаться перед следующей сумасшедшей «боп»-ночью.
Мы с Дином содрогнулись от резкого шума. Пришло время вернуть «кадиллак» владельцу. Тот жил на Лейк-Шор-драйв, в шикарном доме с громадным подвальным гаражом, которым заправляли насквозь промасленные негры. Подрулив туда, мы поставили замызганную развалину на якорь. Механик отказался признать в ней «кадиллак». Мы вручили ему бумаги. Взглянув на них, он почесал затылок. Надо было уносить ноги. Что мы и сделали. На автобусе мы вернулись в центр Чикаго, и дело с концом. А по поводу состояния машины мы не услыхали от нашего чикагского барона ни словечка, хотя у него были наши адреса и он вполне мог подать жалобу в суд.
11
Пришла пора ехать. Мы взяли билеты на автобус до Детройта. Кое-какие деньги у нас еще оставались. Нагруженные нашим жалким багажом, мы поплелись через автовокзал. Бинт на Диновом пальце стал почти угольно-черным и весь размотался. Выглядели мы не менее несчастными, чем любой, окажись он на нашем месте. Смертельно уставший, Дин уснул в автобусе, который мчался по штату Мичиган. Я разговорился с пышной деревенской девицей в хлопчатобумажной блузке с глубоким вырезом, обрамлявшим красивую загорелую грудь. От девицы веяло скукой. Рассказывала она о том, как деревенскими вечерами стряпает на веранде воздушную кукурузу. Быть может, в другое время я бы от души порадовался ее речам, однако, видя, что они не доставляют радости ей самой, я понимал: вся их суть в том, кому чем следует заниматься.
– А чем ты еще развлекаешься?
Я пытался навести ее на мысль о парнях и сексе. В устремленном на меня взгляде ее больших темных глаз была пустота и еще – нечто вроде досады, множество поколений тому назад въевшейся в кровь ее предков, потому что впустую звучали их мольбы – о чем бы они там ни молили, хотя и это известно всем.
– Чего ты хочешь от жизни?
Я желал прошибить ее, выжать из нее ответ. А она понятия не имела о том, чего хочет. Она бормотала что-то о работе, о кино, о летних поездках к бабушке, о том, что мечтает съездить в Нью-Йорк и наведаться в «Рокси», перечисляла, какие бы по этому случаю надела наряды – вроде тех, что надевала на прошлую пасху: белую шляпку с розами, розовые туфельки-лодочки и габардиновое пальто цвета лаванды.
– Что ты делаешь по воскресеньям? – спросил я.
Она сидит на веранде. Парни ездят мимо на велосипедах и останавливаются поболтать. Она читает газетный юмор, она лежит в гамаке.
– Что ты делаешь теплыми летними вечерами?
Она сидит на веранде, она смотрит на проезжающие машины. Они с матерью стряпают воздушную кукурузу.
– А что делает летними вечерами твой отец?
Он работает в ночную смену кочегаром, всю жизнь он потратил на то, чтобы прокормить женщину с ее отпрысками, а взамен – ни уважения, ни любви.
– Что делает летними вечерами твой брат?
Он катается на велосипеде, он торчит у киоска с газировкой.
– К чему он стремится? К чему стремимся все мы? Чего мы хотим?
Она не знала. Она зевнула. Ей хотелось спать. Это уже было чересчур. Никто этого сказать не сможет. Никто никогда не скажет. Все было кончено. Ей было восемнадцать, она была очень миловидной – и пропащей.
А мы с Дином, такие грязные и лохматые, словно питались в последнее время одной саранчой, вывалились из автобуса в Детройте. Утра мы решили дождаться в ночном кинотеатре в районе притонов. В скверах было уже холодновато. Здесь, в этих сомнительных кварталах Детройта, бывал некогда Хассел, и внимательный взгляд его темных глаз не раз проникал внутрь всех здешних наркоманских притонов и ночных кинотеатров, всех шумных баров. Призрак Хассела не давал нам покоя. Никогда больше не отыщем мы его на Таймс-сквер. Мы подумали, что в Детройт могло занести и Старого Дина Мориарти – но там его не было. Заплатив по тридцать пять центов, мы вошли в старенький, видавший виды кинотеатр, поднялись на балкон и просидели там до утра, до тех пор, пока нас оттуда не выставили. Люди в этом ночном зальчике были людьми, дошедшими до последней черты. Измочаленные негры, которых молва привела из Алабамы на здешние автомобильные заводы; старые белые нищие; молодые длинноволосые хипстеры, которые оказались в конце пути и пили теперь вино; потаскухи, обыкновенные влюбленные парочки и домохозяйки, которым нечем было заняться, некуда идти и не в кого верить. Даже просеяв весь Детройт сквозь сито, и то не соберешь в одном месте столь чистого конгломерата изгоев. Шел фильм про «Поющего Ковбоя» Эдди Дина и его лихого белого коня Блупа – это номер один. Под номером два в программе из двух фильмов были Джордж Рафт, Сидни Гринстрит и Питер Лорри в картине про Стамбул. За ночь мы посмотрели каждый из этих фильмов по шесть раз. Мы видели, как они просыпаются, слышали, как они спят, чуяли, что они видят во сне, и к утру насквозь пропитались странным Серым Мифом Запада и таинственным темным Мифом Востока. Все мои последующие поступки были непроизвольно и подсознательно продиктованы этими ужасными осмотическими впечатлениями. Не меньше сотни раз слышал я, как зубоскалит верзила Гринстрит; слышал, как затевает свое гнусное жульничество Питер Лорри; меня одолевали параноидальные страхи Джорджа Рафта; я скакал верхом и пел вместе с Эдди Дином и перестрелял множество угонщиков скота. Зрители прикладывались к бутылкам и вертели головами, отыскивая себе в темном зале какое-нибудь занятие, кого-нибудь, с кем можно поговорить. Но никто из этих виновато-тихих людей не произносил ни слова. Пасмурный рассвет, который призрачным облаком поднялся за окнами кинотеатра и уцепился за карниз, застал меня спящим. А пока я храпел, уронив голову на деревянный подлокотник, шестеро служителей кинотеатра сходились с разных сторон, собирая воедино накопленный за ночь мусор, и под самым моим носом росла огромная пыльная куча – в конце концов они едва не смели в нее и меня. Все это мне известно со слов Дина, который сидел сзади, девятью рядами дальше. Все окурки, бутылки, спичечные коробки, все нажитое и прожитое было сметено в эту кучу. Вынеси они меня вместе с мусором, и Дин никогда бы меня больше не увидел. Ему пришлось бы скитаться по всем Соединенным Штатам и заглядывать в каждый мусорный ящик, от побережья до побережья, покуда он не нашел бы меня, свернувшимся, как зародыш, среди хлама моей жизни, его жизни и жизни всякого, кому есть до этого дело, да и всякого, кому дела нет. Что бы я сказал ему из своего мусорного чрева? «Не тревожь меня, старина, я здесь счастлив. Ты потерял меня как-то ночью в Детройте, в августе сорок девятого. Какое право ты имеешь приходить и нарушать безмятежный ход моих грез в этом блевотном ящике?» В 1942 году я стал героем одной из самых грязных драм всех времен. Тогда я был моряком и однажды отправился выпить в кафе «Империал» на Сколлей-стрит в Бостоне; выпив шестьдесят стаканов пива, я удалился в уборную, где и уснул, заключив в объятия унитаз. За ночь там перебывало не меньше сотни моряков и разного рода штатских, и все направляли на меня свои склонные к чувствительности орудия, отчего к утру я до неузнаваемости задубел. Ну и что из того, в конце концов? Анонимность в мире людей лучше, чем слава на небесах, ведь что есть небеса? Что есть земля? Все в душе.
Бормоча себе под нос какую-то тарабарщину, мы с Дином выползли на рассвете из этой кошмарной дыры и отправились разыскивать обещанную нам в бюро путешествий машину. Проведя добрую половину утра в негритянских барах, где мы пытались приударить за девицами, и наслушавшись музыкальных автоматов с джазовыми пластинками, мы, нагруженные своими дурацкими пожитками, одолели местными автобусами пять миль до дома человека, который должен был взять с нас по четыре доллара за поездку в Нью-Йорк. Это был очкастый блондин средних лет, имевший жену, ребенка и приличный дом. Его милейшая жена в хлопчатобумажном домашнем платье предложила нам кофе, но мы были слишком поглощены разговором. К тому времени Дин настолько вымотался и лишился рассудка, что его взор радовало решительно все. Он был близок к очередному благоговейному неистовству. Он непрерывно потел. Как только мы оказались в новеньком «крайслере» и тронулись в сторону Нью-Йорка, бедолага хозяин понял, что взял с собой в поездку двух маньяков, однако он безропотно перенес наше присутствие, а когда мы проехали стадион «Бриггз» и заговорили о шансах «Детройтских тигров» на будущий сезон, вполне освоился с ситуацией.
В туманной ночи мы проехали через Толедо и двинулись по старому Огайо. До меня дошло, что я начинаю колесить по одним и тем же дорогам Америки, словно заделался коммивояжером: сумбурные путешествия, мешок с никудышным товаром, на самом дне – гнилые бобы, никто ничего не покупает. Неподалеку от Пенсильвании хозяин устал, весь остаток пути до Нью-Йорка машину вел Дин, и вскоре мы услышали по радио шоу Сида Симфонии с самым новейшим «бопом» – мы наконец въезжали в великий главный город Америки. Попали мы туда ранним утром. Таймс-сквер ходила ходуном, ведь Нью-Йорк никогда не засыпает. По дороге мы непроизвольно поискали глазами Хассела.
Через час мы с Дином добрались до новой тетушкиной квартиры на Лонг-Айленде, а сама тетушка, пока мы ковыляли вверх по лестнице, заканчивая путь, начатый в Сан-Франциско, была поглощена оживленным спором об оплате с малярами, друзьями семьи.
– Сал, – сказала тетушка, – несколько дней Дин может пожить у нас, а потом ему придется убраться, ты меня понимаешь?
Путешествие закончилось. В ту ночь мы с Дином вышли прогуляться среди топливных цистерн, железнодорожных мостов и противотуманных фонарей Лонг-Айленда. Помню, как он остановился у фонарного столба.
– Когда мы прошли вон тот фонарь, Сал, я еще хотел рассказывать дальше, но теперь вставлю новую мысль, а когда дойдем до следующего, вернусь к первой теме, идет?
Разумеется, я согласился. Мы так привыкли путешествовать, что не могли не исходить пешком весь Лонг-Айленд, однако дальше земли не было, только Атлантический океан, лишь до него можно было дойти. Мы обменялись крепким рукопожатием и условились навсегда остаться друзьями.
Дней через пять мы попали на нью-йоркскую вечеринку, там я увидел девушку по имени Инес и сказал ей, что со мной пришел друг, с которым она непременно должна познакомиться. Я был пьян и сказал ей, что он ковбой.
– Ах, я давно мечтаю познакомиться с ковбоем!
– Дин! – Я попытался перекричать шумную компанию, в которую входили Ангел Лус Гарсия, поэт; Уолтер Эванс; Виктор Виллануэва, венесуэльский поэт; Джинни Джоунз, моя бывшая любовь; Карло Маркс; Джин Декстер и прочие, и прочие, и прочие. – Подойди-ка сюда, старина!
Дин в смущении подошел. Спустя час, в разгар хмельной и претенциозной вечеринки («в честь окончания лета, конечно»), он уже стоял на коленях, уткнувшись подбородком ей в живот, рассказывал ей обо всем на свете, все на свете обещал и обливался потом. Инес была высокой привлекательной брюнеткой – как сказал Гарсиа: «Нечто в духе Дега» – и во всем походила на красивую парижскую кокотку. Через пару дней они уже звонили по междугородному телефону в Сан-Франциско и пытались выторговать у Камиллы бумаги, необходимые для развода, а значит – и для их брака. Мало того, через несколько месяцев Камилла родила Дину второго ребенка – результат взаимопонимания, достигнутого ими на пару ночей в начале года. Миновало еще несколько месяцев, и родила Инес. Вместе с одним внебрачным ребенком где-то на Западе у Дина теперь стало четыре малыша и не стало ни цента, а все невзгоды, восторженность и скорость оставались при нем, как и прежде. А в Италию мы так и не поехали.
Часть четвертая
1
От продажи книги мне перепали кое-какие деньги, и я привел в порядок тетушкины дела, заплатив за квартиру до конца года. Всякий раз, когда в Нью-Йорк приходит весна, меня гипнотически манит цветение той земли, что лежит за рекой, в Нью-Джерси, и я не могу не уехать. Я и уехал. Впервые в жизни я простился с Дином, оставив его в Нью-Йорке. Он работал на автостоянке на углу Мэдисон-авеню и Сороковой. Как обычно, он носился взад-вперед в своих стоптанных башмаках, в футболке и сползших на животе штанах, без всякой посторонней помощи отражая чудовищный натиск автомобилей.
Когда же я заходил к нему, обычно уже смеркалось и делать было нечего. Он стоял в домике, пересчитывая квитанции и почесывая живот. Радио никогда не выключалось.
– Слыхал, старина, как комментирует баскетбольные матчи этот ненормальный Марти Гликман? «Пас-в-центр-площадки-дриблинг-обманное-движение-бросок-два-очка!» Более великого комментатора я в жизни не слышал.
Он дошел до того, что стал находить удовольствие в таких простых вещах. Жили они с Инес в квартирке без отопления на Восточных Восьмидесятых. Вечерами, вернувшись домой, он стаскивал с себя всю одежду, облачался в длинную, до бедер, китайскую шелковую куртку и усаживался в мягкое кресло выкурить начиненный травкой кальян. В этом, да еще в колоде порнографических карт состояли его домашние развлечения после трудового дня.