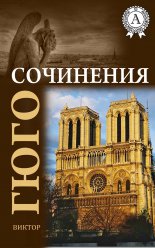Воин Доброй Удачи Бэккер Р. Скотт

Выдумка слишком очевидна, ему стоит лишь прикинуть срок ее беременности, чтобы понять невозможность зачатия еще в Момемне. Но если подумать, разве такой человек хоть как-то может разбираться в длительности беременности, тем более от насилия, учиненного божеством? По крайней мере, мать носила всех братьев и сестер намного дольше обычного срока.
– Теперь понимаешь? Ты понимаешь, чьего ребенка я ношу…
Бога… Я ношу бога под сердцем. Теперь кажется, что одного убеждения достаточно, чтобы это стало правдой.
Еще один дар кирри.
Глаза его блеснули. От удивления и от страха. Она сдерживает радостный восклик. Его проняло. Наконец-то его лицо что-то выразило!
Его бросок был таким неожиданным и стремительным, что она даже не понимает, что происходит, пока не оказывается прижатой к земле. Широкая ладонь зажимает ей рот, закрыв пол-лица. Глаза пылают дикой яростью. Он наклоняется почти вплотную, обдавая дурным запахом изо рта.
– Никогда! – шепотом рявкает он. – Никогда больше не поминай об этом!
И в следующий момент она уже может снова двигаться, только губы и щеки саднит, а голова кружится.
Он отворачивается, возвратившись к созерцанию нечеловека. Не остается ничего другого, как только сидеть и плакать.
Отчаяние охватывает ее после столь глупого и безуспешного гамбита. Ведь это скальперы. Неумолимые. Такие люди не тратят времени на рассуждения, а женщин спрашивают лишь затем, чтобы те могли дать угодный им ответ. И без кирри они вечно балансировали на гребне порыва и расчета, безраздельно веря лишь в утоление своих желаний. Если кое-кого один лишь намек на небрежение приводит в беспокойство, таких, как скальперы, напротив, привести в сознание почти невозможно ничем, кроме крайнего бедствия. Лишь кровь – из их собственных жил – могла побудить их усомниться в чем бы то ни было.
Для них все было ясно. Лорд Косотер фанатично предан аспект-императору. Друз Акхеймион его пленник. А они шаг за шагом приближаются к Сокровищнице, чтобы ее ограбить.
И если они вовлечены в какие-то более запутанные интриги – им нет до того дела.
Настала ночь, но скальперы никак не угомонятся, все спорят. Их возбужденные голоса временами обрывает рык Капитана. Они сгрудились в нескольких шагах от нее, отбрасывая неровные тени в свете звезд. В ночь несется скрипучий смех Сарла. Отчего-то причина их спора не волнует Мимару, хотя до нее время от времени доносятся недвусмысленные упоминания «персика». Лучше думать о припасенной бритве.
Крепко связанный Акхеймион лежит подле нее, уткнувшись лицом в траву. Спит или прислушивается?
Клирик сидит, скрестив ноги, тоже неподалеку, но высокие стебли трав скрывают его колени. Неподвижный его взгляд устремлен на нее. Язык по-прежнему помнит холод его пальца.
Она медленно поднимает бурдюк с водой и выливает себе на голову. Вода теплыми ручейками сбегает вниз. Не отрывая глаз от нечеловека, она подносит бритву к мокрым волосам.
Движения ее привычны и споры. Она обривала себе голову множество раз, поскольку в Каритасале шлюхам принято было носить парик. К тому времени как посланные матерью воины явились за ней с мечами и факелами, париков у нее уже набралось одиннадцать штук.
Галиан возмущенно восклицает:
– Отправиться в путь? Это же…
Срезанные локоны собираются в спутанную груду у нее на коленях. Некоторые пряди уносит ветер, они зацепляются за стебли травы где-то позади.
Клирик бесстрастно наблюдает, два белых блика оживляют черноту его взора.
Она добавляет воды на обритую голову и энергично массирует, пока грязь на давно не мытой коже не превращается в подобие мыльной пены. Снова взявшись за бритву, она снимает остатки волос. А потом сбривает и брови.
Закончив, она сидит под неподвижным взглядом нелюдя и наслаждается прикосновениями ветерка к оголившейся коже. Тишина все длится. Клирик не шевелится, отчего воздух вокруг, кажется, вот-вот начнет сыпать искрами.
Мимара подползает ближе, прямо туда, куда упирается этот неподвижный взор. По коже бегут мурашки, словно она оголилась целиком.
– Помнишь меня? – наконец шепчет она.
– Да.
Она подносит руку к его лицу, проводит кончиком пальца по мягким губам. А затем раздвигает их, ощутив тепло внутри. Она осторожно проталкивает палец между зубными пластинами, удивившись округлости краев. Глубже, до самого языка, и проводит пальцем по средней бороздке.
«Сколько же тысяч лет?» – дивится она. И скольких он наставлял и поучал?.
Она вынимает палец у него изо рта, который теперь поблескивает нечеловеческой слюной.
– А жену свою ты помнишь?
– Я помню все, что утратил.
Она красива. И сознает это. Ведь она так походит на мать, Эсменет, самую признанную красавицу Трехморья. И бессмертные небезразличны к красоте смертных, ей это ведомо…
– Как она умерла?
Из правого глаза его выкатывается слеза прозрачной бусиной по щеке и повисает на подбородке.
– Вместе со всеми… Сир’камир тилес пим’ларата…
– Я похожа на нее?
– Может быть… – говорит он, опуская свой взор. – Если бы ты рыдала… Если была бы в крови.
Она придвигается еще ближе, касаясь своими коленями его. Кожаный мешочек с кирри свисает с пояса, частично утонув в поросли трав. Откуда-то изнутри поднимается головокружительная опаска, будто этот мешочек – младенец, которого положили совсем на край стола. Мимара ухватывается за руки Клирика.
– Ты дрожишь, – шепчет она, стараясь не смотреть больше на заветный мешочек. – Хочешь меня? Хочешь… – сглотнув, она договаривает: – овладеть мной?
Он высвобождается из ее рук и смотрит себе на ладони. Позади него громоздятся, наползая друг на друга, черные тучи, заволакивая звезды. Разряд молнии заливает равнину белым ослепительным светом. На миг выступают неровные края холмов, гладкий простор за ними.
– Я хочу… – говорит он.
– Да?
Он с усилием, будто борясь с удерживающими его веки привязями, поднимает взгляд.
– Я… Я хочу… задушить тебя… разорвать своими…
Его дыхание замирает. Печальный взгляд становится убийственным. И он выговаривает, будто затерявшись в чужой душе:
– Хочу услышать, как ты зарыдаешь.
Она уже ощущает, как накатывает его неодолимая сила, как она будет метаться, стоит лишь ему только…
«Что ты делаешь?» – спрашивает оставшаяся сознательной часть ее. Она и сама не понимает, к чему стремится и чего хочет достичь. Соблазнить его? Чтобы спасти Акхеймиона? Или чтобы завладеть кирри?
Или же тяготы наконец сломили ее? Может, так и есть? И она по-прежнему, после всех долгих лет, переходит той девочкой от одного моряка к другому и плачет под стоны мужчин и скрип топчана?
Но вот она забирается к Клирику на колени, охватывая его талию ногами. Дух захватывает от одной мысли о его древнем мужском естестве, о соитии ее цветка с его пестиком. Внутри все переворачивается, когда она представляет: как это неведомое уродство восстанет и ринется внутрь ее.
– Потому что ты любишь меня?
– Я…
Лицо его искажает гримаса, и у нее перед глазами мелькают шранки, воющие в колдовском огне. Он запрокидывает лицо к куполу ночи – и вот перед ней мир до появления людских племен, когда множество нелюдей поднимались из своих подземных дворцов, гоня сынов человеческих перед собой.
– Нет! – вырывается у Клирика из груди. – Нет! Потому что я… должен вспомнить! Я обязан помнить!
Чудесным образом она теперь понимает. Понимает, чего стремилась достичь.
– И поэтому ты должен предать…
Вся страсть уходит из него, и он застывает. Из глаз начинает струиться уверенность тысячелетий. Исчезает сутулящая безвольность, нерешительности как не бывало. Он расправляет плечи и заводит руки за спину гордым жестом. Эту позу – с соединенными за спиной ладонями – она помнит по множеству древних барельефов Кил-Ауджаса.
Голоса скальперов продолжают свою перепалку. Тучи ползут, затягивая купол небес, словно саваном. Голос Капитана заглушается глухим раскатом грома.
Первые капли дождя с силой пробивают пыль, покрывшую землю и травы.
– Кто ты? – не оставляет Мимара своего натиска. – Кто ты на самом деле?
Бессмертный ишрой глядит на нее с легкой усмешкой, но в глазах его занялось иное пламя, помимо бездонности сожаления.
– Ниль’гиккас… – бормочет он. – Я – Ниль’гиккас. Последний повелитель нелюдей.
Молча, как обнаружил старый колдун, наблюдать даже лучше.
Меньше говоришь – больше видишь. Поначалу глаза устремлены наружу, как обычно, когда слова сказаны и по ответу надлежит установить, насколько твоя ложь оказалась действенной. Но если твой голос наглухо замурован, когда нет ни малейшей возможности выразить себя словом, глаза начинают вести себя по-другому. Словно заскучавшие дети, они начинают отыскивать для себя занятия.
Вроде наблюдения за обычно совершенно неприметными вещами.
Он заметил, что Галиан спит поодаль от остальных, заметил, как он наносит непонятные надрезы на руки, когда никто на него не смотрит. Заметил взгляды, которые Поквас останавливал на этих ранках, когда Галиан отвлекался на что-то. Услышал, как Ксонгис что-то нашептывает над своими стрелами – то ли молитвы, то ли какие-то свои заклинания. И как Колл конвульсивно дергается, когда никто на него не смотрит.
Заметил, как посуровела жизнь, когда несколько стоянок кряду не стали разводить костер. И все сидели в темноте.
Видеть неприметное означало понять, что слепота – понятие относительное. Сказать, что все слепы в какой-то мере – к себе ли, или к чужим махинациям – было бы трюизмом. Однако поражало то, до какой степени этот трюизм продолжал оправдываться, люди раз за разом принимали части целого за всю картину.
Целыми днями он теперь размышлял над неприметностью неведомого.
О крюке, на котором крепился весь обман.
Теперь с трудом удавалось припомнить, чем была занята его душа, прежде чем Клирик с Капитаном напали на него. По-видимому, настолько был озабочен борьбой с внутренними демонами, что о тех, что были под боком, позабыл. Ему ни разу не пришло в голову, что лорд Косотер, жестокость которого сделалась для него невольным союзником, мог оказаться агентом аспект-императора. Ужас за Мимару совершенно подавил всякую тревогу за себя самого, первой мыслью был страх за ее участь теперь, без защиты его магии. Извиваясь в стянувших его ремнях, с кляпом во рту, он порой не мог сдержать рвущегося из груди стона, не столько от боли физической, сколько пораженный столь диким поворотом судьбы. В толкотне вокруг девушки почти не было видно, но сомнений в намерениях схвативших ее никаких не оставалось: похоть и насилие. И вмешательство лорда Косотера ничуть его не успокоило. Он прекрасно помнил, как в самом начале похода Капитан казнил Мораубона за его попытку изнасиловать Мимару. По словам Сарла, Капитану всегда должен доставаться первый кусок. Оттого Акхеймион решил, что он просто приберег ее для себя. И ничуть не удивился, что Капитан стремился только обезоружить, а не убить девушку. Но был совершенно поражен, испытав одновременно ужас и облегчение, когда увидел, что Капитан стал перед нею на колени.
Потерял бдительность. Конечно, он не доверял этим скальперам, но думал, что они останутся верны своей природе или тому, что он принимал за их истинную природу. Считал – пока они верят, что приближаются к Казне, к несметным богатствам, которые лишь он один может им открыть – он сможет их держать в узде. Знание. Вот уж, истинно ирония судьбы. Знание стало основой неведения. Считать, что тебе все известно, означает полностью не замечать неведомого.
Каким он был глупцом. Отчего бы отряду скальперов соглашаться на подобную экспедицию? Кто мог настолько не дорожить своей жизнью, чтобы поставить ее на кон ради проверки древних слухов? Лишь фанатики и безумцы могли решиться на это. Такие, как Капитан…
Или он сам.
Полагая, что его не провести, Акхеймион сам закрыл глаза на неведомое. Перестал задаваться вопросами. Можно сказать, ослепил себя, а теперь должен найти способ побороть превратности судьбы, иначе дочь единственной женщины, которую он когда-либо любил, практически обречена.
Неведение есть вера. Знание – обман. Вопросы! Лишь в них истина.
Именно такое решение пришло в результате раздумий в первые дни его пленения. Подмечать все. Во всем сомневаться. Ничего не принимать как само собой разумеющееся.
Поэтому так быстро иссякла его злость, а душу охватило некое фаталистическое спокойствие.
Поэтому он стал выжидать.
Я жив оттого, что Косотер во мне нуждается, напоминал он себе время от времени. Жив из-за того, чего пока не могу разглядеть и понять…
Конечно, порой эти абстрактные размышления ему самому казались несколько нелепыми. Пленник настоящих головорезов, скальперов. Пленник самого заклятого врага, Келлхуса… Ведь отнюдь не одна его судьба будет решена этим броском через равнины Истиули, то, что осталось преодолеть. А он тут философствует, пока томительно тянутся часы.
Губы у него растрескались и кровоточили. Горло и нёбо покрыли язвы. Пальцы почти отнялись, запястья воспалились от пут. А он все иронизирует над недосмотром, над косностью, овладевшей его ищущей натурой.
Лишь снадобье нелюдя могло лишить его обычной наблюдательности. Лишь прах легендарного владыки.
Кирри. Яд, дарующий силу.
Чтобы напиться, достаточно запрокинуть голову.
Дождь барабанит по их головам, хлещет полотнищами вокруг. Покрытая лужами почва пузырится и чавкает под ногами, сгнившая дратва на сапогах не выдерживает у некоторых. Одежда напитывается влагой и натирает кожу. Пропитавшиеся потом ремешки расползаются. Поквасу приходится привязать тулвар к поясу, отчего позади него серповидный конец чертит неровную, дерганую линию в грязи. Сарл даже выбрасывает свою кольчугу, высказав на сей счет целую речь, перемежающуюся бешеными воплями и взрывами смеха. «Не зевай! – время от времени кричит он. – Тут, ребята, водятся голые!»
Дождь все льет и льет. По вечерам все сбиваются в кучку, чтобы поглотить свой жалкий ужин, мрачно уставившись в беспросветную мглу.
Лишь чародею, чьи волосы и борода промыты дождем и висят длинными прядями, все нипочем. Он смотрит по сторонам так внимательно, что Мимару это одновременно и ободряет и тревожит. Лучше бы уж выглядел поунылее… Казался бы тогда безобиднее.
Один только Колл вздрагивает.
На третью ночь Клирик раздевается донага и забирается на вершину горки из вертикально стоящих камней. Там он едва различим, словно серая тень, но все, за исключением Колла, взирают на него с удивлением. Мимара усвоила, что Нелюдь без этого не может, ему просто необходимо порой выкрикивать свои проповеди миру вокруг.
Все слушают его тирады о проклятиях, долгих веках потерь и бесплодия, о вырождении. «Я судил народы! – ревет он сквозь завесы дождя. – Кто вы такие, чтобы осуждать меня? На что вы способны?»
Смотрят, как он обменивается молниями с небом. Даже совсем раскисшая земля содрогается от раскатов.
Отведя от него глаза, Мимара видит, что старый чародей смотрит на нее.
Местность делается совсем неровной, все труднее становится пробираться через спутанные травы и кустарник, чьи ветви стали совсем колючими за время засухи. И все же кажется, что лес начался внезапно. Край равнины словно заворачивается кверху, и из серой дымки проступают холмы, прорезанные оврагами, по которым несутся мутные потоки, а на склонах растут куртины стройных тополей и изогнутых елей.
Куниюри, понимает Мимара. Они наконец добрались.
Больше всего поражает накатившаяся после этого усталость. Та ли она женщина, что бежала с Андиаминских Высот? Иначе ее бы охватило совсем другое чувство, близкое благоговению. Прародина высокородных норсираев, где они жили до своего уничтожения, место, глубоко почитаемое множеством слагателей Сказаний. Сколько вступлений перед развитием действия было прочитано, с описаниями деяний королей и здешних мест? Сколько свитков с произведениями пера ученых сынов Куниюри? Сколько песен о былой славе?
Но долгие дни тоскливых переходов не оставили ничего, кроме безнадежности. Мир вокруг казался слишком серым и промозглым, чтобы сиять славой.
Но вскоре дождь наконец перестал, и серая пелена облаков втянулась в сжатые кулаки мрачных туч. А стоило пробиться сквозь них лучам солнца, как те же облака расцветились золотом и пурпуром. Открылся вид на окрестные просторы, на долгие мили холмов с известняковыми выступами в шлейфах осыпей, до самого горизонта. Впервые за много дней тоска отступает.
И она вновь произносит про себя: Куниюри.
В бытность невольницей борделя это имя ей мало что говорило. Просто обозначало что-то безнадежно древнее и окутанное ореолом почтения, наподобие имени родного деда, умершего еще до ее рождения. Но когда ее мать-императрица сожгла Каритасал, все переменилось. Невзирая на показное неприятие материнских богатых даров, она радовалась и платьям, и косметике, и наставникам – вот им сильнее прочего. Открывающийся мир дурманил сознание. А Куниюри стала символом – даже в большей мере ее высвобождения и взросления, чем священной земли Сказаний.
И вот она добралась сюда, к порогу своего становления.
Вечером они стали лагерем в развалинах старинной крепости, заметив между деревьев остатки бастиона, некогда сложенного из массивных каменных блоков, теперь наполовину обвалившихся и застывших на склоне перед бастионом. После преодоления бесконечных миль пустошей равнин Истиули развалины казались даже уютными.
Дичи хватало, и стараниями Ксонгиса, бившего без промаха, на ужин у них были дрозд и оленуха. Имперский следопыт освежевал и разделал тушу, которую затем Клирик зажарил одним коротким непонятным заклинанием. Когда в глазах его угас колдовской пламень, кончик пальца засиял ярче свечи, и Мимара не могла освободиться от мысли о кирри, которое, словно сажей, покроет этот палец вечером. Клирик проводит пальцем по окорокам, потом по ребрам туши, и красная плоть шипит, превращаясь в дымящееся жаркое.
Дрозда они варят.
После еды Мимара улучает момент, когда Капитан отворачивается, и отползает под прикрытие накренившихся обломков и кустов. Дуга не соединенных раствором камней, покосившихся в разные стороны, отделяет что-то вроде внутреннего дворика среди развалин. Капитан поместил чародея у дальнего ее конца, как всегда позаботившись о том, чтобы отделить его от остальных. Мимара торопливо пробирается по внешнему краю этой дуги, хотя и страшится, что нечеловеческий слух Клирика ее обнаружит. Несмотря на его внешнюю невозмутимость, лорд Косотер относится к своему стаду с зоркостью пастуха, постоянно пересчитывая по головам и не забывая ощутимо огреть отбившихся посохом.
По мере приближения к чародею, она замедляется, скорее кожей ощущая близость его Знака, чем на глаз. Протискивается меж тонких стволов сумаха, прижимается к холодному камню. А затем ложится на живот и со змеиным упорством подползает еще ближе, пока не видит прямо перед собой спутанную гриву волос колдуна.
– Акка, – шепчет она.
Ее окутывает теплое чувство, необъяснимая уверенность, все крепнущая по мере того, как она говорит, словно стоит ей выговориться – и все дикие сложности, тугие узлы ее жизни исчезнут. Невыговоренные секреты отягощают всякого бывшего раба, тут она ничем не отличается. Они накапливают знания о сокрытом не ради власти, которую они могут дать, а чтобы немного ощутить причастность к такой власти. Все это время, даже до пленения Акхеймиона, она копила подозрения и подмечала детали. И все это время обманывалась, как и большинство мужчин, считающих, что лишь они завладели командной высотой.
То есть все это время была дурой.
Она рассказывает, что за это время узнала о Капитане и его целях.
– Он знает, что обречен. И мы – единственная его надежда на спасение, как он считает. Келлхус обещал ему рай земной. Поэтому, пока мы ему нужны, нам ничто не угрожает… Когда мне удастся разузнать, зачем мы ему нужны, то найду способ сказать тебе!
Затем она переходит к своему открытию насчет Клирика. Который оказался не просто ишроем, а гораздо более важной персоной.
– Ниль’гиккас! – шепчет она. – Последний король Нелюдей! Что это может означать?
Говорит о тех страхах, в которых сама себе не признавалась. И отчаянность этого бормотания сбивает ее с колеи, по которой мысли катились последние несколько недель или даже месяцев. Она вспоминает себя.
Мимара рассказывает ему о тех утрах в Андиаминских Высотах, полных ароматами курений, когда она нежилась в постели, глубоко и ровно дыша, наблюдая, как колышутся, словно в парном танце, невесомые занавеси на двери балкона, и жмурясь от солнца.
– Я мечтала о тебе… тебе, Акка.
Потому что он был ненастоящий, придуманный. Потому что ей по силам было вынести только придуманную любовь.
Она не сомневалась, что он прогонит ее, что будет отрицать отцовство и не захочет наделять ее знаниями, которых она так жаждала. И понимала, как это свойственно всем, пережившим неисцелимую травму, что любила его именно потому, что он ничего о ней не знал и не стал бы осуждать.
– Я ношу ребенка своей матери…
Мимара протягивает к нему руку и, хотя дрожь сотрясает ее тело, пальцы не дрожат. Сквозь свалявшиеся волосы пальцы проникают до самой кожи, и от прикосновения к горячей его коже Мимара плачет навзрыд. В этот самый момент она впервые ощущает шевеление ребенка в утробе, его крошечную пятку…
– И вот мы здесь, Акка… Куниюри. Наконец мы добрались!
Но тут голос Капитана рушит все надежды.
– Масса костей тут в земле, – говорит он из-за камня. – Так и чувствую.
Лорд Косотер поднимается с места, где притаился на корточках, и нависает над ними, потирая побаливающие от возраста колени. Она так прерывисто вдыхает, что это звучит подавленным криком. По зловещей случайности Гвоздь Небес стоит ровнехонько за его головой, высвечивая нимб волос, отчего он кажется больше похожим на мстительного призрака, чем на человека, на божество, которого забавляют страдания тех, на кого он обрушивает свою месть. В руках у Капитана зажато оленье ребро, с которого он скусывает последний кусок мяса. Борода лоснится от жира.
– Будешь дальше мне подбрасывать поводы – и твои кости присоединятся к ним.
С ленивой безжалостностью мясника, выбирающего животину на убой, он склоняется к ней, хватает сзади за шею и поднимает вопреки всем попыткам вырваться на ноги. И бросает наземь ближе к остальным скальперам. Мимара спешит подняться, но он снова сбивает ее с ног. Жесткая трава впивается в щеку.
– Это моя Тропа! – рычит Капитан, расстегивая один из своих ремней.
И она вдруг снова становится маленькой девочкой, проданной иноземным работорговцам голодающей матерью. Ежится в кругу враждебных теней, пытаясь сжаться в совсем маленький комочек, из человеческого детеныша превратившись в слепого мяучащего кутенка, в вещь, которую челюсти купцов должны раскусить и распробовать…
– Сарл! – раздается безжалостный голос. – Каков Закон Тропы?
– Прошу вааас! – рыдает она, стараясь отползти подальше. – Про-простите!
– Никакого нытья! – ликует безумец. – Не шептаться на Тропе!
Она старается заслониться, подняв руку. Ремень свистит в воздухе, прежде чем опуститься. Словно арканы музыкантов, дававших представления в трущобах Каритасала. Их грустные песни стонали под рыдания инструментов.
Мимара бросает взгляд за круг хохочущих и улюлюкающих теней. На короля нелюдей. Взывая к ужасу, что видит в его огромных глазах. Сплюнув кровь, она называет его, рыдая, по имени. Его настоящему имени.
Но тот лишь смотрит…
Ясно – он не забудет.
Той ночью он приходит к маленькой девочке. Становится подле нее на колени и подносит к губам почерневший кончик пальца.
– Прими его, – говорит он. – Ласкай его. Он придаст тебе сил.
Девочка хватает его руку и задерживает в своей. Она прижимает кончик этого пальца к его губам. А потом, скользнув в его объятья, впивает магическую силу из его уст. Кожу охватывает жар и впитывается внутрь, заставляя утихнуть все множество болей.
– Ты мог его остановить… – рыдает маленькая девочка.
– Я мог его остановить, – говорит он, величественно опуская взгляд.
И удаляется во тьму.
А на следующий день открылось Око Судии.
Исхлестанная ремнем, с ломотой во всем теле, она завтракает среди покрытых угольно-черными струпьями демонов. Даже старый чародей сидит весь покрытый нарывами, омраченный грядущими душевными муками. Галиан бросает на Мимару взгляд и что-то вполголоса говорит остальным, в ответ раздаются поганые смешки. А она и впрямь воочию видит, как всевозможные безобразные грехи громоздятся в их душах. Воровство и предательство, обман и обжорство, тщеславие и жестокость, а чаще всего – убийства.
– Насчет твоих воплей… – обращается Галиан теперь к ней с шутовской серьезностью. – Тебе стоит чаще перечить Капитану. Нам с ребятами по нраву пришлось.
Поквас хохочет, не скрываясь. Ксонгис ухмыляется, натягивая свой лук.
Удивительно, как Галиан переменился. Вначале он казался дружелюбным, вызывал доверие трезвыми и несколько лукавыми суждениями. Но по мере того как отрастала его борода и расползалась мало-помалу одежда, он сделался скрытнее. Бремя Тропы, подумала она, вспоминая, сколько нежных душ озлобил бордель.
Но теперь, видя его в истинном свете, она понимает, что, собственно, долгие месяцы тягот и даже кирри изменили его совсем немного. Такие, как он, приятны или гадки в зависимости от того, против кого дружат. С приятелями они – сама щедрость и любезность, а на всех прочих плюют.
– Багровая бабочка… – тихо произносит она, зажмуриваясь от образа из чужой памяти.
Ухмылка на лице Галиана застывает.
– Что?
– Ты изнасиловал маленькую девочку, – говорит она бывшему колумнарию. – И убил ее, стараясь заглушить ее крики… Теперь тебе снится багровая бабочка, отпечаток, которую твоя окровавленная ладонь оставила на ее лице…
Вся троица застывает. Поквас ожидает, что Галиан со смехом отвергнет обвинение, но тот молчит. При виде борьбы ужаса с наглостью в его взгляде в душе Мимары даже шевельнулась жалость.
Отныне шутить он будет воровато. Из страха.
Из всех Шкуродеров больше всего поражен Клирик, чьи прегрешения столь глубоко в него въелись, что на него страшно глядеть. Он являет из себя невозможную фигуру, нагромождение чудовищных искажений, его ангельская красота смазана уродством колдовства, стерта веками цинизма.
Но ужасает сильнее все же Капитан. Она видит сияющую белизну двух хор из-под лохмотьев и кольчуги, отчего закоснелость в его прегрешениях делается лишь контрастнее. Короста убийств, напластования жертв покрывают его с головы до ног. Глаза дымятся жестокостью.
Он дает сигнал к выступлению, после чего Око вдруг закрывается. Грехи словно всасываются внутрь, как языки пламени в обугленные сучья. Справедливость и преступления делаются вновь незримыми.
Били ее множество раз. Избиения становились конечным ритуалом бесконечной череды унизительных и мелких церемоний, из которых состояла жизнь в борделе. Еще девочкой она усвоила, что некоторые мужчины способны достичь вершины возбуждения, лишь предавшись ярости, лишь в чужом унижении. И тогда же, в детстве, научилась покидать свое тело, не закрывая при этом глаз. Не испивая чашу до дна. Тело ее при этом рыдало, стонало, исходило криком, но она, оставаясь при этом на виду, укрывалась внутри, выжидая, когда буря пронесется сверху. Всегда оставляя глоток.
И переживала поругание позже, когда возвращалась в свое рыдающее, свернувшееся калачиком тело.
«Хитрая маленькая щелка, – как-то сказал ей Аббарассал, первый ее владелец. – Таких боятся. Потому что не знаешь, чего от вас ждать… Прячетесь и выжидаете удобного случая… хотя сами не знаете, какого! Неубранного ножа. Острого осколка стекла. Неосмотрительно открытого горла. Своими глазами такое видел. А вы и сами не знаете, чего творите. Просто наносите удар, впрыскиваете свой яд – и вот свободного человека как не бывало». Тут он рассмеялся, словно из-за какого-то потешного воспоминания. «Поэтому другие бы тебя посадили на цепь или утопили бы во дворе в назидание прочим. И чтобы избавиться от лишнего беспокойства. Но я – я вижу в тебе золотое дно, крошка. Крутым мужчинам не доставит никакого удовольствия ломать уже сломленное. А таких, как ты, можно ломать хоть тысячу раз, а потом еще столько же!»
Через пять лет его тело обнаружили в сливном канале за посудомойней. По-видимому, самому Аббарасалу хватило и раза, чтобы сломаться.
Анасуримбор Мимару избивали часто, поэтому ей не впервой чувствовать холодную решимость, онемение души, чурающейся собственных острых краев. Как и побуждение встать и перед всей этой глазеющей компанией подойти прямиком к Капитану, сверлящему ее взглядом.
– Я ему все расскажу. И он тебя проклянет.
Внутренне она даже усмехается, говоря такое тому, кто проклят уже давно на веки вечные.
Интересно, каким он был в юности? Трудно себе представить, что он, как и все айнонийцы, возлежал на хетеширах – длившихся всю ночь возлияниях вперемешку с блеванием, столь популярных у айнонийской знати. Что он строил козни с теми, кто уже потерял способность самостоятельно перемещаться, разъевшись до безобразия, что он скрывал выражение своего лица фарфоровой маской во время переговоров или белил лицо, отправляясь сражаться. Высокий Айнон был страной побрякушек и духов, где мужчины состязались в красноречии и джнанийском остроумии. Где споры о количестве пуговиц могли привести к дуэли до смертельного исхода.
И вот он стоит тут, лорд Косотер, не менее свирепый, чем катнармийский дикарь, неколебимее кремня. Череду лишений, из которых состоит жизнь скальперов, он переносит лучше прочих Шкуродеров, словно родился на Тропе. Трудно себе представить человека менее подходящего для истощающей пантомимы, которой была жизни в Каритасале. Шелк, верно, порвался бы от одного прикосновения к его шкуре.
– Сама обрекаешь себя, – бросает он, почти не глядя на Мимару.
– Это почему?
Теперь он пригвождает ее своим взглядом к месту.
– Если ты права, мне ничего другого не остается, кроме как убить тебя.
Вероятно, она слишком измождена, чтобы по-настоящему испугаться, или слишком его презирает. Однако если ее улыбка и вызывает его удивление, вида Капитан не показывает.
– Думаешь, он не разглядит твоего предательства? – спрашивает она, прибегнув к тону, очень хорошо известному матери и чародею. – Думаешь, он не увидит этих самых твоих слов, когда ты преклонишь перед ним колени?
– Он увидит. Но ты не знаешь его так, как знаю я.
– То есть тебе он известен лучше?
– Между домашним очагом и полем боя огромная разница, девушка. Твой отчим и мой пророк – совершенно разные люди, уверяю тебя.
– Слова твои звучат очень уверенно.
Он окружен какой-то неподвижной аурой. Шагая с ним рядом и обмениваясь негромкими репликами, она не может избавиться от ощущения потери: этой душой движут лишь ненависть и ярость, без них она недвижна вовсе.
– В семи переходах от Аттремпа мы разгромили нумейнерийский монастырь староверов. Нас была только горстка – основные силы моих родичей двигались южнее. И все же он нашел время, чтобы проверить эффективность наших карательных усилий. Длиннобородые глупцы считали, что истинно веруют. Мы показали им истинное рвение в вере – заудунианское. Но твой отчим желал, чтобы мы сделали этот урок убедительнее, чтобы он дошел до самых тупых в Се Тидонне. Поэтому мы согнали всех монахов, оставшихся в живых после казни, и выкололи им глаза. А потом назвали Щупальцами, как их именуют и по сей день.
Договорив, он даже не поворачивается, чтобы посмотреть, какое воздействие оказали его слова. Именно это безразличие и делает разговор с ним таким невозможным, нарушение множества неписаных правил человеческого общения. Хотя он безжалостно прям, но все время поражает Мимару.
– Значит, по твоему мнению, я должна страшиться жестокости отчима?
Тут ей удается выдавить из себя смешок.
Капитан обводит взглядом ближайшие окрестности, после чего снисходит и до нее, прикидывая внутренне, что перевесит – не стоит ли избавиться от нее вопреки неким неясным обещаниям.
– Кроме того, – добавляет она, стараясь зарядить свой взгляд не израсходованным еще запасом ненависти, а потом отводит его, словно потеряв интерес к предмету разговора., – не стоит упускать из виду мою мать. Если она спалила половину города, мстя за меня, как ты думаешь, что она сделает с тобой?
День за днем они шли по мертвой земле, где сыновей убили, прежде чем они смогли стать отцами, а дочерей уничтожили до того, как их лоно созрело для семени. По земле, где было уничтожено само рождение. И она скорбит об этом.
Скорбит и об утраченной наивности, о девочке, которой надо стать ведьмой не ради знания, а чтобы лучше отомстить миру. Чтобы больнее уязвить мать, которую она не может простить.
Скорбит обо всех, кто пал в пути. Шкуродерах и Ущербах. Шепотом молится Ятвер, хотя и знает, что богине противны воюющие, способные только брать. Молится за Киампаса, за гиганта Оксвору. Оплакивает даже Сому, юношу, которого она не успела совсем узнать, когда его убили не из алчности или злобы, а просто за то, как он выглядел.
Скорбит о своем плене и страданиях чародея.
Ей жаль ботинок, что могут развалиться в любую минуту.
И черная крошка кирри, достающаяся на ее долю, тоже вызывает ее жалость.
Неведомо, чего она ждала от прибытия в Куниюри. Великие путешествия часто такие – переставляешь ноги снова и снова, целую вечность. Добраться бы до ночлега вечером, это начинает казаться единственной целью, поэтому достижение основной цели пути приходит как нечто внезапное.
Ведь она не стремилась достичь мест, виденных в древних снах. Ее не влекло сюда, как чародея.
За ней гнались.
Она думает об Андиаминских Высотах, о своей матери-императрице. Вспоминает и братца Келмомаса, что не может не вызвать тревоги, но только в той степени, как позволяет кирри.
Наконец они достигают реки, столь же большой, как Сают или Семпис, широкой и величавой, темно-зеленые мутноватые воды которой полны жизни нынешней и следов прежней, поблескивающей серебром на солнце.
Повернувшись к пленнику, Капитан спрашивает:
– Это она?
Чародей с кляпом во рту смотрит на него с отвращением.
Тогда Капитан выдергивает кляп.
– Это она?
Акхеймион сплевывает, некоторое время двигает занемевшими губами и челюстью. Мимара впервые замечает язвы, обметавшие растрескавшиеся губы. Метнув на Капитана взгляд, полный презрения, старый колдун поворачивается к остальным и с показной велеречивостью произносит, хотя его язык после столь долгого молчания ворочается с трудом:
– Воззрите! Перед вами Могучая Аумрис! Колыбель человеческой цивилизации! Всеобщая колыбель!