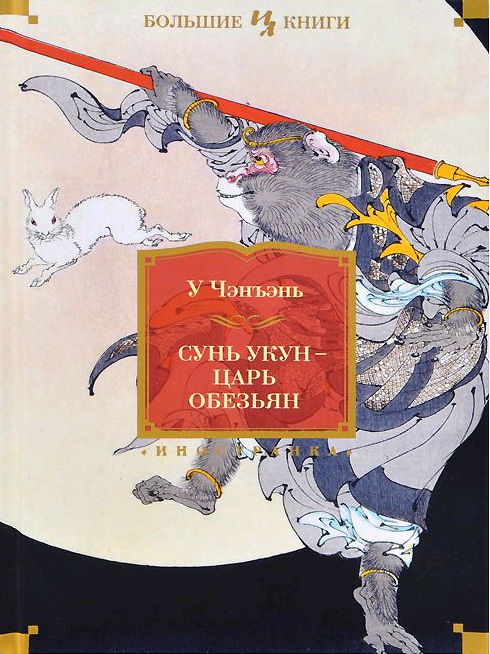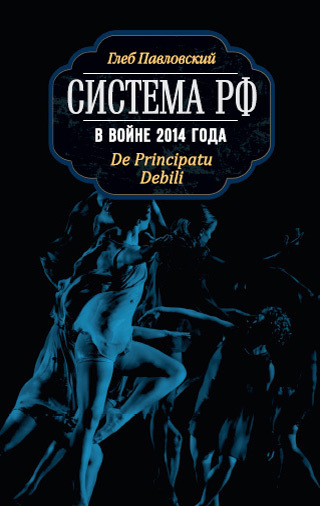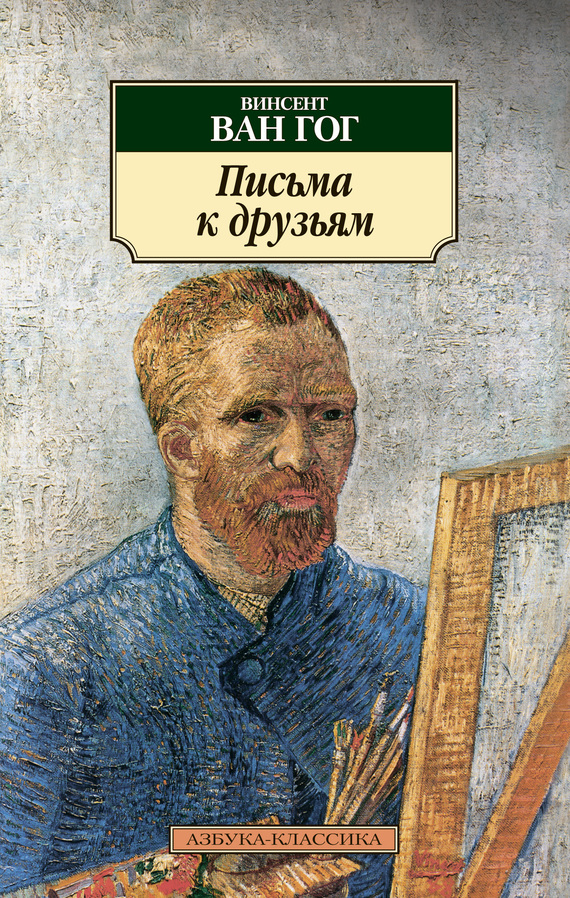Третья пуля Хантер Стивен

Боб не отозвался, осознавая, что в его глазах читается непонимание.
-Набоков, гениальный писатель.
-Знаете ли, сэр… к стыду своему я крайне необразован. Я пытался наверстать, но и дня не проходило, чтобы мне не приходилось стыдиться своей вопиющей бестолковости, так что ни о каком Набокове я и не слышал. Я даже Боссуэлла вспоминал, чтобы понять, что это такое.
-Владимир Набоков. Русский, белый,[127] родился на стыке веков, родом из Санкт-Петербурга. Всё потерял в Революцию, семья уехала в Париж, где встретились все белые русские. Учился в Кембридже, коэффициент интеллекта порядка трёхсот пятидесяти трёх. Кроме русского также прекрасно говорил по-английски, по-немецки и по-французски. Писал замысловатые, тягомотные книги обычно про интеллектуалов, всегда с подтекстом скрытой сексуальности и жестокости. Вероятно, рассматривал людей в качестве ещё одного образца, который стоило бы наколоть на иголку и рассмотреть поближе, поскольку вдобавок ко всему он ещё и бабочек собирал.
-Ваш отец был его обожателем?
-Скорее, почитателем, как и Хью. Они всему остальному на свете предпочитали сидеть в этой комнате и обсуждать Набокова, выпивая, покуривая и смеясь. Так что не знаю, сознательно или нет, но всё, что сработал папа, так или иначе находилось под влиянием Набокова. И что бы это могло быть такое? Так вот, Набоков любил усложнять свою прозу каламбурами, аллюзиями, многоязычной игрой слов и тончайшим остроумием. Вы слышали о «Лолите »?
-Старик и девочка? Чертовски грязно: это всё, что я знаю.
-Поверьте мне, это чистейшая изо всех когда-либо написанных грязных книг. Но там есть плохой парень, телевизионный сценарист по имени Клэр Куилти, выкравший Лолиту у Гумберта и использовавший её в своих целях. Набоков любил играть с именами, а это имя по-французски созвучно с «он здесь», пишется как «qu`il t`y». Видите, что получается? Это двуязычный ребус: фраза по-французски и имя по-английски.
-Получается, что имя, сработанное Боссуэллом, было бы ребусом на двух языках?
-Это литература, а не физика, так что ничего строго определённого тут быть не может. Тут возможен намёк, форма, призрачный смысл, стоящий за словом. Если бы имя было русским, то приведу простой пример: папа придумал бы Бабочкина. Это значит «человек бабочек», а Набоков был известен как мирового уровня коллекционер бабочек. Так что любой человек, взявшийся раскрыть легенду, будь он знаком с папой в его набоковской фазе, знай он, что именно папа сочинил легенду и говори он по-русски, мог бы сразу же вычислить Бабочкина из списка имён. Конечно, я всё упрощаю до примитива, поскольку придумывай он реальную легенду – всё было бы гораздо тоньше: он пропустил бы предпосылку через цепочку смыслов и языков до окончательного значения, как шарик, скачущий туда-сюда отскоками. И никто не добрался бы до этого последнего смысла, потому что в таком случае потребовалось бы владеть целым спектром дисциплин, языков и культур. Вот такими делами он любил заниматься.
-Думаю, я понял,– ответил Суэггер.
-Хотите взглянуть на папин кабинет? Я ничего не трогал с тех пор, как он умер. Думаю, обстановка хорошо отображает работу его ума. Вам понравится.
-Отлично. Это очень помогло бы.
-Окей, идём сюда.
Гарри повёл Суэггера вверх по скрипучей, узкой лестнице у задней стены и затем по кривому коридору в комнату с окном, из которого не было видно ничего, кроме зарослей, укрывавших соседний дом. Боб осмотрелся: ему предстал разум Нильса Гарднера, создателя легенд, которые всегда возвращали скрывавшихся под ними людей живыми.
-Тут папа пытался писать свои романы,– сказал Гарри. –Боюсь, что у него никогда не получалось. Он был блистательный начинатель, но ему не хватало того, что возвращает писателя обратно в кресло неделю за неделей и месяц за месяцем. В нём не было того, что позволяло бы заканчивать. К тому времени, когда он дописывал до половины, он настолько менялся интеллектуально, что уже не узнавал человека, который начал всю историю и не сочувствовал им же написанным персонажам. Думаю, масса гениев таким же образом никогда не заканчивают своих романов.
-Жаль,– ответил Боб. –Уверен, ему было что сказать.
Книжные полки, стоящие от стены до стены и от пола до потолка, были набиты книгами, стоявшими корешками наружу в соответствии с алфавитным порядком. Многие были на иностранных языках, какие-то на английском. Боб практически не узнавал названий за исключением Хемингуэя и Фолкнера. Была тут пара неуместных вещей: например, четыре керамические синешейки на одной из полок – папа, мама и два птенца. Была тут и на удивление сентиментальная картина или скорее иллюстрация с шестью зелёными вязами на фоне сельского пейзажа. Однако, наиболее странной вещью из всех была стоящая в центре стола и заваленная напечатанными листами старая пишущая машинка «Ундервуд», серая, как линкор, причудливо высокая и замысловатая. Ещё на столе была карандашница со скрепками и пистолет.
-Вижу, куда вы смотрите. Да, папа почему-то хмуро смотрел на эту штуку, но не позволял её убирать.
Гарри беззаботно взял его за ствол, и Боб узнал «Маузер» С96, обычно называемый «ручка метлы» из-за формы своей рукоятки, которая шла под углом почти в девяносто градусов от затейливо сработанного ресивера.[128]
Рукоятка могла позволить себе иметь уникальную форму, поскольку она не была ответственна за содержание в себе магазина, помещавшегося в похожем на коробочку отделении перед спуском. Ствол был длинный, а весь пистолет в целом странным образом сочетал неуклюжесть и красоту.
-Уверен, что вы про эту штуку больше моего знаете,– сказал Гарри, протягивая пистолет Бобу.
Боб потянул назад затвор – пистолет был с той ранней ступеньки полуавтоматической эволюции, когда ещё не придумали скобу – чтобы открыть патронник, показавший, что пистолет не заряжен.
-«Маузер», «ручка метлы»,– сказал он.
-Да, точно. Такой был у Уинстона Черчилля во службы в кавалерии в Омдурмане в 1898 году. Тогда эта штука была новейшим изобретением. Думаю, папа хранил его потому, что он напоминал о времени классического шпионажа. Знаете ли, Европа тридцатых: Коминтерн, вербовка «Кембриджской четвёрки»,[129] Гестапо, сигареты «Галуаз», POUM,[130] романы Эрика Амбера и Алана Фёрста и всё в этом духе. В то время шпионаж был романтичным и ему это нравилось, поскольку было противоположностью жестокости войны в которую он был втянут и где на кону стоял обмен ядерными ударами и возможное глобальное уничтожение.
Суэггер смотрел на причудливый пистолет, чувствуя его кавалерийскую солидность. Заряжание представляло собой целую проблему, особенно сидя на скачущей лошади: десять патронов, посаженных в обойму, державшую их за донца, следовало поместить в прорези магазина и затем опустить их в пистолет давлением пальца. Вам не захотелось бы делать это перед толпой желающих убить вас дервишей.[131] Суэггер покрутил его, осмотрев со всех сторон и очаровавшись его уродливой красотой, заметив также цифру девять, вырезанную на деревянной рукоятке и обозначавшую калибр.
-Вы ведь не скажете никому об этом пистолете, не так ли? По действующему в Вашингтоне DC закону он определённо нелегальный.
-Со мной ваш секрет в безопасности,– ответил Суэггер.
-Я не возражаю, если вы захотите остаться тут и проглядеть бумаги ради того, что вашей душе угодно. Скажу также, что когда папа умер в 95м, приходили люди из Агентства и всё проглядывали. Несколько бумаг они забрали и заверили меня в том, что все оставшиеся документы несекретны.
-Вы очень добры, сэр,– ответил Боб,– но не думаю, что это необходимо прямо сейчас. Может быть, если я впоследствии раздобуду побольше сведений и пойму лучше, что я ищу, то загляну к вам снова – если, разумеется, приглашение всё ещё будет действовать.
-В любое время. Как я и сказал, мне доставляет радость поговорить о папе. Он сражался в великой войне в великое время. Мы выиграли, не так ли?
-Говорят, да – согласился Боб.
В своём номере вашингтонского отеля этой же ночью Бобу не пришлось спать, чтобы мысль свалилась в руки. Старик Гарднер сам всё рассказал. Пистолеты. Его пистолет был древнейшей штуковиной из юрского периода полуавтоматической эры двухвековой давности. И всё же он что-то значил для старика, пусть даже не бывшего оперативником, которому «Маузер» мог бы пригодиться сгоряча или обдуманно, безнадёжно устаревший или нет.
Суэггер открыл портативный компьютер, вышел в онлайн и быстро нашёл базовые сведения о С96, подтвердив детали того, что он и так знал. Также Боб узнал происхождение девятки на рукоятке, прочитав, что таким образом в прусской армии во время Первой Мировой Войны бойцам сообщали: эта модификация использует патрон 9мм, а не стандартный маузеровский патрон 7.65мм, который применялся в ранних С96. Вдумчивые немцы заливали вырезанную девятку краской красного цвета, оттого-то пистолеты и получили название «красная девятка», но на пистолете старика Гарднера краска выцвела. Это навело Суэггера на мысль: красный, девять. Четыре синешейки – синий, четыре. Зелёные деревья – зелёный, шесть.
Боб яростно вдумался в неожиданную мысль. Радиокоды? Координаты на карте? Способ запомнить число 946? Или, ээ.. 649? Или 469.
Не придя ни к чему, кроме головной боли и чувства отупения, он понял, что тут не его игра и вернулся к своей.
Попытавшись оценить «Красную девятку» на сайте «GunsAmerica», крупнейшем складе старого оружия, он набрел на нечто иное: «»Смит-и-Вессон» M&P калибра .38, точно такой же, ради которого Ли Харви проделал весь путь домой сквозь облаву. Он занимал весь экран, и Боб, разглядывая его, узнавал изгиб и баланс блистательного дизайна Смита: точного сочетания округлостей и кривых, в едином оркестре слитых с поразительной эстетичностью как лишь немногие другие револьверы в неожиданный классицизм, проходящий сквозь века.
Насколько же было странным то, что Освальд рискнул всем для того, чтобы вернуться за револьвером, который мог бы быть с ним изначально! Думая об этом до сих пор, Боб так и не расколол этого ореха. Может, Освальд хотел найти Уокера и застрелить и его тоже в качестве последнего своего знака миру, который он оставлял позади? А может, он хотел иметь возможность распорядиться своей жизнью, будучи пойманным?
Однако, единственный человек, чьей жизнью он распорядился, был несчастный Дж. Д. Типпит, который, как и отец Боба, до конца выполнил свой долг и в благодарность за беспокойство поймал пулю.[132]
Дж. Д. Типпит – забытая жертва того кровавого дня. Будучи далласским полицейским, он был снабжён описанием убийцы, которым посчитали Ли Харви и направлен в Оук Клиф, ближе к окраине для патрулирования. Там он заметил идеально подходившего под описание человека, идущего чуть быстрее, чем следовало бы вверх по Десятой улице Оук Клиф. Типпит отследил идущего из своей патрульной машины, затем остановился и окликнул его. Их разговор теперь навсегда потерян. Вроде бы Освальд ответил на заданные вопросы, вышел из патрульной машины и пошёл дальше, но Типпит передумал, снова окликнул его и вышел из машины. Теперь уже бесполезно гадать, почему в то время менее политкорректной полиции он не обошёлся с подозреваемым агрессивнее: не взял на мушку и не надел наручники до того, как разбираться дальше. Но он выбрал более вежливый путь и в результате получил три пули.
Но не вежливость Типпита была подозрительной, думал Суэггер, глядя на силуэт тупоносого револьвера на экране, а резкость убийственного ответа Освальда. Известно было, что этот человек имел склонность к насилию и не боялся быть жестоким по отношению к другим, что доказывали его постоянные скандалы и драки, но в то же время он был болтуном, оратором и спорщиком. Он вполне мог иметь – или думать, что имеет – способности к тому, чтобы разговором и общением выпутаться из чего угодно, мог хотя бы попытаться попробовать. Но когда он был окрикнут второй раз, то даже не попытался применить эти способности, хотя вся его личность и всё его самоощущение строилось на них. Тем не менее он забыл о них и сразу же начал стрелять.
Можно было сделать вывод: он окончательно съехал. Будучи преступником на грани рационального самоконтроля, он не мог удержать свою голову в рабочем состоянии и видел, что ему либо надо действовать, либо он попадёт в камеру смертников. Он стрелял в панике. Суэггер подумал: «В этом есть смысл, пусть даже это и противоречит основам его характера.»
Но случившееся дальше ещё сильнее выходило из ряда вон. Почему Освальд подошёл к лежащему телу и выстрелил последний раз чётко в голову? Вы можете сказать – это было в стиле казни, но вы ошибётесь. Тут не было стиля, тут была казнь.
Казалось, что ни у кого это не вызвало большого внимания, но Суэггера это глубоко озадачило. Он мог уступить и согласиться с тем, что паникующий бегущий человек, потеряв самоконтроль и боясь за свою жизнь, примется стрелять. Но уж точно он повернётся и убежит после этого. Он убивал, чтобы выжить.
Но так не случилось. Вместо того, чтобы броситься прочь, Освальд проходит десять футов до тела, склоняется над упавшим и стреляет ему в голову с такого расстояния, что смотрит ему точно в лицо, в то же время всаживая пулю в голову и видя брызги крови, разлетающиеся вокруг тела, лежащего с той неподвижностью, что отличает мёртвых от живых. Почему? В той ситуации никакого смысла в этом не было и уж точно не имело смысла в разрезе его действий и предыдущего поведения.
Он никогда не был ненавистником ДФК. Он не был палачом, психопатом, не наносил удара милосердия, не снимал скальпов, не был воином бусидо, связывающим верёвкой черепа своих поверженных противников. Его убийство не было его личным способом выражения презрения. Но всё же в этом случае он сделал излишнее усилие, наклонившись и выразив финальное презрение выстрелом в голову в упор.
Почему?
Следующий день Суэггер посвятил тому, о чём подумал сразу же после начала своего большого тура «Лон-Мичем». Из Джорджтауна он поехал в Хартфорд и покопался в свидетельствах о рождении, откуда узнал, что и в самом деле Хью Обри Мичем родился в 1930м году у мистера Дэвида Рэндольфа Мичема и его жены, в девичестве Роуз Джексон Данн, указавших в качестве своего адреса посольство США во Франции, город Париж. Также он нашёл и Лона, родившегося пятью годами ранее у Джеффри Джеральда Скотта и его жены, в девичестве Сьюзен Мэри Данн, с адресом: ранчо «Зелёные холмы», Мидленд, Техас. Очевидно, что сёстры Данн предпочли, чтобы их детей принимали любезные хартфордские акушеры в комфортных условиях Хартфордского епископального госпиталя.
Затем – в Нью-Хейвен, старый город во времени своего упадка, частью которого был средневековый университет с башнями, поросшими настоящим плющом и укрытый зарослями дубов и вязов, в целом неуместный, но в то же время странным образом уютный. Насчёт самого Йеля Боб даже не задумывался: кто бы там стал слушать старикашку с ковбойским акцентом и в остроносых ботинках, который смотрелся как непричёсанный Клинт Иствуд? Это было единственной вещью, которая его когда-либо пугала.
Общественная библиотека была более приемлемым местом: тут хранились копии «Йель дейли ньюс», подававшей информацию без лишней помпы. Пролистав многие страницы записей давно забытых успехов элиты в славных полях Нью-Хейвена, Боб ощутил странное чувство инопланетности всего происходившего – настолько это всё было далёким от убогости его взросления посреди холмов графства Полк в Арканзасе. До чего же величественным местом был Йель сороковых, если почти половина местных лиц спустя какое-то время уже в камуфляже поредевших и поседевших волос добралась до всеобщего национального признания! Из двоих двоюродных братьев Лон Скотт был более выдающимся и играл за «Бульдогов» в защите или полузащите. Многие старые фотографии являли тот обычный тип американского красавца с угловатым, симметричным лицом, выраженным носом и челюстью, лёгкой улыбкой и теплом во взгляде. Была в нём какая-то доверительность, унаследованная так же, как и светлые волосы и римский нос, однажды поломанный в драматическом событии на футбольном поле. Суэггер вспомнил Лона в то время, когда он звался Джоном Томасом Олбрайтом – лежавшего в логове на склоне долины Торжища далеко в горах Уошито[133] в 1993 году, с головой, разнесённой вдребезги силой выстрела Ника Мемфиса с шестисот ярдов. Этим кончилось? Так и есть, к прискорбию. Три проноса[134] против Гарварда, возглавлял лигу по набранным очкам (большинство голов с поля, но и с ноги забивал), и это ничего не говоря о его успехах в стрельбе, где он четыре сезона подряд побеждал в чемпионатах «Лиги плюща» в позициях стоя и лёжа. Жалко, что война не продлилась дольше, что позволило бы Лону применить свои футбольные и стрелковые способности на службе в войсках – куда бы он ни попал.
А вот Хью не был таким ярким спустя свои пять лет. Ему, не будучи звездой мужских игр, не приходилось занимать последние страницы «Дейли»: всего-навсего запасной баскетбольной пятёрки «Бульдогов», и кроме единственного упоминания о лучшей игре – восемь очков против команды Брауна на старшем курсе – он фигурировал только в одной заметке: его поместили в издание «Йельского ревю», хоть Боб и не смог заставить себя поглядеть туда и ознакомиться со студенческой поэзией Хью. Но Хью был куда как умнее: закончил он с отличием, чего Лон сделать не смог.
Вернувшись в Вашингтон, Боб получил полную подборку «Американского стрелка» пятидесятых-шестидесятых годов, издаваемого Национальной стрелковой ассоциацией, купленную по интернету и доставленную ему в номер отеля. Посвятив делу несколько ночей, он продрался сквозь все тома, отслеживая ранние блистательные победы Лона в стрелковых соревнованиях национального уровня и даже найдя фотографию Лона, стоящего с призом на том же самом месте, куда спустя около двадцати пяти лет с тем же призом встал Боб. Но у Боба не было отца, который мог бы встать позади него, в то время как отец Лона лучился гордостью из-за спины такого превосходного, состоявшегося сына, которого через несколько лет он обездвижит ниже пояса.
Вскоре после этого в Библиотеке Конгресса Боб прочесал оружейные журналы того же периода пятидесятых-шестидесятых в поисках работ Лона в качестве автора, заядлого переснаряжателя,[135] экспериментатора или интеллектуала нарезного оружия – если таковые работы были, при этом узнав, что Лона почитали так же, как Джека О`Коннора,[136] Элмера Кейта и других персонажей Золотого века, но не найдя ни малейшего упоминания на парализовавший его несчастный случай или предполагаемую «смерть» в 1965 году. Однако, после перерыва в несколько лет стала появляться строка с указанием автора Джона Томаса Олбрайта, не исчезавшая в течение следующих двадцати пяти лет.
Оставалась только одна остановка: посетить Уоррен в Вирджинии, недалеко от Роанока, где «умер» Лон, но там Суэггер узнал лишь то, что он и без того знал: смерть была тонкой подделкой, все документы сфабрикованы и все газетные упоминания базировались на заметке, опубликованной похоронной конторой. Тело, естественно, было кремировано, а прах развеян.
Дальше идти было некуда. Никто его не преследовал, никто не вёл на него киберохоту и не пытался убить. Казалось, что когда он потерял запах Хью, тот также потерял его запах – пусть и не было до конца ясно, существовал ли вообще Хью Мичем.
«В дешёвой прозе всегда можно полагаться на убийцу» – писал великий русский романист Набоков. Что ж, поглядим.
Я, безусловно, убийца, хоть стиль моей прозы и поистёрся от своего былого блеска – если тот блеск вообще присутствовал изначально, до сорока лет заполнения в большинстве своём никчёмных административных отчётов, создания нескольких исследовательских документов и завала докладов о событиях. Моя ежедневная доза водки вряд ли помогает изложению и уж тем более ему не помогает избирательность моей памяти. Говори, память![137] – приказываю я, а она отвечает грязной руганью. Вот в чём вопрос: взбодрится ли моё старческое, дряхлое воображение от нового перебора прошлого или хотя бы приведёт мои слова в читаемую форму либо эти записи утонут в бессвязных слюнях? Это станет настоящим позором: ведь у меня столько всего есть что рассказать!
Но хоть я и неважный писатель, я ещё и великий убийца. Мне не приходилось нажимать на спуск, но на своём бюрократическом пути в разведывательном агентстве я послал на смерть сотни и тысячи: я планировал и одобрял устранения, налёты и штурмы, обязательным побочным продуктом которых являются убийства. Я в течение года руководил «Фениксом»[138] во Вьетнаме, сделавшись лихой фигурой в панаме и шведским пистолетом-пулемётом, висящим подмышкой – хоть мне так и не пришлось стрелять из этой чёртовой штуки, до смерти надоедавшей своей тяжестью. «Феникс» уничтожил порядка пятнадцати тысяч людей, включая некоторых из тех, кто на самом деле был виновен. Я сводил воедино и непосредственно руководил всеми видами военизированных чёрных операций, включавших любой из грехов, известных людям, а потом возвращался и спал в тёплой постели в красивом доме в Джорджтауне или Таншонняте.[139] Вы, наверное, будете правы, презирая меня, но вы и половины всего не знаете.
Также я тот человек, который убил Джона Ф. Кеннеди, тридцать пятого президента той страны, в службах которой я трудился до кровавых мозолей. И здесь я не нажимал на спуск, но я увидел возможность, облёк её в плоть, нашёл необходимые сокрытые таланты для исполнения, завербовал их, обеспечил логистику, отход и отступление безопасными путями и слепил алиби – которые, как выяснилось, так и не понадобились. Более того, я находился в той комнате, в которой нажали на спуск, а затем мой стрелок убрал винтовку и мы покинули это место с тем, чтобы немедленно раствориться во всеобщем безумии горя и скорби. Никто нас не остановил, не спросил ни о чём и мы не вызвали никакого интереса, так что к четырём часам мы снова были в баре «Адольфуса».
Это было, как вы должны знать, идеальным преступлением. Никакие из шести – или всё заняло восемь, а то и десять?– секунд в американской истории не были изучены пристальнее, нежели те, что лежали между первым выстрелом Алека, несчастной мелкой твари, которым он промахнулся и последним выстрелом моего двоюродного брата, которым он попал в цель. Однако же, спустя все эти годы, после всех расследований и предпринятых попыток разобраться, всех теорий, трёх тысяч с чем-то книг, написанными заблуждающимися клоунами никто так и не приблизился к разгадке нашего небольшого, тесного и высокопрофессионального заговора. До сей поры.
Я сижу на веранде. Для своих восьмидесяти трёх лет я в хорошей форме и надеюсь протянуть ещё по крайней мере лет двадцать. Передо мной луг, долина, густые леса и река. Земля моя до самого горизонта и патрулируется охраной. В большом доме позади меня слуги, японская порнозвезда, повар, массажистка (иной раз замещает японку), спортзал, девять спален, банкетная, внутренний бассейн, самый затейливый развлекательный центр на Земле и узел связи, из которого я могу управлять своей империей: в общем – все призы и выгоды долгой, эффективной и продуктивной жизни. Я стою больше, чем несколько мелких государств.
И вот, полвека спустя мой мир тряхнуло. Угроза. Возможность. Шанс открытия, разрушения и может быть даже мести. Это сподвигло меня сесть тут, на солнышке со стопкой жёлтой бумаги и стаканом шариковых ручек «Бик» (хоть я и традиционалист, но не настолько тупой, чтобы настаивать на перьевой ручке) и поведать историю собственной рукой. В любой момент из грядущих дней зазвонит телефон и скажет мне, разрослась ли угроза либо она устранена навсегда. Но, будучи человеком, который обычно заканчивает начатое, вне зависимости от того, каким будет исход разыгрываемой драмы – снова по моим требованиям и инструкциям – я завершу рукопись. Подразумевая, что я не буду прерван пулей, я помещу её в сейф. Возможно, что после моей смерти о ней узнают и она потрясёт основы истории. А может, её бросят в топку, как санки гражданина Кейна.[140]Это находится за пределами моей воли, вследствие чего и не заботит меня. Я лишь знаю, что сейчас я впервые изложу всё. Говори, память.
Хоть я и по природе своей немногословен и не склонен к самокопанию, но я считаю должным произвести беглое описание, проясняющее моё происхождение. Меня зовут Хью Обри Мичем, из хартфордских Мичемов. Мы были стародавней семьёй янки, слесарями и жестянщиками, испокон века ведущими дела на всех фермах, существовавших на суровой земле Коннектикута. Мои предки ловко соображали насчёт долларов и возможности их заработать, лица их были спокойны и строги (как у мужчин, так и у женщин), сами они были немногословны, в роду не было лысых и лишь чёрная метка алкоголизма и меланхолии проявлялась пару раз в поколении. Если принять во внимание всё это как мои черты, то я был более обязан своим формированием трём учителям, о первых двух из которых я слегка расскажу.
Первый – это человек по имени Сэмюэл Кольт. Я был достаточно сообразителен, чтобы иметь такого прапрадедушку, как Сайрус Мичем, известного в качестве одиозного тирана, совершившего один умный поступок в беспросветной жизни в бытность свою владельцем скобяной лавки в Хартфорде. Он поверил в молодого Сэмюэля Кольта и созданную им новомодную крутящуюся штуку под названием «револьвер», вложившись в подъём первого в Коннектикуте завода (самый первый, в Нью-Джерси, потерпел неудачу). Это был отличный карьерный шаг, потому что все мы в качестве дальнейших наследников Мичема имели выгоду от изобретения полковника, имея постоянно пополняемый источник денег, вполне достаточных для того, чтобы заниматься чем хотим вместо того, что нам нужно. Мы учились в лучших школах, у нас были лучшие праздники, мы знали радость больших домов на холмах под вязами и слышали, как деревенщина зовёт наших отцов «сэр». Мы удачным образом превращали геноцид индейцев, уничтожение моро,[141] борьбу с гуннами, сражения с нацистами и Великой восточноазиатской сферой совместного процветания[142] в свою финансовую независимость.
Некоторые из нас погибали в каждой из тех кампаний. Отец же мой был дипломатом, служившим по линии Госдепартамента в Париже перед войной, с 1931го по 1937й год, где я и вырос, впитав язык легко и полностью. Также он работал на более титулованную структуру, как и все разведывательные агентства – практически абсолютно бесполезную, называвшуюся «Управление стратегических служб»[143] и в действительности бывшую в тридцатые годы краснее Москвы, а затем снова вернулся в Вашингтон для продолжения карьеры добропорядочного джентльмена. Благодарю вас, полковник Кольт, за то, что вы обеспечили всё это для нас.
Тут мне следует сделать сноску относительно языка, который я впитал «легко и полностью». Это не был французский, хотя по-французски я говорю. Это был русский. Моя няня, Наташа, была белоэмигранткой – княгиней, не меньше. Утончённая и культурная леди, она вращалась в высших белых кругах, поскольку Париж перед войной был белой русской Москвой – там было наибольшее количество эмигрантов, нежели где-либо в мире. Они были блистательными людьми, пусть и обманутыми – безупречно культурными, экстравагантно космополитичными, очаровательными, утончёнными и отважными, с высочайшим прирождённым интеллектом вкупе с гениальностью, неутомимыми как на войне, так и в литературе. Из них произошёл не только великий Набоков, но и Достоевский и Толстой. Я даже был, будучи маленьким ребёнком, на званом вечере в присутствии самого Набокова, хотя и не помню ничего об этом. Так что русский с налётом аристократичности стал моим первым языком в то время как мои родители были слишком заняты, творя парижскую сцену и занимаясь чем угодно но не мною, за что я благодарю их: уроки Наташи были гораздо более значимыми и запоминающимися, нежели что угодно, чему меня могли бы научить они. Этим и объясняется многое из того, что последует дальше.
Моего второго учителя звали Клинт Брукс из Йеля, где я совершенствовался в американской литературе, намереваясь потом уехать в Париж и работать там вместе со знакомыми из Гарварда в предприятии, которое они там начали и которое чертовски манило меня, «Парижское ревю ». У доктора Брукса были свои проблемы, о которых я умолчу, но он был основателем и главным служителем дисциплины начала пятидесятых, называющейся неокритицизмом . Неокритицизм со спартанской жёсткостью гласил, что текст был всем. Не имеет значения, что вы прочитали об авторе в «Таймсе» или «Лайфе», на какой кинозвезде он женился, драл ли его отец по заднице и не занижала ли первая жена размер его члена. Более того, даже он сам ничего не значил. Имел значение только текст, и его следовало изучать пристально, в лабораторных условиях и безотносительно личности, психологии, магии вуду или чего бы то ни было ещё. Только в таком случае его послание, его значение, его место во вселенной – если таковое есть– покажется наружу. Мне нравилась дисциплинированность такого подхода, его рвение и ощущение честности. Я полагал, что следует применять такой подход к жизни и мне думается, что в какой-то мере у меня это получилось.
Ну да хватит о призраках прошлого. Моим главным и влиятельнейшим учителем был знаменитый человек, обаятельный и смелый, тот человек, который наставил меня на мой путь. Ради того, чтобы вы ухватили суть произошедшего в 1963 году и понимали, почему оно произошло, мне следует посвятить этому человеку некоторый объём повествования.
Звали его Корд Мейер. Он по рекомендации моего отца, как было заведено – от одного агента к другому – подобрал меня в университете Пенсильвании, где я в качестве студента-старшекурсника в одиночестве настаивал на серьёзности порнографических мотивов в творчестве В. Набокова и взял меня в плановое управление ЦРУ. Здесь я усердно и счастливо выписывал доверенности на убийства на протяжении сорока лет, каждую секунду каждого дня проводя в убеждённости – или иллюзии? – что я помогал своей стране бороться с врагами, что я живу в соответствии со стандартами Мичемов, погибших на полях сражений по всему миру, что я обеспечивал все те громкие слова, заставлявшие Хемингуэя скулить под дождём,[144] такие как “свобода» и «демократия».
Корд был той ещё скотиной, поверьте мне. Он мне до сих пор в кошмарах снится, так что я от него никогда не избавлюсь. Думаю, вы и так знаете что он был одним из знаменитейших людей, которых когда-либо производило Агентство. Я же вам скажу, зная большинство из них, что он был лучшим. Жизнь трижды обожгла его к тому времени, как я начал работать с ним в 1961 году. Сперва он потерял глаз, будучи флотским офицером на Тихом океане. Корд никогда не говорил об этом, но мы знали, что он побывал в тяжелейшем из тяжёлых бою, в котором дело дошло до кровавой рукопашной рубки штыками и окопным оружием с отчаянным противником. Корд стеснялся носить повязку на глазу, зная, что она сделает его слишком известным слишком рано, так что он вставлял стеклянный глаз в пустую глазницу, да так, что только внимательно изучавший его человек мог заметить разницу. Ходили слухи, что глаз он потерял на Иводзиме, Энтивоке или ещё каком-то из этих богом проклятых мест, о которых лучше никогда больше не слышать, и эти слухи работали куда как лучше повязки на глазу.
Наверное, к делу относится и его послевоенное прошлое. Он стал пацифистом, повидав слишком много штыков, вонзающихся в животы молодых парней, которые даже и не трахались ещё ни разу. Его привлекала идея единого мирового правительства, при котором нациям не приходилось бы посылать друг против друга армии ребят со штыками в далёкие океаны, где были то ли острова, то ли мухи насрали. Будучи активным участником движения Объединённых наций, он трудился в поте лица, служа своей мечте.
Примерно в 1948 году после трёх лет трудов его осенило, что всю структуру захватили проникшие в неё коммунисты, отчего теперь она работает в строгом противоречии с предназначенной ей задачей, а именно стремится провести в жизнь гегемонию красных над синими. Разочарованный, он связался с мистером Даллесом,[145] который, весьма впечатлившись, предложил ему должность.
У него был талант, нюх. Через пять лет он стал главой Тайных служб в плановом управлении, а они, если вы ещё не знаете, были тем самым местом, где всё заваривалось – эдакой чёртовой кузней. Другие структуры называли такую часть «оперативной» и давали звучные прозвища типа «Ранчо» или «Кораль», а оперативники звались «ковбоями» или «стрелками»– в этом духе. Но никто из них не выглядел таким смертоносным, каким был: это было сборище йельцев с миловидной внешностью (хотя были там и принстонцы и брауновцы, чудаковатые гении без выдающегося происхождения, но с особенными навыками) в узких, никогда не бывавших ослабленными галстуках, носящие очки в оправе из чёрного пластика или рога, тёмно-серые или рыжие костюмы от братьев Брукс,[146] туфли с перфорацией или лоферы «Барри Лтд», скучные, как конклав епископов. По выходным – клетчатый хлопок, яркие бермуды (был популярен красный, как мне помнится), поношенные теннисные туфли «Джек Парселл», обычно заляпанные рыжей глиной корта, хаки, старые синие рубашки с воротником на пуговицах, может быть – ношеные тенниски. Мало кто мог предположить, что за этими неприметными глазами и милыми лицами скрываются хищные умы, которые планируют падения и взлёты тиранов, убийства полковников секретной полиции, парочку вторжений и два-три переворота.
Но вернёмся к Корду, волшебнику Тайных служб. Его второе прикосновение к огню не назовёшь завидным или крутым. Оно было ужасным. В 1958 году он потерял своего второго ребёнка, девятилетнего сына, которого сбила машина в том месте, которое для всех нас – йельцев времён холодной войны – было духовным домом, а именно Джорджтауне. Потеря ребёнка – это нечто непостижимое для меня, а при таком эмоциональном стеснении я не буду ни задерживаться на этом, ни пытаться судить о том, какое воздействие на него оказало это событие. Однако, оно никак не могло склонить его к благодушному взгляду на окружающий мир.
Третья же трагедия сделала его знаменитым, жалеемым, любимым, презираемым и подозреваемым, заронила сомнения в том, можно ли ему верить но всё же в некотором смысле оживила. В этом случае он оказался похож на Джорджа Смайли[147] – пусть даже ещё до того, как тот появился, поскольку всеобщее понимание того, что ему наставили рога послужило аллегорией искренности, с которой он любил свою страну и презрения, которым она ему отплатила. Эту беду звали Мэри Пинкот Мейер.
Полагаю, её следовало бы определить как женщину, попавшую в промежуток культур. Она появилась слишком поздно для поколения битников и слишком рано для того, чтобы быть хиппи. «Чистокровная богемность» была бы самой точной характеристикой – хоть публичных признаков этого в ней не присутствовало. Излишне говорить и о том, что она была красива, умела держать себя подобающим образом, каковое умение уже по полному праву передала, вне сомнения, своим отпрыскам (почему я говорю «отпрыски» вместо «дети»? Забавно!), что у неё были роскошные длинные ноги, что она покоряла практически всех, что она была остроумной, харизматичной и искромётной, что её волосы были густой, рыжеватой гривой и что помады более красной, чем у неё не было ни у одной женщины во всём Вашингтоне. Ей следовало иметь ранний сексуальный опыт, любить опасность, взращивать в себе феминизм и рваться за пределы власти прославленного мужа: солдатского короля холодной войны и умнейшего среди умнейших людей, которые собрались в захудалом и унылом на тот момент, но всё же благородном у своих истоков Джорджтауне.
Она ушла от него в 1961 году, обосновав разрыв обычными в то время словами «душевное охлаждение», что бы это ни значило. Полагаю, под этими словами могло скрываться всё, что угодно было её адвокату. Начала ли она свою знаменитую интрижку до или после развода? Были ли рога Корда официальными либо любовнички соблюдали этикет до тех пор, пока не были поданы бумаги в суд? Никто не узнает, и я сомневаюсь, что Корд кому-то говорил об этом. Мне он так и не сказал.
Оба жили в Джорджтауне до 1960 года. Известно, что она водила знакомство и проводила время с его роскошной, но слегка подувявшей женой. Более того, они должны были встречаться на улицах или, может быть, в магазине или на разнообразных коктейльных вечеринках на газонах, где встречалась их компания, наша компания и вообще всякие компании: дерзкие молодые создатели будущего, технократы из модных агентств (а наше агентство было очень модным, в отличие от несчастных дуралеев из ФБР) и молодые, амбициозные журналисты, которые хотели писать про нас книги и становиться богаче и влиятельнее, чем любой из нас.
Неизвестно, когда Мэри Пинкотт Мейер стала спать с Джоном Фицджеральдом Кеннеди: до ноябрьских выборов 1960 года или после, так же как и неизвестно, ждали ли они до окончательного развода. Однако, разведясь, она посещала Белый дом порядка тридцати раз за три года президентства Кеннеди в самое разное время дня и ночи. В Вашингтоне того времени секреты хранились таким образом, что их вообще вряд ли можно было назвать секретами, хотя по всей видимости она старалась держать всё в тайне и никто не смог бы сказать, что застукал их вместе. И в то же время Кеннеди пытался уложить любую щель от Балтимора до Ричмонда в своём стиле кинозвёздного траха. Вокруг парочки нарастали и иные слухи: Мэри была некоторым образом связана с пока ещё малоизвестным на тот момент Тимоти Лири (Гарвард, конечно же!), так что она проносила в Белый дом ЛСД и марихуану, знакомя с ними президента в надежде как-то смягчить его ребяческую агрессивность. Приношу извинения, но у меня нет внутренних подтверждений всему этому и я упоминаю о Мэри лишь потому, что Корд был чувственно связан с ней и это стало причиной тому, что плановое управление – а не Агентство в целом, поскольку никакого Агентства в целом нет, а есть лишь шаткий племенной союз, в котором кто-то идёт с тобой, а кто-то нет – не было сторонником Кеннеди.
Возможно, я ещё раз упомяну об этом позже, но позвольте мне заверить вас, исходя из глубины моей осведомлённости: ревность не входила в уравнение. Это не вписалось бы в неокритицизм, так что я, малыш Хью, последним присоединившийся к йельским кудесникам Корда вовсе не был тайно влюблён в Мэри. Кого я всегда любил – так это Корда, Мэри же я никогда не любил и поспешу уверить вас, что не имею НИКАКОГО отношения к её убийству, последовавшему в 1964 году (или когда там оно произошло). Я сделал то, что сделал, исходя из наипостылейшего повода среди всех возможных – политических разногласий, но вам придётся потерпеть ещё несколько страниц моей писанины, пока я не доберусь до них.
Так что я убил ДФК не за то, что он связался с Мэри Пинкотт Мейер, бывшей женой моего босса, наставника и во всех смыслах много лучшего человека, нежели он был. Даже жаль, что так и не завертелся сценарий, при котором разрушитель Камелота[148] оказался бы благороднее всех окружающих, а убитый им человек – отъявленным псом, не так ли? Тут могла бы получиться популярная история, в которой я, без сомнения, занял бы место самого ненавидимого человека на Земле. Но истина заключается в том, что я ни разу не видел Мэри и даже никогда с ней не встречался: она для меня была призраком, шёпотом, легендой. Как я и говорил, убийство было политическим.
Давайте перейдём туда, откуда всё началось – благо, что я точно знаю, когда моё подсознание объявило мне об этом решении и жизнь моя закрутилась вокруг этой оси. Но к этому времени подсознание моё вгрызалось в этот вопрос уже на протяжении нескольких месяцев, пытаясь приспособить новые сведения, усмотреть новые варианты, иные зацепки в некое подобие связанного плана, который мне следовало сконструировать до того, как начать наполнять содержанием. Что-то в королевстве шло не так, и если этого не остановить – королевство рухнуло бы, хоть никто пока не распознал этого и не существовало терминов, в которых было бы возможным обсудить этот вопрос. К тому же времени как нужный лексикон проявит себя – судьба наша будет уже определена, обрекая нас на исчезновение. Верь вы в это – вам пришлось бы действовать, а промедли вы – многие люди были бы уничтожены, пусть даже их система взглядов и не позволяла всем им понять ваших мотивов.
Местом, откуда всё завертелось, была вечеринка в Джорджтауне у Уина Стоддарда, в захудалом месте на западной стороне Висконсин-авеню, где он с семьёй жил в старом, замшелом кирпичном доме, выкрашенном в жёлтый цвет для отпугивания термитов. Сад его словно сошёл со страниц пьесы Тенесси Уильямса: неухоженный, заросший и гниющий в сырости. Жалкая попытка обмана? Весьма близко к этому – соглашусь я и на этом оставим сад в покое.
Шла вторая половина октября года Господа нашего одна тысяча девятьсот шестьдесят третьего, два с половиной года эры Кеннеди, Камелота нашей эры и происходящее здесь было ничем большим нежели вечеринкой коллег. Тут плющи из Тайных служб планового управления собрались, чтобы распустить волосы (фигура речи: мы в то время коротко стриглись) и сбросить пар служебных склок, соревнований и плетения интриг, употребив в изобилии джина или водки (в качестве антропологической заметки скажу, что мы не приветствовали цветные напитки) ради смазки конкурентного трения в конторе. В некоторых стаканах была и пузырящаяся шипучка, заедаемая лимонными вафлями – мартини, считавшееся необычным делом в нашем кругу рыцарей-крестовиков. Полагаю, что вечеринка любого отдела, любого отряда, любой структуры в любом городе любого штата Америки вечером субботы 1963 года могла бы быть похожей на эту: сигареты беззаботно пляшут в приоткрытых ртах, все тычут друг в друга пальцами – слишком пьяные, слишком громкие и слишком близкие, в то время как из стереоколонок играет джаз: мы были последним поколением перед наступлением эпохи рока.
Вы знаете, как такие вещи происходят сейчас, но и раньше было точно так же: большие шишки непременно посещают вечеринку в начале. Даже старик Даллес, смещённый после фиаско в заливе Свиней,[149] заглянул, чтобы пропустить стаканчик со своими стародавними людьми. Если моя память не изменяет, то не упустил возможности показаться на людях и его преемник, Мак-Коун – для Уина, должно быть, было большой удачей поймать обоих. Пришёл и Корд со своим младшим сыном, Томми. Не припоминаю его задержавшимся надолго – он лишь посматривал по сторонам с трагическим благородством, держа стакан джина в одной руке, а другую рассеянно запустив в густые волосы мальчика и изредка улыбаясь чему-то в словах обращавшихся к нему со своими догадками и замыслами подопечных. Мелькнул и исчез легендарный Френчи Шорт[150] с красоткой-китаянкой на буксире, почётным гостем заглянул Джеймс Джизус Энглтон, друг Корда, занимавшийся вычислением возможных двойных агентов и могущий уничтожить любого из нас, всего-навсего шепнув о подозрении. Было гораздо безопаснее смотреть ему в рот, нежели не замечать его, хоть и это не всегда было легко. Появился там и худой как палка Колби, хоть у него той ночью и жарилась рыба поважнее. Дес Фицджеральд, который руководил заливом Свиней и, по слухам, намечался вместо Кастро, быстренько нажрался, не успев появиться и отбыл на такси. Все они были могущественными людьми, широко известными в узких кругах, однако же державшимися с лёгкой неуклюжестью и никому не вредящими лично – что, наверное, было очень удобно для морали.
К одиннадцати часам разошлись все важные люди, а к половине двенадцатого спустилось вниз по лестнице, собравшись уходить, большинство жён – ухоженных и роскошных, ещё не отошедших от летнего загара в Бетани. Поскольку все жили в безопасном тогда Джорджтауне,[151] у них не было затруднений с возвращением по домам. Все они, как и моя дорогая Пегги, были главным образом выпускницами Смита[152] и теперь они целовали нас, мальчиков из Йеля, в щёки, наказывая не налегать на выпивку и напоминая, что завтра с раннего утра нам нужно быть к мессе или на совместном служении или ещё на какой-то церемонии на Сент-где-то или Первой-как-её-там. Мне так и помнится море просторных твидовых пиджаков, океан голубых или белых рубашек с пуговичными воротниками, выцветшие шотландки там и здесь, помятые хаки – чём потёртее, тем лучше, мягкие туфли или те замшевые ботинки, что назывались «грязные баксы». Короткие стрижки, гладкие щёки, прямые носы, белые зубы – мы были скучны, но вместе с тем круты, развращены, но всё же невинны, дики и кротки одновременно.
Уин завладел вниманием всего этажа.
«Братья мои,– вскричал он,– мне нужно ваше мнение по этическому вопросу!»
Посыпались смешки. Мы никогда не обсуждали этику: необходимости в этом не возникало, поскольку понимание того, что дозволено, а что – нет, было частью нашего наследия (хмм… да, я бы сказал, что вскоре слегка шагну за эту грань). Прозвучавшая ирония, подогретая джином и водкой, позволила бы перевести в шутку неуместный вопрос.
«Уин, этика для тебя закончилась той ночью, что ты присвоил финал из Морисона»– и снова посыпался всеобщий смех, поскольку Уин, ворующий строки у Сэмюэля Эллиота Морисона, был вдвойне забавен из-за того, что старый адмирал был выпускником Гарварда, а Уин ненавидел Гарвард.
«Ну, что ж поделать, раз он окна не закрывал?»– продолжил шутку Уин. «Но всё же.» Он взял паузу на борьбу с волной джина, поднявшейся в организме, пыхнул тридцать пятой сигаретой и драматически продолжил:
«Всё же. Знаете ли вы, что Корд гоняет нас копаться в распечатках записей из посольств?»
Все застонали. Это дело было проверкой для новичков – насколько у них хватает терпения и старания? Однако Корд любил напрягать людей, и если посреди всех дел у вас выдавалось полчаса, а то и час свободного времени, он отправлял нас вниз, где хранились материалы прослушки посольств. Мы брали недавние машинописные распечатки и перечитывали их. Хоть раз нашлось ли там что-либо полезное? Не знаю. Наверное, ничего не находилось – до сегодняшнего дня.
«Так вот. Я рылся в распечатках советского посольства в Мехико, во всяком обычном пустом барахле типа «какого хрена мы перерабатываем» или «почему Бориса отправили в Париж, ведь в Париж меня должны были перевести». У них всё так же, как и у нас: вечное нытьё. Но тут я наткнулся на что-то вроде беседы с битником-перебежчиком. Американец, южный тип, бывший морской пехотинец, насколько я понял. Я достал настоящие плёнки и прокрутил их на катушечнике, так что услышал, что этот парень, Ли-такой-сякой, пытается уболтать русских пустить его в Россию. Вернее, обратно в Россию, поскольку оказалось, что он уже пробыл там два с половиной года и то там, то здесь он переходил на ломаный русский. А Иван и Игорь не собирались впускать его, пусть даже он и был настоящим морским пехотинцем Соединённых Штатов и кем угодно. Но этот мудак был из тех, которые не слышат слова «нет», всегда ищут повода подраться или случая, чтобы произвести впечатление, так что он заявил – я не шучу, вы сейчас охренеете! – он заявил, что он тот самый, кто стрелял в генерала Уокера!»
На этот раз все были изумлены. Выстрел в генерала Уокера в наших кругах весьма одобрялся. В него стреляли десятого апреля этого года в Далласе. Кто-то пустил пулю в эту старую скотину, когда он сидел за столом, замышляя злодейства на следующую неделю – но промахнулся (что было типично для того стрелка, как я вскоре узнал), поскольку у неизвестного стрелка, наверное, палец на спуске дрожал.
Отставной генерал-майор Эдвин Уокер был предметом особенной ненависти Тайных служб, хоть и был неподдельным героем войны – как и той, что мы называли «Войной»,[153] так и корейской затеи. В войне он преуспел, однако как и других таких вояк его сгубила спесь. Его антикоммунизм стал одержимостью, затем психозом а затем перерос в истинное сумасшествие. Он командовал огромной Двадцать четвёртой пехотной дивизией в Германии – ему и его людям предстояло столкнуться с красными танками, рвущимися через Фульдский коридор, если бы до этого дошло – и, находясь на этом посту, он вконец потерял берега, принявшись окормлять своих людей памфлетами общества Джона Бирча: приказывал им, как голосовать, произносил громкие речи, в которых объявлял всех послевоенных лидеров-демократов, особенно Трумэна и Ачесона,[154] «розовыми», а заодно с ними и всех, кто вместе с ними состоял в Демократической партии Предательства.
И не в том было дело, демократы мы или нет – хотя мы, наверное, ими были. Некоторые из нас, включая молодого Хью с вежливым лицом, смиренным взглядом и большой трубкой даже были либералами. И не в том, что мы были настроены хоть каким-либо образом прокоммунистически. Но генерал не собирался покорно исчезать в ночи, как многие надеялись. Его задвинули в отставку после того, как он отринул предписание МакНамары[155] о переводе, выданное ему вслед за попаданием его безобразий в газеты, и он вернулся в Америку в качестве героя типа МакАртура,[156] но без его утончённости и самообладания. Окопавшись в своём родном городе подобно разглагольствующей пехотной дивизии в составе одного человека и разогнав свою безотрадную репутацию до максимума, он требовал решительных действий от Кеннеди, всячески критиковал Кеннеди и его приспешников, поддерживал сегрегацию и всячески будоражил всех чертей, ставя власти в крайне неудобное положение. Искал ли он власти для себя, думал ли о продолжении карьеры в качестве политика? Возможно, поскольку он как-то озвучил угрозу объединить своих последователей, коих у него были тысячи, в решительную политическую силу, что звучало достаточно весомо. Генерал крайне беспокоил своей психопатичностью, в которой чётко прослеживались фашистские наклонности: ненависть к неграм и ко всем поддерживающим борьбу негров за равенство. Также он презирал дипломатическое противостояние советской экспансии, признавая лишь войну и вскакивал, запевая и роняя слёзы, где бы ни поднималась «Старая слава».[157] Со временем он унялся бы, прекрати репортёры подзаводить его пружину и уделять внимание его назойливому критиканству, но после промаха снайпера он вконец разъярился: на протяжении всего лета 1963 года только о нём и было слышно – генерал не прекращал долбёжку, не столько мешаясь в политическом или оперативном смысле, сколько надоедая вечным злословием и клеветничеством, разводя политические дебаты и толкая Кеннеди на крайне правые позиции в то время как собственные инстинкты Кеннеди и без того вели его вправо.
Я питал к нему особое отвращение. Он сделал антикоммунизм, которому я посвятил свою жизнь, делом тупой, грубой, орущей и невежественной толпы, чем отпугнул и без того ненадёжную аудиторию интеллигенции, в которую глубоко втравлен страх перед дракой. Для них жесткий, агрессивный, крикливый и брызгающий слюнями генерал был ещё одной причиной забыть о долге и растерять мужество, так что Уокер не волновал никого с коэффициентом интеллекта свыше сотни.
Была и более глубокая причина, чисто политическая, так что тут я последую неокритицизму и не скажу ни слова более о множестве неприятных черт и вульгарности генерала. Будучи отделённым от психологических, исторических и стилистических нюансов, его понимание антикоммунизма было враждебным как лично моему, так и в целом нашему. Он исповедовал чисто мужской подход к доминированию через развязывание военного противостояния и победу в нём – если таковая придёт. То, что в этом столкновении погибнут миллионы, его не заботило. Его методом был железный кулак в железной перчатке, а доминирование, разрушение и порабощение он почитал за высшую и чистейшую форму триумфа.
Наш подход был абсолютно иным. Мы не желали большой войны, обмена ядерными ударами по всему глобусу, мрачных куч трупов, обломков и ядовитого воздуха, к которым привёл бы этот крестовый поход. Мы понимали, что для победы над коммунизмом нам следует сотрудничать с умеренно левыми движениями и предлагать реальные альтернативы миллиардам людей, стремящимся к свободе от колониализма, империализма и капитализма. Мы сражались в суррогатных войнах, если хотите – в культурных войнах. Мы поддерживали социалистические партии по всей Европе, спонсировали левацкие литературные журналы, такие, как «Encounter», чтобы сосватать интеллигенции наш более приемлемый подход, мы продвигали американский джаз и экспрессионизм, поскольку они были способами обратить сердца и умы населения всего мира к нашим мягким уговорам. Если же нам и придётся прибегнуть к силе, то это будут не пять тысяч танков «Паттон»[158] Двадцать четвёртой дивизии, схлестнувшиеся с Т-54[159] в новом, гораздо более трагичном Курском сражении теперь уже на полях Фульдского перешейка и не новые версии «Толстяка» и «Малыша»,[160] несущие геноцид половине мира. Это будет переворот тут, профсоюзная стачка здесь, на крайний случай пуля наёмного убийцы. Мы были агентами влияния, подстрекателями, политическими инженерами и лишь с большой неохотой – снайперами. Мы не были солдатами.
«Так в чём дело, Уин?»– выкрикнул кто-то.
«Вот в чём вопрос. Следует ли мне: а) сдать этого парня в полицию Далласа или… б)» –Уин, мастер комедии, сделал паузу– «купить ему коробку патронов?»
Можете представить себе, каким хохотом взорвались собравшиеся – но никто не смеялся громче чем тихоня Хью, растянувшийся на софе и потягивавший джин-тоник, пожёвывая соломинку и участвуя во всеобщем веселье.
Я понял, что знаю ответ на дилемму Уина. Я бы купил Ли-такому-сякому новую коробку патронов.
В те дни всё было иначе. Новое здание пахло краской, свежей шпаклёвкой и оконной замазкой: ему ещё только предстояло приобрести свойственные старым бюрократическим гнёздам черты: жирные пятна в тех местах, куда поколения сонных клерков прислоняли бы свои головы и протёртый обувью линолеум, туалеты и раковины ещё не текли, не воняли и не были заляпаны бог знает чем, из швов ещё не выпала замазка, а лампочки пока не потускнели и не перегорали в самый нужный момент. Нет, от нового комплекса зданий пахло превосходно, веяло синхронностью с Камелотом и весь он символизировал окончательное и официальное оставление недавнего провала, залива Свиней, в прошлом. Всё было выдержано в бежевых тонах, полы устелены коврами, а в освещении использовалось чудо техники – лампы дневного света, заливавшие нас строгим и новомодно комфортным светом научной истины.
Выглянув из кристально чистых окон без малейших пятен, вы увидели бы кругом зелень деревьев вирджинского пригорода – водопады листвы, пышные и бескрайние. Насколько мне помнится, в Камелоте нечасто шёл дождь. Из части смотрящих на север окно можно было разглядеть ширь Потомака, а в солнечные дни, коих было большинство, водная гладь синела отражением неба над ней. Все эти деревья, прогулки, свежесть, спелость и зрелость, хорошее настроение и дух на высоте, живость, сила, энергия, напор и отвага служили идеальным фоном моего предательства в гнуснейшей, отвратительнейшей и успешнейшей разведывательной операции в истории как Земли, так и других планет.
Мне нужно было добыть запись и узнать, кем был Ли-какой-то, и сделать это было несложно. Спустя несколько дней, на следующей рабочей неделе я отправил Уину Стоддарду бессмысленную, но «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНУЮ. ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ» папку с пометкой на обложке, что требуется его вклад в намечавшийся проект. Не помню уже, что там было, однако же я знал, что даже с мелодраматической пометкой на обложке Уин всё равно засунет папку в ящик стола на несколько дней, пока наконец не уделит ей внимание. Подождав день и затем, идеально рассчитав время, я перехватил Уина по пути к лифту в четыре минуты шестого вечера среды. Из скорости его шага – я не шпионил за ним, нет!– было ясно, что он спешит.
«-Уин, слушай… извини за беспокойство, но тот отчёт что я отправлял тебе– ты проглядел его?
-Пока нет, Хью, прости. То да сё… дела.
-Мне бы его в дело пустить. Отдай его мне, а я передам следующему в списке. Если Корд соберёт встречу насчёт него, я тебе всё изложу вкратце.
-Конечно, Хью. Первым делом завтра.
-Чёрт, мне его нужно человеку Уизенера передать сегодня…
-Ладно, я спешу…– он улыбнулся, пошарил в кармане и достал связку ключей. –Вот, маленький, открывает выдвижной ящик. Сам поройся, ключи отдай мне завтра. У меня коктейль с сенатором в армейско-флотском клубе, а я опаздываю уже.
-Молодчина,– сказал я и обменялся с ним одним секретом, который я в этом отчёте не раскрою – рукопожатием «Череп и кости».[161]
Как я и сказал – легче лёгкого. Безопасность в то время заключалась в жестяном выдвижном ящике с замком за двадцать два цента. Не было компьютеров, карт с магнитной полосой, следящих видеокамер – в наших бежевых коридорах ничто не напоминало о войне, нападении или разведке: в большом, сумбурном офисе могли бы работать страховщики, журналисты или служащие, выдающие автомобильные права. Шпионской атмосферы тут нет и не было. В докомпьютерную эру у нас даже электрических пишущих машинок не было: всё было на бумаге, и этим топливом мы кормили пламя холодной войны.
Уин, будучи старшим сотрудником, сидел в офисном кубике с тремя стенами, что облегчало и без того нехитрую задачу. Рядом слонялось лишь несколько коллег, не заинтересовавшихся моей знакомой фигурой, так что я открыл выдвижной ящик, нашёл свою папку и забрал её, после чего открыл ещё два ящика, во втором обретя то, что искал: «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ»– гласил бессмысленный кривой штамп над названием «РАСПЕЧАТКИ\МЕХИКО\СОВЕТСКОЕ ПОСОЛЬСТВО» и ссылкой на исходную папку, RP\K-4556-113M. Я прикрыл документ своим собственным, запер всё как и было и вернулся к своему столу, засунув найденное в брифкейс для того, чтобы как следует изучить дома, но успев в первый раз увидеть имя, за короткий миг оставившее неизгладимый след в истории. ЛИ ХАРВИ ОСВАЛЬД.
Первое моё знакомство с ним, состоявшееся этой же ночью после того как мы позабавились с Пегги, уложили мальчиков спать и разошлись – она в boudoire,[162] а я в кабинет– не было захватывающим. Скорее, оно стало отталкивающим. Я вчитался в распечатки беседы, записанной двадцать седьмого и двадцать восьмого сентября 1963 года в комнате 305 советского посольства в половине двенадцатого первого дня и в пятнадцать минут второго на следующий день.
«КГБ: Зачем вам нужна виза?
ЛХО: Сэр, я не признаю капитализма и хочу, чтобы моя семья жила в обществе, ценящем учение Маркса и ведущем борьбу за дело рабочего класса.
КГБ: Но вы уже провели два с половиной года у нас, мистер Освальд, и, похоже, что в определённый момент вы пресытились учением Маркса и борьбой рабочего класса.
ЛХО: Сэр, тут не было моей вины. Меня сгубили завистники, ненавидевшие меня за мой ум, за то, что я женился на самой красивой девушке, за героизм, который они во мне ощущали. Великих Ленина и Сталина так же окружали жалкие завистники и противники!»
Здесь я узнавал всё, что презирал в людях. Он был высокомерен и надменен, что в сочетании очевидной тупостью делало его отталкивающим. Он был задиристым и агрессивным, но как вспыхивал, так и сдавался. Его грубые выходки по ходу беседы с Борисом и Игорем (на арго Агентства все русские оперативники– пусть даже их имена были известны, как в этом случае– звались Борисами и Игорями) производили гнетущее впечатление. Он бросался на одного из них, пока тот не уходил в оборону, затем нападая на другого и так шло по кругу. Они даже не пытались играть с ним в Мэтта и Джеффа, будучи оба Мэттами.[163]
Из того, что я добыл не заглядывая в его дело – ни наше, ни ФБРовское – было видно, что он являлся эпическим неудачником, проваливая любую работу, ругаясь со всеми нанимавшими его хозяевами и предавая любого друга который у него заводился. Будучи типичной бесполезной личностью, он шумно пёр вперёд, не имея ничего за душою, кроме напускной бравады, трусости, хвастовства и притворства. Я посчитал, что все достижения, о которых он заявлял, были ложью – как оно и оказалось. Сюда же ложились и иные недостатки: неспособность собраться, непомерная обидчивость, коэффициент интеллекта около нижней границы нормы безо всяких компенсирующих этот факт талантов и озлобленность мелкого человечишки на всё вокруг, что больше него самого. В нём одновременно уживались забияка и трус, лжец и мошенник, лишённые всякого очарования, шарма и харизмы и склонные к упрямой гонке за идиотскими целями: в целом – грядущая катастрофа отдельно взятой жизни. Как раз то, что мне нужно.
Он объяснял русским, что целью его жизни было попасть на Кубу к Кастро, но кубинцы ему благоразумно отказали, однако сообщив, что если он получит русскую визу, то по ней сможет и Кубу посетить, но не остаться. Вот он и явился сюда, в сердце всей истории, чтобы припасть к социалистическому величию и занять своё место на его небосклоне.
Но в особенности на второй день ему не пришлось легко. Наверное. К этому времени Игорь и Борис связались с московским КГБ, проглядели обзор двух с половиной лет неприметного пребывания ЛХО в Минске вкупе с безо всякого сомнения нелестными отзывами о рабочей этике Освальда и его личности, сделанными его так называемыми завистниками и пришли к верному решению.
Красные знакомы со странностью американской системы. Она производит людей, которые могут двигать горы, создавать индустрии, побеждать в мировых войнах, превышать звуковой барьер и сбивать «МиГи» над Кореей в соотношении шесть к одному. И в то же время неизбежно производит небольшое количество несогласных, амбициозных и бесталанных мечтателей, которые неспособны добиться чего-либо в жизни, но не желают признаваться себе в своих недостатках и винят какую-то «систему», разыскивая её противоположность в качестве места, которое позволит им воссиять. Свою жизнь они проводят в воображении себя секретными агентами, судьба которых – сокрушить аппарат «системы» и получить щедрую награду от её оппонентов за такую помощь.
Подобные образчики знают историю поверхностно и не замечают, что первым делом после победы социалистического тоталитарного государства становится сбор секретных агентов, которые тяжко трудились в её интересах, доставка их на Лубянку чёрными «воронками» среди ночи и их расстрел. Красные не терпят предателей –даже помогающих им. Спросите пумистов[164] времён испанской революции, которые узнали об этом, стоя у расстрельной стенки в Барселоне.
Освальд не знал ничего об этом и не переживал. Хоть он и был признан предателем, но ему нечего было предложить своим новым друзьям. Он потерпел неудачу, так и не распознав нюанса, требовавшего от предательства участия двух сторон, каждая из которых предлагала что-то другой и провалил первое покушение. Жалкий пёс. Никогда я не презирал его сильнее, нежели той ночью, сидя в своём кабинете в Джорджтауне, слушая полуночных цикад и потягивая водку.
Затем, в конце второй встречи последовал ключевой диалог – уже после того, как они довели до него свой отказ, но перед тем, как позвать охрану чтобы его вышвырнули из посольства силой если он будет протестовать.
Я обратил внимание, что на этот раз не было ни Бориса, ни Игоря, но был новый персонаж– назовём его «Иван», имевший более высокий ранг в КГБ. Со свихнувшимся американцем он разговаривал непринуждённо и ровно. Иван сказал ему: «мистер Освальд, мы убеждены, что при втором посещении Советского Союза вы окажетесь ещё менее счастливы, нежели при первом. Моей личной рекомендацией вам будет содействовать делу революции изнутри ваших границ, продолжая ранее упомянутую вами активность: раздачу листовок комитета «Честная игра с Кубой» и распространение сведений о преимуществах нашей системы перед вашей в личных дискуссиях с американскими гражданами.
ЛХО: Сэр, знаете ли вы, с кем вы говорите? Я не какой-то дурацкий спорщик, а солдат революции, я – человек действия!
КГБ: Слушайте, мистер Освальд, пожалуйста, успокойтесь. Нам не нужны неприятности.
ЛХО: (кричит) Нет, слушайте меня! Я был тем снайпером, который десятого апреля стрелял в генерала Уокера –фашиста, предателя, агрессора, будущего тирана, врага левых, социализма, Кубы и СССР! Я сидел в темноте со своим «глаз-галстуком»(?)[165] «Манлихер-Каркано» шесть-пять, БАХ! Я бы его убил, если оконная рама не помешала. Я, я сражаюсь ради нас и для вас! Я рисковал попасть в тюрьму и на электрический стул, я..
КГБ: Мистер Освальд, пожалуйста, соберитесь, не надо…»
Тут он достал оружие и принялся им размахивать, затем что-то в нём сломалось и он расплакался на столе у мистера Шишки, а вся его затея закончилась в водосточной канаве Мехико. А чего он ещё ожидал? Как далеко заходило его самомнение? Он не понимал, что в первую очередь все окружающие замечают прущую из него трагичную никчёмность и не имел представления о том, какая пропасть лежит между его идеальным образом самого себя, каким он себя представлял и каким хотел быть и жалким, ограниченным, тщетным идиотом, которого он моментально совал под нос окружающим. Он был полным дерьмом.
Чем хуже он был – тем лучше было для меня. Не требовалось быть гением, чтобы углядеть возможность впутать его во всё что угодно, а уж такой-то план был определённо в моих силах. Всё было отлично продумано и не нуждалось в пересмотре, а лишь в небольшом приготовлении – простом, всё равно что конфетку ребёнку дать.
Чтобы окончательно определиться с намерениями, я применил неокритический подход к моему плану, хорошо потрудившись над отсечением личности, мнений, незначительных фактов и случайных чувств от принятия решения и полностью сконцентрировавшись на «тексте», которым был Освальд, чтобы понять его динамику и размеры безотносительно итогов, надежд или прошлых унижений и вообще всего, что сформировало такое извращённое создание как он. Пусть это и прозвучит самолюбиво, но я ощущал себя как великий белый охотник со множеством бивней на стенах охотничьего домика в погоне за синицей. Для подобного сафари я имел непристойный перевес, так что я даже поручился самому себе в том, что хоть я и буду использовать Освальда несмотря на испытываемое к нему отвращение и презрение, но в то же время предприму все меры к распознанию в нём глубоко скрытой человеческой природы, попробую понять, какие силы могли так покоробить его и попытаюсь дотянуться до его души, коснуться её жестом самого человечного и неподдельного чувства, который только будет возможен и уместен в контексте готовящейся манипуляции и воспоследующего предательства (если до этого дойдёт).
Были дела, которые следовало сделать. Во-первых, мне следовало слепить вымышленную операцию и кодовое название, под которые я получил бы чёрное финансирование моей скоротечно придуманной операции «Освальд-Уокер», и подсунуть её Корду. Конечно же, у меня было достаточно денег дяди Кольта и дядей Винчестера, Смита, Вессона и Ремингтона, не говоря о «Дюпоне»,[166] пяти марках «Дженерал моторс» и в целом кассе всей индустрии, составлявших моё портфолио чтобы оплатить деловые расходы самостоятельно. Однако же, в том случае если дело каким-либо образом вернётся ко мне, любой следователь первым делом залезет в финансы и узнает, что я потратил сотню тысяч своих собственных долларов на таинственный проект в ноябре 1963 года. Так что мне было куда проще стянуть денег у Агентства, нежели у самого себя, да и расходы будут навечно защищены полномочиями Агентства держать всё в секрете (до этого дня, спустя полвека так ничего и не вскрылось!) Поколения офицеров-организаторов наслаждались такой привилегией, и если порочные пользовались ею к своей выгоде, то чистосердечные работали с надеждой на то, что помогают победить в войне. Я считал, что трудностей не возникнет: мой высокий статус в Тайных службах, которому я был обязан недавнему свержению мистера Дьема сразу с двух постов: президента Республики Южный Вьетнам и жителя планеты Земля, что расценивалось как победа нашей стороны и брало свои истоки в секретном докладе за моим авторством, озаглавленным «Интересы США в Республике Южный Вьетнам: инвестиции в будущее», сделавшим меня звездой Агентства далеко за пределами моей фракции (более об этом позже).
Во-вторых, мне следовало обезопасить главную папку Освальда с распечатками, поскольку сейчас любой третьеразрядный агентишка мог туда влезть и обо всём разболтать.
Принеся извинения всем вам, читающим этот отчёт и не имеющим вкуса ко вдумчивому разъяснению, а предпочитающим беглый рассказ, я всё же не буду подгонять события без полной уверенности перед самим собой, что я изложил все проясняющие детали, пусть даже они и потребуются одному читателю из сотни.
Свою выдуманную операцию я назвал «Павлин» и без заминки получил одобрение Корда, получив бюджет в сто тысяч долларов в «Банке Нью-Йорка», настолько тщательно прикрытом бухгалтерскими штучками, что лишь несколько человек (никто из которых не работал на правительство) могли бы разобраться. Сутью «Павлина», по моим словам, был поиск молодых выпускников Гарварда, Йеля, Принстона, Стэнфорда, Брауна и университета Чикаго, имевших писательские таланты и стремящихся публиковаться в «Нью-Йорк таймс», «Вашингтон Пост» или его недавнем приобретении, «Ньюсуик» (чтобы вы поняли, насколько тесным и уютным был мир в те дни, я скажу, что сестра жены Корда была замужем за видным персонажем в «Ньюсуик») с тем, чтобы помогать им делать карьеру, сливая секретную информацию, но не платя денег (деньги их оскорбят), ускоряя тем самым их рост и обязывая их нам, хоть они никогда и не узнали бы, кем были «мы». Название «Павлин» взялось от свойственного этой птице тщеславия, поскольку я считал подобных дураков легкоуправляемыми вследствие своей самодовольной натуры. Мне следовало ежемесячно давать отчёт Корду, какие знакомства я накопал в дебрях академической науки, что я предлагал им и чего от них можно было ожидать. Лучше всего в этом деле была неосязаемость: никто из журналистов не понимал, что им манипулируют и не мог поднять шум, и никто не смог бы связать конкретные статьи с ЦРУ, сказав «да, это от нас» или «нет, это не наше». Таким было старое Агентство, работавшее на доверии, а я был только счастлив предать его в поисках большего вознаграждения.
Не возникло сложностей и с завладением бумагами относительно Освальда. Запомнив номер исходной папки, написанный на папке с распечатками, я пошёл в архив, выбрав особенно многолюдное время – половину одиннадцатого понедельника, когда все служащие будут заняты молодняком, требующим папки насчёт всяких и разных сценариев вторжения в Италию или ядерного взрыва над Москвой. Как я и ожидал, в архиве был хаос и сумятица, причём и без того перегруженных девчонок, считавших себя слишком умными для своей работы, вдвойне раздражала глава архива миссис Ренигер, одна из тех тёток с настроением непрекращающихся месячных. Все зашивались, так что я отвёл в сторону Лиз Джеффрис, дочь старшей сестры Пегги, приходившуюся мне племянницей по жене и сказал:
-Лиз, Корд рвёт и мечет, мне срочно нужно.
-О, Хью, – ответила замотанная красотка, которую напряжение делало ещё милее, нежели обычно, – мы и так выбиваемся.
-Лиз, мне хвост прищемили.
Она знала, кому была обязана работой и притягательной возможностью выйти замуж за шпиона, что было куда как притягательнее дипломата или законодателя, так что она сказала:
-Ладно, систему ты знаешь, так что крадись туда и ищи сам, только Ренигер на глаза не попадись.
-Спасибо, милая,– сказал я и поцеловал её в щёку. Она была всего на несколько лет младше меня, но смотрелась ребёнком из другого поколения. Между нами такое было обычным делом, так что брови вверх не поехали. Скользнув в нужный проход, я прижался к полке, чтобы пропустить молодую особу с внушительным бюстом и постаравшись не прижаться к её сиськам, чтобы она не запомнила меня, затем нашёл искомую папку, открыл её (папки контролировались системой централизованных замков, которые старая сука Ренигер, работавшая ещё в лондонском УСС, открывала каждое утро в девять и закрывала каждый вечер в пять), достал папку Освальда и ту, что я запрашивал, спрятав освальдовскую внутрь запрашиваемой, после чего бросил свою бумажку с запросом папки в ящик для записей.
Той же ночью я развил контакт с ЛХО. Не буду утруждать читателей тонкостями описания одного из самых исследованных людей в мире, так как подробности будут скучнейшим образом повторяться. Хаотичное детство, ранняя смерть отца, подавляющая его мать со странностями на грани безумия, которую звали Маргеритой– таскавшая семью по всей Америке в попытках осесть где-то, дважды побывавшая замужем и оба раза разводившаяся, тянувшая Ли и ещё двух его братьев из школы в школу, из штата в штат, из нищеты к процветанию и обратно зачастую в течение года. Неудивительно, что он свихнулся, постоянно будучи новичком.
В Нью-Йорке его нарастающие отклонения были замечены внимательной сотрудницей социальных служб, написавшей документ, пронзительнее которого не было – хоть она и не знала, что впоследствии с ней посоревнуются три тысячи соперников, никто из которых её не превзойдёт – оказавшись единственным в мире человеком, которого взволновала его судьба. Её потрясла нарцисстичность матери, Маргериты и беспорядочные блуждания в качестве стиля жизни, что по её мнению не шло на пользу мальчику, которого следовало поместить под опёку. Среди того безумного цирка, каким была жизнь Ли Харви Освальда– а я могу говорить об этом как его вербовщик, предатель и косвенный убийца – смелая женщина в одиночку выполнила работу, которой мы, американцы, вправе гордиться. К несчастью для ЛХО И ДФК, никто её не послушал, и Маргерита выдернула сына из доброжелательных рук, увезя то ли в Техас, то ли в Новый Орлеан, не дожидаясь пока власти что-то предпримут.
Впечатлённый своим старшим братом, маленький Ли, как и многие из юношей, мечтающих о крутости, вступил в Корпус морской пехоты сразу же после высшей школы, которую так и не окончил. Как и везде, за что бы он ни брался – он ни к чему не пришёл. Годы морской пехоты были полностью неприметными, поскольку нужно было быть идиотом чтобы доверить ему выполнять даже его официальную работу – заводить самолёт на посадочную полосу. Я видел, что морская пехота не поручала ему подобных вещей, оставляя ему менее важные дела. Однажды он даже умудрился прострелить себе руку. Что за тупица!
На службе он впервые провозгласил себя коммунистом, что привело к проявлению раздражения в различных формах всеми вокруг. Странно, что бойцы не выбили из него эту дурь, позволив разыграться последовавшей трагедии, что стало одним из редких случаев невыполнения Корпусом морской пехоты США своего долга: победив в битве при Иводзиме, они потерпели поражение в битве с Ли Освальдом! А по окончании службы он первым делом бросился в очередной наспех сляпанный крестовый поход – переметнулся в Советский Союз. Впервые мы приметили его через Госдеп, когда он, выбравшись в Россию по студенческой визе, отказался возвращаться. Характерно, что и русским он не был нужен – он никому не был нужен!– так что какое-то время Госдеп и КГБ бодались за то, кому он достанется в качестве утешительного приза. Два с половиной года он провёл в Советском Союзе, главным образом на радиоэлектронном заводе в Минске, где постигал тонкости сборки дешёвых транзисторных приёмников. Там он познакомился с девушкой, на которой женился. На фотографии она смотрелась весьма привлекательно: сидя ночью в своём кабинете, я подумал – знала ли бедная крошка, с каким чёртом она спуталась?
Освальд и его жена Марина на балконе минской квартиры
Но в России ему надоело и он договорился вернуться назад в США. Мне хорошо известно, что некоторые в сообществе сторонников заговора– «сообщество сторонников заговора», боже, что за идиоты, полвека заблуждающиеся в своих криках – развивают тему ЦРУ, торчащего отовсюду из пребывания Освальда в СССР. Боже милостивый, здесь никогда не торчало никого, кроме меня! Увиденное мною было вызвано самой жизнью, а вовсе не тайными кознями, в которые верят сторонники шпионских заговоров. Всего лишь нелепое, неоформленное, неуправляемое и бессистемное стечение удачи, обстоятельств и возможностей, которыми этот пройдоха пытался заставить и ту, и другую бюрократические машины обратить на него хоть малейшее внимание. Нетрудно увидеть, что не было никакого энтузиазма в медленном вращении шестерен бюрократии, спустя несколько долгих, унылых месяцев позволившей этому ничтожеству снова обрести гражданство страны, которую он публично презирал.
С этого момента у нас есть новый рассказчик, осаждаемый агент ФБР по имени Джеймс Хотси, который собеседовал Ли – я буду теперь звать его Алек, поскольку это было его русским прозвищем, которое использовали и я, и Марина[167]– по возвращении его в США из России. Из тщательно задокументированной любовной связи с красными Бюро знало его как «подозрительного». Несчастный Хотси из далласского офиса, перегруженный и недооценённый, был вынужден добавить Алека к своему списку неотложных дел, я же имел возможность знакомиться с фотокопиями его отчётов, поскольку два агентства легко менялись данными низкоуровневой секретности. Образ, сложившийся у Хотси при общении с ним, более-менее совпадал с моим, разве что к враждебности Алека после возвращения добавилась и новая неприятная черта– хроническое нытьё. Хотси не смог углядеть за ним ничего незаконного кроме разве что политического дурновкусия, что следовало бы по моему разумению расценивать как преступление – но кто бы меня послушал?
Однако, Хотси напрягся, когда узнал, что Алек в конце сентября посещал Мехико, где побывал в отделе кубинских интересов[168] и советском посольстве, и вскоре он побеседовал с Мариной и её (но не Алека) подругой Рут Пэйн, а также со всеми, кто имел представление об Алеке. Однако, Хотси не пришёл ни к чему существенному, поскольку сам Алек не являлся кем-либо существенным. Он был, по техасскому выражению, «шляпой без скота» и не был нужен никому, даже Марине, поскольку миссис Пэйн рассказала спецагенту Хотси о постоянных синяках на руках Марины или даже фингалах под глазами. Алек снова брался за старое.
Сейчас, когда я сижу на залитой солнцем веранде и небрежно пишу, к изумлению слуг потягивая водку и наблюдая, как ползут тени по широкому лугу в ожидании звонка спутникового телефона с вестями об угрозе – усложнилась ли она или с ней покончено?– передо мной нет его фотографии, но в то время у меня было фото Алека.
Вскоре это лицо впечатается в сознание всего мира и, думаю, никогда не будет забыто. Но в то время кто мог предположить подобное? Я видел представителя американского рабочего класса suigeneris,[169] приметного своей непримечательностью. Газетное фото, снятое в момент возвращения нашего самопровозглашённого коммунистического героя из России, чтобы и дальше провозглашать славу марксизма и недостатки коммунизма( троцкист понял бы разницу, однако вряд ли Алек им был). Фотокамера говорила правду, те вещи о нём, которых Алек и сам не знал и не собирался узнавать. Ширина носа, самой приметной части его лица, выдавала или хотя бы указывала на его задиристость. Однако, ни в каком другом смысле – ни в физическом, ни в умственном – широта не была ему свойственна. Его небольшие глаза смотрели искоса, так что любой голливудский продюсер увидел бы в нём злодея №2, лишенного хватки и видения мистера Главаря, которому попросту доверяют избить или зарезать кого-нибудь. Небольшой рот придавал ему неприятный рыбий вид, и лицо в целом сводилось к угрюмой гримасе тонких губ. Скошенная линия волос и широкий лоб вели к тому же, и все эти черты вместе складывались в типологию, усиливаемую постоянным выражением раздражения на лице. Выглядел он тем, кем и был: мрачным, буйным, потворствующим своим желаниям, лишённым обаяния. Вы не захотели бы иметь с ним дела или руководить им: вечно недовольный окружающими, ничтожество, избивающее жену, прирождённый предатель, закоренелый нытик, бросающий всё на полдороге. Не знаю, отразилась ли в его внешности чудовищная натура либо он стал таковым вследствие внешности. Думаю, что и три тысячи последовавших биографов также не знали.
Всё же я всматривался в фотографию, запечатлевая её подробности в памяти. Бывает, что в жизни человек выглядит совсем не так, как на фото и невозможно поверить, что это он и есть, но в случае с Алеком такого не произошло, так что увидев его во плоти впервые, я сразу же признал его. Мне вспоминается, как я лежал в кровати, слыша ровное дыхание Пегги, порывы ночного ветра и зная, что внизу мои мальчики находятся в полной безопасности и перед ними открыты все дороги в будущее, в то же время размышляя об Алеке – пешке, жалком ничтожестве, на котором в то же время держался весь мой план и вокруг которого всё вращалось, надеясь что он справится.
Той самой ночью я и понял, что он не справится.
Всё упёрлось в стрельбу.
Алек был «тренированным стрелком морской пехоты», что бы это ни значило. Я подозревал, что в скучное мирное время это значило немногое. К тому же он уже промахнулся по цели, сидевшей – согласно новостям – в сорока футах за столом, да ещё и имея винтовку с оптическим прицелом. Господи милостивый, даже я попал бы! Было понятно, что дело не столько в его стрелковых способностях. В морской пехоте его винтовкой была старая боевая лошадь «Гаранд» М1 – тяжёлый, надёжный и точный полуавтомат, верой и правдой служивший от дворцов Монтесумы до равнин Триполи. А при покушении на генерала в Техасе в его распоряжении не было «Гаранда». Свою винтовку он называл «ай-тай Манлихер-Каркано шесть-пять», настолько затейливо, что наша бедная машинистка даже не распознала в «ай-тай» слово «итальянский».[170] А будучи итальянской, этой винтовке надлежало быть рухлядью, коей в избытке на складах – с разболтанным спуском и точностью, присущей продукции крестьян-виноделов. Откровенно сказать, точности не было вообще. Однако, именно она была его избранным оружием – да и нашим тоже, поскольку была связана с ним и предполагаемой задачей документами, свидетелями и обстоятельствами. Был и более глубокий вопрос – его некомпетентность. Он проваливал всё, за что брался, а отсюда следовало предположить, что часть его ожидает неудачи и ожидание это предопределит исход всего события. Могу ли я полагаться на него? Могу ли рискнуть карьерой и добрым именем, не говоря уже о долгом пребывании в техасских исправительных учреждениях, положившись на этого идиота? Всё следовало выполнить чисто, гладко, ясно, эффективно и профессионально, а не свалить всё в шаткую, бубнящую кучу проколов и ошибок.
Ни в эту, ни в следующую ночь я не спал, крепко усомнившись в верности курса, зависящего от первоклассной работы, порученной идиоту.
Так в деле появился Лон, а вследствие его появления раскрылась целая вселенная иных возможностей, исторгнувшая из моего воображения такие варианты, которые изумили даже меня самого.
Глава 14
При встрече в одной из кофеен Далласа Суэггер изложил Нику всё, что нашёл.
-И он не следит за тобой? – спросил Мемфис.
-Может, пока не добрался. Может, не знает, кто я такой. Может, я с его радаров пропал.
-Может, его не существует.
-Тогда кто пытается меня убить?
-Попытаюсь в адвоката дьявола поиграть. Боб, ты много врагов нажил, так что кто угодно может пытаться.
-Тот же наёмный убийца добрался до Джеймса Эптона.
-Верно. Но и ты до него добрался, я теперь с пером в шляпе и мы навсегда убрали его с улиц. Хорошая сделка для всех.
-Есть что-то по Крулову? Олигарху, предположительно втянутому в дела с измайловскими?
-И есть, и нет. Оказалось, что товарищ Крулов через свои многочисленные компании ведёт официально ведёт дела со множеством корпораций в Америке: «Форд Мотор компани», «Макдональдс», «Проктор энд Гэмбл», 3М и так далее. Чтобы начать расследование, нам нужно получить одобрение Департамента юстиции и создать рабочую группу с правом вызова в суд. Ты думаешь, у нас есть достаточные для юстиции основания?
Суэггер знал ответ.
–Конечно, нет. А что с… никак не запомню имя… Йексовичем?
-И-к-с-ович.
-Да, точно. Владелец оружейной компании. Странное имя, заметное.
-Оказывается, что это имя – в прошлом прозвище, но оно ничего не значит. Его отца звали Александр, и когда он был ещё ребёнком – отец, я имею в виду – его младший брат с проблемами речи не мог такое имя выговаривать, так что звал старшего брата «К-с», произносится как «Икс». Так и прилипло, он всю жизнь был известен как Икс, а когда вырос, пришёл к успеху и завёл ребёнка, дал ему отчество, как заведено у русских – Иксович. Дмитрий Иксович Спажный. Спажный– твердолобый КГБшник, так что вовремя подсуетился, когда Ельцин ломал коммунизм, подобрал обломки и стал миллиардером. Я знаю о его делах, он инвестирует по всему миру, как и остальные. Но так же, как и в случае с Круловым нам нужна федеральная рабочая группа чтобы копаться в его делах.
-Значит, группы не будет?
-Боюсь, нет. Это наше с тобой дело – меня, ответственного спецагента, вышвырнутого из Вашингтона и тебя, наёмника под прикрытием. Я могу только слегка помочь и порешать вопросы с системой, не выказывая своей вовлечённости, но я не могу ни финансировать тебя, ни завести дело. Поступи я так – и наша относительная свобода исчезает, и на меня уже косится заместитель, не понимающий, что происходит. Чем ты дальше займёшься?
-Нужно снова выйти на Ричарда Монка. Так или иначе, но он связан с тем, кто дёргает за ниточки. Поиграю с ним и посмотрим, что выйдет.
-Метод расследования по Суэггеру: тряси дерево, пока не свалятся наёмные убийцы и надейся, что убьёшь их раньше, чем они тебя, а там погляди что они знали. Никогда не подводит: шумно, опасно, но работает.
-Я согласен со всеми вами: с женой, с дочерью… я слишком старый для всего этого. Но другого выбора я не вижу. Разве что оставить старину Хью в покое.
-Уж этого-то ты точно не сделаешь, даже если он снова попытается тебя убить.
Ричард сидел за своим обычным завтраком– Эгг Макмаффин, хашбрауны, кофе, апельсиновый сок – и вдруг на него свалился Джек Брофи, севший рядом с чашкой кофе.
-Эй, Ричард! Давно не виделись, друг.
Он пожал руку Ричарда и тот, сглотнув в шоке, ответил:
-Джек, я рад что ты в порядке. Ты так исчез…
-А, семейный кризис. Пришлось позаботиться о внезапных вопросах.
-Джек, той ночью, когда ты ушёл на той же самой улице была стрельба, там человека убили. Говорили, что он ещё кого-то убить пытался. Я волновался, не ты ли там был?
-Я? – удивился Суэггер. –Нет, сэр, я сущий заяц. Люблю оружие, но только если сам стреляю по какой-нибудь ленивой скотине издалека, из безопасного места.
Суэггер выдал Ричарду порцию ерунды насчёт того, как он экспериментировал дома в Айдахо и пришёл к выводу, что стрелявший в ДФК использовал «гибридную», двухкалиберную пулю. Ричард никак не понимал, каким образом две пули могут вмещаться в одну… эээ… пулю или как пуля может состоять из двух частей или два заряда сидеть в одной гильзе.
Затем Суэггер сменил тему на здание «Дал-Текса».
-Всё ещё думаешь о «Дал-Тексе»? Углы там те же самые, но это большое общественное здание, и в нём везде было полно людей. Невозможно поверить, что кто-то набрался наглости войти и выйти. Да и полиция перекрыла его через три минуты после убийства. Снайпер, входящий и выходящий через парадный вход как раз на место преступления – и никто не заметил его? Не понимаю, как такое могло произойти.
-Ты верное слово подобрал. Наглые. Я думаю, что эти ребята были самыми лучшими профессионалами, не совершающими ошибок и со стальными нервами.
-Убийцы-мафиози? Эту тропу протаптывают снова и снова, но всё сваливается в безумие.
-Я не говорил, что это мафия. На самом деле я ещё не знаю, кто это был, так что над этим ещё подумаю. Но если я пойму – «как», тогда заодно и узнаю «кто».
Выяснилось, что смыслом разговора было желание Джека получить помощь Ричарда в поисках стариков, которые помнили «Дал-Текс» в прошлом, а Джек разовьёт мысль о том, что войти и выйти было возможно. Он взял с Ричарда клятву хранить секрет от сообщества, поскольку являлся единственным обладателем важной интеллектуальной собственности.