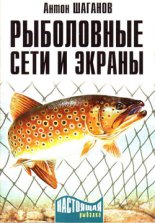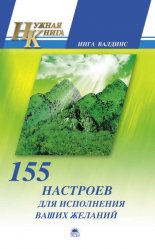Миниатюрист Бёртон Джесси

– Посмотрите на нее и скажите мне, что вы видите?
Нелла забирает младенца у служанки, которая садится напротив и подается вперед в ожидании ответа. Девочка, запеленутая в белую простынку, мирно спит, тихо посапывая. Через какое-то время она попросит есть, а это значит, что нужно поскорей найти ей кормилицу, то есть постороннего человека, что чревато осложнениями.
– Не туда смотрите, – в голосе служанки звучат истерические нотки. – Поглядите на ее волосы.
Нелла отводит край простынки. У Теи темные жесткие кудряшки и кожа цвета карамелизованного сахара, который Корнелия использует для своих сиропов. Девочка открыла глазки с очень темными радужками.
Нелла поворачивается к Корнелии.
– Ну и что? – спрашивает она. – Мы должны благодарить Бога, что она выжила.
– Петронелла, кого вы видите?
Нелла всматривается в Тею, и та, как истинная новорожденная, твердо выдерживает взгляд своей тетки, вот только без признаков ответного любопытства.
– Теперь понятно, кто ее отец? – в голосе Корнелии, помимо страха, появились знакомые нотки всеведущей служанки, которая сообщает домашним последние новости, раскладывая их по полочкам. – Все это время он находился среди нас.
Вот они его и нашли. Тея – вылитый портрет Отто: волосы барашком, широкий нос, высокие скулы. Девочка простодушно глядит на Неллу, не догадываясь о том, что та уже все видит и знает. Сама же Тея видит лишь темные стены и неясный свет. Что могут разглядеть две женщины в этом неоформившемся создании? Словно желая опровергнуть только что высказанную мысль, Тея открыла рот и заелозила, суча ножками.
– Люблю тебя от носика до пяточек, – признается Нелла.
– Что?
Написанная рукой Отто любовная записка как зеркало отразила его черты. Круг замкнулся.
– Клянусь всеми ангелами. – С этими словами Нелла целует ребенка в темечко.
К ее удивлению, Корнелия резко встает и выходит.
Прижимая к себе Тею, Нелла перебирает в памяти последние пять месяцев. Ее влечение к Отто было очевидным. Что думала об этом Марин? Достаточно вспомнить, как она перевернула Неллин флакон с духами и пребольно ущипнула ее за руку. Для острастки? Это кажется невероятным. Что было между Марин и Отто? Любовь? Или только физическое влечение, пульсировавшее в темных коридорах, за закрытыми дверями? Как они это проворачивали? Кто все это начал, когда и почему?
Из-за крайней усталости ее воображению не под силу справиться с подобными вопросами. Как восстановить прошлое, когда настоящее дышит у нее на руках? На все ответ один – Тея.
Слышно, как наверху Корнелия возмущенно топочет в своих паттенах. К кому обращен ее молчаливый протест? К Всевышнему, к Отто, к Марин? В голове у Неллы калейдоскоп мыслей, и они нагромождаются одна на другую без ответа. Все они так или иначе коснутся Марин – но уже завтра, когда она наконец-то выспится. А что до тайных отношений между Отто и Марин, то вряд ли новый день в них что-то прояснит.
Нелла прижимает к себе ребеночка. Второго такого, вероятно, не сыскать во всем Амстердаме. Конечно, есть евреи, есть смуглые мальчики и девочки из Лиссабона, есть армяне, бежавшие от турок из Оттоманской империи, а что творится в далекой Ост-Индии, вообще неизвестно, но здесь, в Амстердаме, люди живут своим кругом, не смешиваясь с иностранцами. А тут, непосредственно у нее на руках, результат соединения двух полюсов империи, младенец, зачатый не где-то за тысячи миль отсюда, но прямо тут, в тайных закоулках отечества, в фешенебельном квартале Золотой Подковы. Здесь, в окружении мощенных булыжником мостовых и великолепных каналов, Тея выглядит еще более вызывающе, чем ее отец. Нелла разглядывает эту чудесную загадку с темной, цвета ириски кожей, а Тея, засопев, складывает пальцы в кулачок. Тихие звуки, издаваемые этим существом, кажутся Нелле обещанием будущего совершенства.
«Марин ведь ни разу даже не намекнула на то, что отцом ее будущего ребенка является Ганс Меерманс, – рассуждает сама с собой Нелла. – А если вспомнить мой разговор с ним возле тюрьмы, то и он ничего такого не сказал. Я слышала только то, что хотела услышать. Мое воображение досочинило целую историю. И вот теперь фантомная дочь Меерманса, предъявив характерные черты, указала на настоящего отца. Еще рано говорить о том, как упадет монетка, что она унаследует от Марин и что от Отто. Интересно, в курсе ли последний, обсуждали ли они ситуацию, фантазировали ли, как будет выглядеть их ребенок. Рождался ли когда-нибудь в Амстердаме такой младенец, как Тея?» Закрыв глаза, Нелла молится о том, чтобы получить ответ, как защитить это дитя.
Возвращается Корнелия и усаживается за стол. Возможно, ей стало невмоготу находиться в одной комнате с покойницей.
– Как она могла, – говорит Корнелия. – Я не понимаю, как она… – Оборвав себя на полуслове, она показывает пальцем на детскую головку: – Как ей теперь жить, Нелла? В этом городе с таким лицом?
– Что-нибудь придумаем.
Корнелия в задумчивости потирает лоб.
– Мне хотелось верить, что это господин Меерманс, – признается она. – Лучше бы это был он.
– Почему?
Внятного ответа, судя по всему, нет. Нелла пытается его прочесть по страдальческому лицу служанки. Уж не потому ли, что ребенка от Меерманса она не считала бы таким предательством? Для Корнелии Отто был другом, ее ровней, а Марин своего рода матерью. И вот ее все бросили.
– Я предупреждала его, что до добра это не доведет, – вырывается у Корнелии после долгого молчания. Скрестив руки на груди, она мечется по кухне. Она ведь еще совсем молода. Нелла вспоминает их первую встречу в прихожей, с какой уверенностью в себе и даже самонадеянностью взирала она на юную барышню. Неужели эта истрепанная жизнью женщина, не находящая себе места, та самая розовощекая служанка?
Нелла так и села. Последние слова Корнелии для нее как оплеуха. «Хотя чему я удивляюсь, уж кто-кто, а эта бой-баба никому не позволит исключить себя из разряда посвященных. В отличие от меня».
– Корнелия, так ты… знала?
Та с горечью кивает. Тяжело же ей пришлось: все знать и не иметь возможности вмешаться. И при этом молчать как рыба! Потому что проговориться значило бы вылететь отсюда с позором, снова стать нищебродкой.
– Корнелия, вы с Отто в этом доме десять лет, – говорит Нелла. – И десять лет назад Меерманс женился на Лийк.
Служанка посмотрела на нее непонимающим взглядом.
– Ну да. И что из этого?
Нелла молчит, крепко прижимая к себе девочку. Марин сама ей призналась, что при желании могла выйти замуж за Меерманса, но не захотела стать его женой. Она предпочла свободу и осталась в родных стенах. Тогда Нелла подумала, что речь шла о торговле, о бизнесе, о статусе домоправительницы. Возможно, все это тоже… и Йохан, пойдя ей навстречу, освободил ее от брачных оков. А может, она уже тогда желала быть с Отто? Неужто в свои двадцать два она положила глаз на четырнадцатилетнего парня? Это кажется невероятным.
– Все началось не тогда, – разъясняет Корнелия, прочитав ее мысли. – Только через несколько лет, когда мы уже стали в доме своими, до меня стало что-то долетать. Возня, вздохи, смех. В основном ее. Хозяин, по-моему, ничего не замечал, к тому же он постоянно бывал в отъезде.
– Ты говорила с Отто на эту тему?
Для Корнелии это болезненный вопрос.
– Я его спросила. А как же? Не могла больше терпеть.
– Почему, Корнелия? Ты же любишь всякие секреты.
– Это не то, о чем вы подумали, – огрызнулась та. – Я видела, как вы на него смотрели. – Она потерла скулу. – А мне он был как брат. Он был мой, понимаете? А Марин… – Корнелия сверлит взглядом потолок, словно желая добраться до лежащей наверху покойницы, спрятанной от посторонних глаз. Кем все-таки была для нее Марин? Матерью, подругой, сестрой или сказочным персонажем из темной зоны, из потаенного угла, заросшего паутиной, куда никто не заглядывает.
– Марин просто скучала, – заканчивает свою мысль Корнелия.
– Но…
– Сплошная ложь.
Повисло долгое молчание.
– Я спросила его в лоб, и он сказал, что у них это было всего один раз, – продолжает Корнелия. – Когда хозяин надолго уехал в восточные страны. После этого я с ним месяц не разговаривала. Хозяйку я, конечно, обслуживала, но говорить с ней у меня тоже не было никакого желания. – Она затыкает себе рот, чтобы не разрыдаться. И уже шепотом: – Простите.
– Кажется, Отто говорил, что он не любит плавать в море, – вспоминает Нелла. Служанка насмешливо скривилась. – Как же это произошло?
Бледная от тоски Корнелия начинает говорить своим настоящим голосом, почти гипнотическим, как человек, знающий о чем-то не понаслышке, – это уже не пересказ событий, случившихся в далеком прошлом, и сила этого события захватывает их обеих, даже о Тее забыли на время.
– Ему было шестнадцать. Она подошла к нему сзади на кухне и положила руку на плечо, он обернулся, и она его поцеловала… ну вот. А он даже не знал, что это такое. И они начали целоваться… и уже не могли остановиться. А затем она повела его в погреб… и там… и там все произошло.
Корнелия умолкает. Слышно только, как потрескивает огонь в печи.
– А после она сделала вид, что ничего не было. Опять вся такая святая и недоступная, упокой Господи ее грешную душу. А через полгода все повторилось. Она же могла ему приказывать как хозяйка. У нее была власть над ним. А я его предупреждала. Я говорила: «Отто, держись от нее подальше». Но он меня не послушался. И мало-помалу он стал забирать власть. Ему нравилось, что его хотят. Я ему говорила: «Неужели ты не чувствуешь своей вины?» А он: «Какой еще вины?» – «Ну как же. Наш господин воспитал тебя как сына, а ты вон что вытворяешь». На какое-то время это прекращалось, и все шло своим чередом, а потом… на нее словно что-то находило. Стоят бок о бок в гостиной, вроде как географические карты разглядывают, но я-то слышу, как они шушукаются. И вдруг такая тишина – хоть на руку наматывай.
Она молчит.
– Когда вы сказали мне про ребенка, я попробовала себя убедить, что его отец господин Меерманс. Очень уж не хотелось, чтобы им оказался Отто, потому что… он занимался этим за спиной хозяина, и я знала, что добром это не кончится.
– Он ее любил?
Корнелия вздыхает.
– Честно скажу: не знаю. По-моему, они обменивались любовью. Иногда это шло от нее, иногда от него. Но я всегда ему говорила: «Держись от нее подальше. Это же твоя госпожа». Но когда вы появились у нас в доме, они уже часто встречались.
– А Йохан ни о чем не догадывался? – Нелла вдруг вспомнила слова Джека, брошенные в лицо Отто, перед тем как тот нанес ему удар рыбным ножом: «Ты что-то натворил, и он намерен это выяснить».
Корнелия пожимает плечами.
– Может, и догадывался. Но он любит сестру. По-настоящему.
У Неллы защипало в глазах.
– Мне нужен был покой в доме, – говорит Корнелия, не замечая Неллиных слез. – Чтобы все оставалось, как когда-то.
Понимая, что с этой мечтой давно пора расстаться, они глядят друг дружке в глаза поверх Теи в коконе из простыни, этого ничего не подозревающего херувима один на один с отважным новым миром.
Лисбет Тиммерс
Им приходится раздеть покойницу и снова облачить во все чистое. Они почти не прикасались к Марин при жизни, а тут без грубого физического контакта не обойтись. Но по крайней мере это положило конец разговорам о болезненных тайнах, о которых поведала Корнелия и которые еще больше омрачили атмосферу в доме.
– Вот, – заставляет себя открыть рот Корнелия, поднимая перед собой длинную черную юбку с корсетом, отороченным соболем и белкой, с бархатной дорожкой на спине. – В самый раз.
У Неллы такое ощущение, что она стоит на разъезжающемся под ногами песке. Подмышки у нее мокрые, в кишках все переворачивается.
– Да, – соглашается она с кислой улыбкой.
Наступает самое большое испытание.
Они сажают Марин на постели, чтобы разрезать ночную рубашку острым ножом. Затрещала ткань, и Нелла собирается с силами, сосредоточась исключительно на процессе.
Больно смотреть на обвисший живот, в котором Тея провела девять месяцев, на налившиеся и уже никчемные груди. Из промежности до сих пор торчит пуповина. Из страха перед душой усопшей, возможно, наблюдающей за ними, ни одна не жалуется на удушливый запах уже начинающей разлагаться плоти. Корнелия ловит ртом воздух – от скорби ли, от отвращения ли, поди пойми. Отверстие, через которое Тея вошла в этот мир, как будто затянулось, но они стараются особо не присматриваться. Они втирают в кожу остатки ванильного бруска, чтобы хоть немного отбить тяжелый запах.
Нелла пошатнулась, приподнимая Марин и помогая Корнелии натянуть на покойницу юбку и зашнуровать ее дрожащими пальцами. Когда Нелла наклоняет тело вперед, голова падает на грудь. Корнелия задирает Марин руку, чтобы надеть корсет.
– Я уж сколько лет ее не одевала, – говорит она неожиданно высоким голосом, взлетающим вместе с учащенным дыханием.
Они натягивают на нее шерстяные чулки, затем приходит черед домашних туфель из кроличьей кожи с вышитыми инициалами: M и Б. Почтительно обмывают лицо с помощью чистых полотенец. Распускают волосы и заново их заплетают, чтобы потом скрыть под белым чепцом. Корнелия пощипала мертвенно-бледные щеки в надежде вернуть подобие румянца. Теперь им приходится решать за Марин ее проблемы.
– Подожди.
Нелла уходит по коридору в маленькую спальню Марин. Там она снимает со стены карту Африки с вопросами, так и оставшимися без ответа, – о погоде, о еде, о боге. Тут она кое-что разглядела под ракушкой. Потянув за темно-коричневую ручку, она извлекает на свет всего человечка. Марин стащила у нее крошку Отто и держала у себя в комнате! Нелла пытается представить, как золовка прокралась в ее спальню, воровато пробежалась пальцами по кукольному дому и быстро сунула копию своего любовника в карман. Потом она наверняка спала с ним, он был ее талисманом, ее утешением, ее амулетом, призванным вернуть оригинал, но не сработало.
Крошка Отто лежит у Неллы на ладони и безмятежно глядит в скрытую точку.
– Где ты, Отто? – спрашивает она вслух. – Вернись. – Она кладет куколку в карман и возвращается со свернутой картой под мышкой.
– Надо положить в гроб все ее цацки, – говорит Корнелия. – Перья, орешки, книги. Что мы будем с ними делать?
– Сохраним, – отвечает Нелла. – Для Теи.
Обе молчат.
– Такая спокойная, – последние слова Корнелии относятся к умершей.
Эта тема не вызывает у них споров в отличие от противоречивого наследия, которое сейчас сучит ножками в колыбели. Покой – надежная опора живых в разговорах об усопшем. Но, глядя на золовку, Нелла видит знакомый излом бровей, словно Марин что-то подсчитывает про себя или задумалась о брате. Какой уж там покой. Она лежит с таким видом, как будто ей не до смерти, еще дел невпроворот.
Приведя Марин в порядок, Нелла забирает из кабинета Йохана «Список Смита», и они с Корнелией садятся в кухне за стол перед очагом. Тея лежит рядом в колыбели.
Пролистав половину справочника, Нелла останавливается на букве «М». Среди мельников и музыкантов обнаруживается и миниатюрист. Неллой вновь овладевает беспокойство.
– Где она? – в ее голосе звучат истерические нотки.
– Кто? – пугается служанка.
– Чей это список?
Корнелия пожимает плечами.
– Трудно сказать. Марин с хозяином покупали их регулярно. Да что такое?
Нелла внимательно изучает переплет. Нет никаких следов вырванной страницы.
Заплакала Тея.
– Ничего.
Под буквой «К» они находят четырех кормилиц.
– Надо взять кого-то по соседству. Вот, – Корнелия тычет пальцем в Лисбет Тиммерс, проживающую под знаком дуба на Шпигельстраат, неподалеку от них. «Четверо своих детей, – сообщает о себе Лисбет. – Отвечаю всем требованиям. Один гульден за дневное кормление».
Через час Корнелия возвращается вместе с Лисбет Тиммерс. Из кухни Нелла слышит, как гостья присвистывает при виде картин, серебра и золота, французского дивана и роскошных гобеленов.
Наконец обе появляются. Крайне бледная Корнелия нетвердо ступает по родной терракотовой плитке, а вот Лисбет шагает уверенно. Нелла присматривается к служанке, но та отводит взгляд.
– Времена нынче трудные, – заявляет Лисбет с порога. – В прошлом году, когда я давала объявление в «Список Смита», я брала гульден за день, а сегодня беру три. – Она широко раскидывает руки, словно извиняясь. – Я вынуждена поднять цену. Многие богачки сами выкармливают младенцев, сейчас это модно. У меня почти не осталось заказчиц.
– Вот как, – это уже Нелла.
– Хорошо, что кто-то еще предпочитает кормилицу. Или это их мужья? – Лисбет хохочет. – Им подавай наследников, и чем больше, тем лучше. Ну, если муженек знает свое дело, мне же лучше, правда? – она обращается к Корнелии за поддержкой, но та молча стоит с болезненным видом.
– Ее подбросили нам на порог, – объясняет Нелла. – Мы не могли от нее отказаться. – Звучит фальшиво, придется потренироваться. Она краснеет – как можно было украсть у Марин материнство, пусть даже в вынужденных обстоятельствах…
Лисбет переводит взгляд со стройной Неллы на девочку. Потом берет ее в руки, как подозрительный овощ на рынке, внимательно изучает спереди и сзади, проводит красными пальцами по туго завязанному чепчику. Нелла наблюдает за манипуляциями, сожалея в душе, что не решилась оставить курчавые волосики Теи на виду.
Лисбет молча кивает, а затем, без всякого предупреждения, спускает свободно прилегающий корсет и нижнюю рубашку, обнажая большие раскачивающиеся груди. Она дает девочке розовый сосок и, устроившись в углу, принимается кормить изголодавшуюся Тею. Корнелия и Нелла украдкой поглядывают. Кажется, что Лисбет Тиммерс была в этом доме всегда.
– Приходите сюда через черный ход, госпожа Тиммерс. – Корнелия с трудом выдавливает из себя слова.
– Как скажете. Можете называть меня Лисбет. – Она смотрит на Тею. – Это никуда не годится.
– Вы о чем? – спрашивает Нелла.
Лисбет встречается с ней взглядом.
– Вон как вы ее спеленали.
Нелла ощетинивается.
– Мы платим вам три гульдена не за то, чтобы вы тут наводили критику, госпожа Тиммерс, – говорит она тоном Марин.
– У них ножки как воск, – поясняет Лисбет как ни в чем не бывало. – Если ее неправильно пеленать, то к годику у нее будет искривленный позвоночник и кривые ножки.
Отняв Тею от груди, Лисбет начинает ее разворачивать, точно бандероль, и через секунду срывает с нее чепчик. Корнелия делает шаг вперед, вся напрягшись, ко всему готовая. На детской головке встают темные кудельки – слишком темные и кудрявые для голландского ребенка. Лисбет поднимает глаза на женщин, а те молча ждут, что она скажет.
А Лисбет снова переводит взгляд на идеальное тельце. Напряженность в комнате сгущается. Нелле кажется, что кормилица слышит биение ее сердца. Но Лисбет, ни слова не говоря, показывает им, как правильно пеленать младенца. Если она и поняла особенность этой девочки, всю необычность ее черных завитушек, то виду не подает. Возможно, три гульдена в день на фоне падения спроса – это и есть цена ее молчания. Или же Лисбет Тиммерс, как и большинство амстердамцев, наслышана о тайных водоворотах, что скрываются под тихой гладью каналов и за хорошо упорядоченной кладкой домов.
– Им это нравится, – говорит она.
– Что именно? – Нелла все никак не может перейти на спокойный тон. Она облизывает губы так, словно хотела бы их накрепко слепить.
– Тугое пеленание. Это напоминает им о материнской утробе.
Нелла кивает. У нее нет никакого желания представлять себе утробу, из которой вышла Тея. Этот ненадежный орган, в конечном счете одолевший Марин, словно затаился в ней, лежащей сейчас наверху.
Накормленную девочку Корнелия укладывает наверху в дубовой колыбели. Лисбет получает свои три гульдена, которые Нелла взяла в кабинете мужа, и направляется к черному ходу, но потом останавливается и обращается к молодой хозяйке:
– Она крещеная?
– Еще нет.
– Поскорей покрестите, мадам. Первые дни самые опасные. Опять же повод устроить небольшую пирушку.
Поблагодарив ее, Нелла закрывает за ней дверь. Поладят ли они? Без кормилицы нельзя, иначе Тея умрет, а у Лисбет полно молока, да и чем меньше людей знает о новорожденной, тем лучше. Она не хочет отдавать Тею в приют, но выживет ли эта девочка, столь непохожая на остальных?
Корнелия стоит посреди кухни, меся тесто для выпечки.
– Отнесете ему.
– Корнелия, ты когда-нибудь видела необычную высокую блондинку возле нашего дома или прогуливающуюся по Калверстраат?
Служанка вытирает лоб, на пол сыплется мука.
– Нет.
– Ты уверена?
Корнелия шмякает кусок теста на разделочную доску и, уперев руки в бока, провожает глазами мучную россыпь.
– Еще бы. Сдались мне уличные собаки, только и ждущие, когда им бросят кость!
Нелла поднимает руки, словно извиняясь за глупый вопрос.
– А я всюду встречаю эту женщину.
– Может, это ангел-хранитель нашего хозяина, – вогнав кулак в тесто, Корнелия поднимает глаза на Неллу, и та снова испытывает неприятные ощущения в животе.
– Что ты хочешь этим сказать?
Корнелия переходит на шепот:
– Лисбет мне все рассказала. Ее дочка была в «Расфуйсе».
У Неллы внутри вырастает печаль этакой пропащей розой, которая быстро растеряла свои лепестки и засохла прежде, чем успела вырасти.
– Об этом уже говорит весь город.
– О чем, Корнелия?
– Говорю же вам, мадам, я все знаю. Это за ним прилетел его ангел-хранитель.
Пелликорн
Неллу проводят в комнату настоятеля Старой церкви, расположенную за органом, где ее уже ждет пастор Пелликорн. Она не делает перед ним книксен. «Он вас выведет на чистую воду, – когда-то вещал пастор с кафедры. – И вы ответите перед Ним за свои деяния!» Сейчас Пелликорн расслаблен, погружен в себя – в общем, отдыхает. Он сразу оценил ее богатые одежды, прекрасный головной убор, парчу и жемчуга. Нелла пришла, чтобы продемонстрировать свою роскошь, но Пелликорн мастерски изображает безразличие.
– Я пришла объявить о смерти, – заявляет Нелла.
– Понимаю, – говорит он, пододвигая к себе огромную черную обтянутую кожей приходскую книгу, куда заносятся важные городские события, связанные с теми, кто вышел из материнских чресел и кто отправляется в рай или в ад.
– Я пришла объявить о смерти Марин Брандт.
Перо пастора зависло в воздухе. Сразу видно, что имя ему знакомо. Возможно, он ожидал другого.
– Умерла? – еще раз уточняет он.
– Прошлой ночью.
Пелликорн кладет перо и откидывается назад.
– Какая жалость, – говорит он. – Это большая потеря.
– Да, – соглашается Нелла. Усталость пробрала ее до костей, и на внешние проявления скорби сил уже не осталось.
Пелликорн какое-то время молчит.
– Прими, Господи, ее душу. – Он откашливается. – Расскажите, как наша сестра покинула этот мир?
Нелла снова видит окровавленные простыни и конфетти из цветков лаванды, а затем мысленно возвращается далеко назад к воображаемой картине, когда эти простыни были девственно чистыми и путались между других – темнокожих – ног. Отто и Марин сплетались телами, и их общая тайна поселилась в недрах ее тела.
– Она умерла от лихорадки, пастор.
Лицо его делается озабоченным.
– Уж не от чумы ли?
– Нет, сударь. Она долго болела.
– И то верно, последние недели я не видел ее в церкви. – Пелликорн соединяет руки и кладет подбородок на конусообразные пальцы. – Ее gebuurte[16] как-то помогла? – спрашивает он.
Нелла вспомнила отцовские похороны в Ассенделфте, как пришли соседи к ее скорбящей матери и помогли раздеть покойника и облачить его в ночную сорочку, как перенесли тело на железный поддон и обложили соломой, в которую бы стекали естественные отправления. Позже пришли ее незамужние подруги с пальмовыми листьями, цветами и лавровыми веточками. А вот им с Корнелией, опустошенным и отчаявшимся, никто не помогал, сами сожгли испорченные простыни, и никаких свечей и поминальных молитв. Все, что сделала Корнелия, – это зажгла топливные форсунки. Нелла глубоко вздыхает, переживая, что Марин была лишена посмертных почестей. Никакой gebuurte для хорошей сильной женщины, которая, родись она мужчиной, могла бы возглавить армию. Но у Марин к концу жизни не осталось друзей.
– Да, пастор, – лукавит Нелла. – Пришли соседи. Но надо поскорей вынести тело. Нужен церковный обряд.
– Незамужней умерла. Можно сказать, прожила жизнь впустую.
Нелла помалкивает. Для некоторых, думает она про себя, быть замужем – значит прожить жизнь впустую. За окном смеркается. Слышно, как органист настраивает трубы, как зажигаются светильники перед вечерними молитвами. Священник встает и разглаживает свою черную сутану, словно передник.
– Если вы желаете похоронить ее здесь, – говорит он, – то это невозможно.
Молчание. Нелла гордо распрямляет спину.
– Почему невозможно, пастор?
Ее голос звучит уверенно и убедительно. Она не позволяет ему сорваться на высокие нотки, которые показали бы ее уязвимость. Пастор смотрит на нее с удивлением. Он не привык давать разъяснения. Он снова садится и с любопытством разглядывает посетительницу.
– Вы ее родственница?
– Я жена Йохана Брандта, – отвечает она после короткой паузы.
– Вот как? – его реакция свидетельствует о том, что теперь он знает, с кем имеет дело. – Примите мои соболезнования, мадам.
– Но не помощь?
Он закрывает приходскую книгу.
– Мы не можем похоронить ее здесь, мадам. На ней как на родственнице лежит пятно. Как и на вас.
– Но, сударь…
– Перебор, сударыня. Среди моей паствы уже больше скелетов, чем людей во плоти. Господи, этот запах! – бормочет он себе под нос. – Все аравийские ароматы не способны заглушить вонь от разлагающихся голландцев. – Вспомнив о посетительнице, он берет себя в руки и показывает пальцем на свой талмуд. – Ничего не поделаешь. По крайней мере душа ее упокоилась. Мне очень жаль, госпожа Брандт, но мы не можем похоронить ее в церковном приделе.
– Не можете…
– Обратитесь в церковь Святого Антония, они вам помогут.
– За городской стеной? Нет, пастор. Она была вашей прихожанкой.
– Которая несколько месяцев не посещала церковь.
– Она тяжело болела.
– Захоронение в черте города теперь для многих стало недоступно.
– Но не для Марин Брандт.
Он вздыхает.
– Вы так настойчивы, но у меня нет свободных мест.
Они встречаются взглядами. Нелла достает из кармана четыреста гульденов и кладет перед ним на стол.
– Если вы все устроите – могильную плиту, гроб, людей, которые его понесут, место захоронения, – то потом я удвою эту сумму.
Пастор смотрит на подношение. Большие деньги. От жены содомита. От женщины, являющейся корнем зла. Но от таких денег вырастают крылья.
Нелле даже забавно наблюдать за его внутренней борьбой.
– Я не могу это принять, – говорит он, глядя на нее. И, помолчав, добавляет: – Другое дело несчастные, нуждающиеся в нашей милости.
– Вы правы, – она выдерживает его взгляд. Следует новая пауза.
– Есть место в углу, в южном приделе, – говорит он. – Как раз для хорошей плиты.
Нелла стоит в раздумьях: «Какой же пигмей. Ну чем он ближе к Богу, чем я? Обыкновенный человек, как любой другой. Интересно, сколько из этих восьмисот гульденов он заберет себе, прежде чем раздать деньги носильщикам гроба и нуждающимся в милостыне?»
Понравится ли Марин угловой вариант? Она всю жизнь прожила в углу и, вероятно, предпочла бы неф. Зато там по ней каждый день ходили бы, топтались. Нет уж, лучше в углу.
– Я говорю правду, мадам. – Пастор Пелликорн убирает деньги во внутренний карман сутаны. – Угол – это все, что осталось.
– Пусть будет угол, – соглашается она. – Но гроб должен быть из отличного вяза.
Он снова берет перо и листок бумаги.
– Как скажете. А что напишем на могильной плите, кроме имени и дат?
Нелла закрывает глаза и вызывает в памяти образ золовки в длинном черном платье, в великолепном головном уборе, с красивыми манжетами, которые надежно скрывают внутреннее смятение. Отрекшейся от сладкого, но прячущей в складках платья засахаренные орешки, скрывающей свою тайную любовь между книжных страниц. Подписывающей прикарманенные географические карты и реализовавшей мечту о серебристой сельди на столе. Испытывающей головокружение от одного вида бекона и колбасы. Презирающей миниатюры и при этом спящей с любимой куколкой под подушкой.
Нелла испытывает тяжесть от бессмысленных поступков Марин, от всех этих вопросов без ответа: Меерманс, Йохан, Отто – эта троица знала ее куда лучше, чем она их.
– Ну так что же? – спрашивает ее Пелликорн.
Нелла прокашливается.