В краю солнца Парсонс Тони
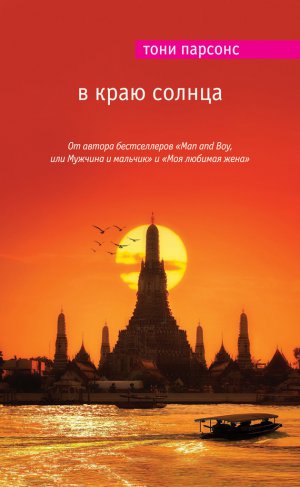
Джесси стоял перед дверью своей квартиры. Рубашка на нем была разодрана, бледное лицо блестело от пота, на лбу алели свежие царапины. Англичанин тупо уставился на нас, словно пытаясь понять, кто мы такие.
– Да? – прохрипел он.
Несколько секунд я просто стоял и молчал.
– Это мой сын, – произнес я наконец.
Ответа не последовало.
– Ты говорил, что нам можно к тебе заехать, – напомнил я.
Джесси уставился на нас обезумевшим взглядом.
– Чтобы посмотреть на гиббона, – добавил Рори.
Еще никогда я не видел сына в таком возбуждении: он покусывал нижнюю губу, а его глаза мигали за стеклами очков.
Из-за двери доносился грохот и треск.
– А-а… – протянул Джесси, пытаясь улыбнуться. – Ну конечно. Твой сынишка. Маленький натуралист, который любит мартышек…
Я взглянул на сына: он плотно сжал губы.
– Гиббоны не мартышки, – тихо произнес Рори и бросил на меня взгляд, который говорил: «Он что, совсем дурак?». – Гиббоны – самые быстрые и ловкие из всех приматов.
Послышался звук бьющегося стекла.
– М-да… – Джесси запустил руку в мокрые от пота волосы. – У Трэвиса – моего быстрого и ловкого примата – сегодня плохое настроение.
В стену ударили чем-то тяжелым, и мы все отскочили назад. В коридор выглянула соседка – тайка лет сорока – и сердито зыркнула на компанию иностранцев перед дверью шумной квартиры.
– Все хорошо, все под контролем, – рассмеялся Джесси. – Извините за шум. Мы больше не будем.
Соседка исчезла за дверью, качая головой и наверняка бормоча ругательства в адрес проклятых фарангов.
– Если мы не вовремя… – начал я.
Рори бросил на меня испепеляющий взгляд: «Молчи!». Удивительно, как много может сказать ребенок, не произнося ни слова.
– Если честно, совершенно не вовремя, – ответил Джесси. – Может, заглянете как-нибудь в другой раз?..
Снова шум за дверью, но уже не так близко. Треск. Удар. Далекий скрип.
– Сколько Трэвису лет? – спросил Рори.
Джесси покачал головой.
– Пять – по крайней мере, так мне сказали в баре. Я ведь нашел его в баре. Вроде как спас. Вырвал из пучины разврата. Лет пять-шесть, наверное.
– Дело не в плохом настроении. – Мой сын вздохнул с таким снисходительным видом, какой может напустить на себя только девятилетний ребенок. – Дело в половом созревании.
Джесси рассмеялся; я и сам не смог сдержать улыбки.
– И много ты знаешь о половом созревании? – поинтересовался он.
Рори сощурился:
– А вы много знаете о гиббонах?
В квартире было теперь тихо. Я взял сына за руку, но он отстранился.
– Я хочу на него посмотреть. – Рори повернулся к Джесси. – Сэр, можно нам посмотреть на вашего гиббона?
Джесси прислушался: тишина.
– Да он глаза тебе выцарапает, малыш. Он там совсем озверел.
– Это просто половое созревание. В таком возрасте гиббоны хотят либо спариваться, либо драться.
– Тихо, как в баре после закрытия, – пробормотал Джесси.
Мы оба взглянули на Рори, пытаясь решить, что же нам делать. Потом мой сын открыл дверь, и мы вошли.
В холостяцкой квартире с видом на пляж Сурин царил бардак – несомненно, еще больший, чем обычно: по всему коридору валялись битые тарелки, на стене – пятно, по потолку размазана какая-то еда.
– Прошу прощения за беспорядок, – сказал Джесси.
Гиббона Трэвиса мы нашли на кухне. Он сидел на корточках рядом с раковиной, пил из банки пиво «Сингха» и задумчиво оглядывал тесное помещение большими черными глазами.
– Старина Трэвис любит отдохнуть и выпить пивка. – Джесси коротко рассмеялся. – Притомился, бедняга. Еще бы, целый день чесал задницу и громил квартиру.
– Нет, – произнес Рори. Даже не глядя на сына, я знал, как отчаянно он старается не расплакаться. – Он просто забыл. Просто забыл, вот и все.
Трэвис покосился на нас краем глаза, и внезапно я испугался: не надо было приводить сюда моего мальчика.
– Что забыл? – спросил Джесси.
– Забыл, что он гиббон, – ответил Рори. – Разве не видите? Трэвис не знает, как ведут себя гиббоны. Наверное, его украли у матери, когда он был совсем маленьким.
Мы стояли и смотрели, как Трэвис хлещет из банки пиво.
– Он жил у фотографа, который работал на пляже Патонг, – объяснил Джесси, – а потом попал в бар.
Гиббон задумчиво покопался в своей мягкой коричневой шерсти, поймал насекомое и сунул его в рот.
– Как он попал к фотографу – не знаю, – закончил Джесси.
Розовой ковбойской шляпы на Трэвисе больше не было, но его вид по-прежнему напоминал о «Безымянном баре» и ночи на Бангла-роуд. Гиббон играл бицепсами и щурил глаза, словно что-то прикидывал и готовился к решительным действиям.
– Такое животное нельзя держать в баре, – произнес Рори. – Животных вообще нельзя держать в барах. Их заводят для забавы, а это очень неправильно.
Передо мной стоял сын, но слышал я голос жены. Оба они смотрели на мир ясным, незамутненным взглядом и сразу объявляли, хорошо то, что они видят, или плохо, даже если никто не спрашивал. Я любил их за эту душевную чистоту, и в то же время она меня пугала.
Гиббон уставился в нашу сторону, как будто только что нас заметил.
– Хватит буянить, Трэвис, – сказал Джесси. – У нас гости.
У Трэвиса была мягкая коричневая шерсть, черная морда, окаймленная полосой белоснежного меха, и круглые глаза – влажные, черные, бездонные, – выражение которых я могу описать только словом «боль».
Джесси протянул Трэвису открытый пакет сырных чипсов. Гиббон выхватил пакет у него из рук и принялся запихивать чипсы в рот. Во все стороны полетели оранжево-желтые крошки.
– Любит жирные сырные чипсы-шмипсы, – вполголоса произнес Джесси. – Они его успокаивают.
Рори не сводил с Трэвиса глаз.
– Гиббоны питаются мелкими животными вроде древесных ящериц и некоторыми насекомыми: муравьями, жуками, бабочками, сверчками, палочниками, личинками, малазийскими листовидными богомолами. Они не питаются жирными сырными чипсами-шмипсами.
Трэвис вытер рот тыльной стороной ладони и схватил хлебный нож, потом в два прыжка пересек кухню и оказался перед нами. Он по-прежнему сжимал в руке нож, и лезвие ножа было приставлено к горлу Джесси.
Рори легко дотронулся своей рукой до руки Трэвиса.
Гиббон замер.
Он потрясенно уставился на маленькую пухлую ладонь ребенка, которая лежала на его мохнатой коричневой руке чуть ниже локтя. Долгое время ни тот, ни другой не шевелился. Наконец гиббон попятился назад, медленно и осторожно, словно боясь резким движением потревожить моего сына. Мы все стояли как вкопанные, а гиббон тем временем вернулся к раковине и стал разглядывать свои ногти.
– Ни хрена себе! – вырвалось у Джесси. – Где ты этому научился?
Рори не удостоил его вниманием, а я знал ответ и так: вычитал в книге.
– Мне все время кажется, что нас поразит громом, – проговорил Джесси и посмотрел на меня.
– Что? – переспросил я, привлекая к себе сына.
– Мне все время кажется, что с неба ударит молния и покарает всех нас за то, какую жизнь мы здесь ведем. За то, что живем не по правилам. За то, что врем. За те поступки, которые совершаем.
– Прекрати, Джесси, – раздраженно оборвал я. – Не говори ерунды.
– Знаю, я дурак, – продолжил он, обращаясь теперь к Рори. – Зря я привел его сюда. Это глупо. Глупо и неправильно. Но в баре он все время пил пиво, пока его не начинало рвать. Ему спилили зубы и давали какую-то дрянь, чтобы он не засыпал до закрытия. И еще заставляли носить шляпу, а он ее терпеть не может. – Джесси повесил голову и добавил: – Я думал, с ним мне будет веселее.
– Нет, – сказал мой сын и положил свою руку на руку Джесси, как до того гиббону, – вы думаете, что поступили плохо.
Рори поднял на нас глаза и улыбнулся, и на секунду мне почудилось, будто это он – взрослый, а мы – дети.
– Не волнуйтесь. По-моему, вы нашли его как раз вовремя.
6
Джесси на ринге приходилось тяжко.
Он хромал, рот у него скривился от боли, а на нижней губе выступила кровь.
Молодой англичанин горой возвышался над маленьким тайцем, однако всякий раз, как он делал шаг вперед, противник пинал его голенью в бедро. Всегда один и тот же прием: худая смуглая нога тайца взлетала вверх и резко ударяла Джесси по пухлому молочно-белому бедру. На лице моего друга отражалась такая явная боль, словно его били током.
Фэррен наклонился и прокричал что-то мне в ухо, но я не понял ни слова. Ближе к полуночи на стадионе для тайского бокса шум стоит оглушительный. Где-то среди стропил сидят музыканты, настолько искусно спрятанные, что их можно принять за какое-то сумасшедшее радио. Постепенно музыка становится все неистовее, пока звуки дудок, барабанов и тарелок – сильнее всего заметно бряц-бряц-бряцание тарелок – не начинают напоминать выкрики обезумевшего комментатора, который улюлюкает и подзуживает дерущихся. В жизни не слышал такой какофонии. Фэррену пришлось обнять меня за плечи и притянуть к себе, чтобы я смог хоть что-нибудь разобрать.
– Посмотрите! – прокричал он, указывая на ринг. – Знаете, почему Таиланд так и не колонизировали? Почему из всех народов Азии плохой белый человек с Запада не смог поработить только тайцев? Потому что безобидные они лишь с виду.
Прямо над нами Джесси пошатнулся и повис на веревках, а маленький таец приготовился к последнему удару. Я осознал, что изо всех сил кричу: «Джесси!» Бесполезно.
По другую сторону от Фэррена вскочил на ноги и загоготал русский. Я забрал его из отеля «Аманпури» на пляже Сурин и отвез сюда, на стадион в Чалонге, всю дорогу чувствуя на поясе его большие мясистые руки. Русский жил на самом элитном курорте острова, но, в отличие от многих других, не стал жаловаться, что за ним прислали мотоцикл.
Встречи с клиентами Фэррен часто проводил по ночам. На Пхукете два времени года – засушливый сезон и сезон дождей, – однако жарко тут всегда, особенно днем. Поэтому делами обычно занимаются в темное, прохладное время суток, когда легче работать, думать, продавать и мечтать.
– Безобидные они лишь с виду, – повторил Фэррен. – Тайцы – милейший народ, но способны на крайнюю жестокость, если их довести. Совсем как британцы.
Сказано это было не в укор.
– Давай, Джесси! – засмеялся Фэррен. – Убей этого мелкого гада!
Джесси стоял на дальнем краю ринга, опираясь спиной на веревки. Он сделал противнику знак приблизиться, и таец приблизился, а потом пнул его в бедро снова, и снова, и снова – три слившихся в один удара, от которых в животе у меня что-то сжалось.
Фэррен отвернулся, поднял банку пива и чокнулся с русским, который, похоже, был в полном восторге от происходящего. Мы сидели в ВИП-зоне. От всех остальных она отличалась тем, что наши места отгородили веревкой и каждому выдали полиэтиленовый пакет с двумя банками пива «Тайгер». Я нервно сделал глоток.
Пригнувшись и размахивая кулаками, Джесси бросился вперед – последняя отчаянная попытка пробить защиту маленького тайца, пока тот окончательно его не изувечил. Но таец поднял одно колено и метко ударил моего друга в подбородок. Джесси рухнул на руки судье, который обнял его, словно любящий родитель, и объявил бой оконченным. Я испытал болезненное облегчение – все позади.
От восторга маленький таец сделал несколько безупречных сальто назад, звонко ударяя босыми ногами в покрытый истертым брезентом пол.
Пирин, таец Фэррена, сидел в углу. Он посмотрел на меня и кивнул. Музыканты перестали играть, и теперь можно было нормально разговаривать, а не перекрикиваться.
– Ну что, Том, все в порядке? – спросил Фэррен. – Жена-дети здоровы?
Видимо, выражение моего лица изменилось, потому что он наклонился, ткнул меня пальцем в грудь и сказал, обдавая меня запахом пива:
– Машину мы вам достанем. Хватит ездить на старом мотоцикле.
Вот он, шанс, которого я так ждал.
– Мотоцикл мне нравится. Я его отремонтирую, и будет как новенький.
Я давно обдумывал этот разговор и медлил не больше секунды.
– Моя виза – вот что меня беспокоит. Это ведь туристическая виза. Я ценю то, что вы для нас делаете – правда ценю, – но я хочу, чтобы все было по закону.
Добавить мне было нечего. Я хотел работать, но работать законно, и Тесс хотела для меня того же.
– Так все приезжают по туристической визе! – Фэррен похлопал меня по спине. – С формальностями разберемся потом. Мы же не позволим этим проклятым бюрократам ставить нам палки в колеса, верно?
– Верно, – улыбнулся я. Ничего не изменилось, но я все равно испытал огромное облегчение. – Конечно, не позволим.
Я поднялся на ринг, где Пирин приводил в чувство Джесси.
– В муай-тай всегда так, – сказал Пирин. Из-за акцента название тайского национального спорта в его устах звучало как-то непривычно. – Пинок уступает удару. Удар уступает колену. Колено уступает локтю. Локоть уступает пинку.
Мы помогли Джесси встать. На ногах он кое-как держался, но выражение его бледно-голубых глаз меня пугало: взгляд их не был сосредоточен ни на чем определенном.
– А Джесси уступает всем, – со смехом подытожил Пирин и хлопнул его по спине.
Джесси посмотрел на нас.
– Что случилось? – с трудом спросил он.
– Ча-на норк, – ответил Пирин, – нокаут. Но тебе нечего стыдиться. Ты храбро сражался. Гордись своим сердцем.
– Нет, – сказал Джесси, – что случилось со мной? Я же умел драться. – Он печально посмотрел на меня. – Правда умел, и довольно неплохо.
– Знаю, – кивнул я. – Я видел твои бои. Ты показывал мне видео, помнишь?
– Ты видел записи моих боев?
Мы помогли ему пролезть между веревками и усадили на стул в ВИП-зоне. Рядом с туалетами было отведено специальное место, где боксеры готовились к бою, зализывали раны и делились друг с другом снаряжением – делились они на удивление охотно, – однако Джесси вряд ли осилил бы путь до туалетов.
Фэррен тем временем обрабатывал русского.
– Прежде всего вы переводите в Таиланд сумму в иностранной валюте, равную стоимости покупки. Как получить форму ТТ3, мы вам объясним – это особая справка из банка, ее нужно предоставить в Земельный департамент Таиланда. Потом «Дикая пальма» помогает вам основать тайскую компанию, которая вправе приобретать землю совершенно легально. Компанию, которую полностью контролируете вы. Вам разрешается владеть до сорока девяти процентов акций.
Возникла пауза – в «Дикой пальме» она называлась денежной.
Фэррен молча смотрел на русского, давая ему возможность задать наиболее очевидный вопрос: «Как я могу контролировать компанию, если мне принадлежит меньше половины всех акций?»
Но русский ничего не спросил.
Никто никогда не спрашивал.
Джесси сидел, свесив голову между коленей. Мы с Пирином посторонились, давая пройти двум бойцам. Их тела блестели в свете электрических ламп, но не от пота, как мне сначала показалось. Теперь, вблизи, я разглядел, что кожа тайцев смазана маслом. На голове у обоих были плетеные повязки, вокруг бицепсов – разноцветные тонкие шарфы. Бойцы вышли на ринг и описали круг, слегка дотрагиваясь пальцами до веревок.
– Отгоняют злых духов, – пробормотал Джесси.
Я посмотрел на друга, ожидая увидеть в его глазах насмешку, но в затуманенном взгляде Джесси читалась вера.
Тайцы встали на колени и коснулись лбами пола, потом широко раскинули руки и начали раскачиваться, опираясь на стопу одной ноги, а другую выставив вперед. Это было нечто среднее между разминкой и молитвой, гимнастическим упражнением и медитацией.
– Вай-кру, – пояснил Джесси.
– Помни и почитай, – кивнул Пирин. – Помни и почитай предков. Учителя. Страну. Бога. Короля.
Теперь бойцы стояли в центре ринга и улыбались – да-да, улыбались! – осторожно соприкасаясь лбами и руками в перчатках, похлопывая друг друга по плечу с почти братской заботливостью. Хотя нет, никаких «почти»: заботой дышали даже их улыбки. Они не были похожи на готовящихся к бою боксеров. Они были похожи на двух сыновей одной матери.
– Снова выражают почтение, – сказал Пирин.
Однако со стороны это выглядело не как почтение, а как нечто более глубокое, более сильное. Хотя Фэррен видел между нашими народами много общего, в одном тайцы точно нас превзошли – в умении проявлять любовь.
Бой начался. Когда на ринг выходил европеец – кроме Джесси среди участников было еще несколько фарангов, – поединок начинался с места в карьер. Если же выступало двое тайцев, то перед боем они вместе исполняли что-то вроде танца – вращали головой, делали несколько робких выпадов, словно в любую минуту могли все отменить, обняться и пойти пить чай. Потом напряжение внезапно нарастало, и они набрасывались друг на друга с таким неистовством, что у зрителя перехватывало дыхание.
– Посмотри на них! – заговорил Джесси, оживляясь. – Настоящий балет! Плюс кровь, переломы и никакой защиты. Никакой защиты, Том! Можешь себе представить? Ни шлема, ни хотя бы майки. Только суспензорий и волшебная татуировка.
– Волшебная татуировка? – с улыбкой переспросил я.
Джесси кивнул на Пирина.
– Покажи ему.
Пирин задрал футболку с надписью «Стокгольмский марафон-2002». Под ней оказалась огромная, во всю грудь, татуировка в виде тигра.
– Делает бойца неуязвимым, – сказал Джесси и усмехнулся: видимо, в его душе ненадолго возобладал английский здравый смысл. – Пока бедолагу не переедет тук-тук.
Пирин одернул футболку.
– Очень хорошая защита, – подтвердил он таким тоном, словно мы обсуждали, как выгодно застраховать дом.
Джесси заплакал. Я обнял его одной рукой и принялся укачивать, как ребенка.
– Может, это не мое? – всхлипывал он, уткнувшись лицом мне в грудь. – Может, я просто обманываю себя и зря трачу время?
Пирин заправил футболку и задумчиво посмотрел на сломленного мальчика, рыдающего у меня на груди, а потом, под аккомпанемент все убыстряющейся музыки, рассказал нам о человеке, который разбирается в подобных вещах.
Кабинет предсказателя находился на плохо освещенной улочке в пригороде Пхукет-тауна и представлял собой вцементированный в землю каменный стол.
За столом сидел полный старик с густой шапкой седых волос – сам предсказатель, или мо-ду, как назвал его Пирин. Рядом с ним стоял потрепанный портфель, до отказа набитый старыми книгами и фотографиями святых в шафрановых одеждах. Все они были засняты в одинаковых позах – ноги скрещены, руки покоятся на коленях. Ни один не улыбался на камеру.
На столе были нарисованы две разделенные на сектора ладони. На стене позади мо-ду висел плакат размером с простыню, покрытый изображениями слонов, воинов, землепашцев, богов, царей и каких-то странных животных. У меня они ассоциировались скорее с индуизмом, чем с буддизмом – скорее с Индией, чем с Таиландом. Хотя откуда мне знать?.. Сначала я решил, что нарисованное на столе поле в черную и белую клетку – тоже часть обычных декораций, но когда Пирину сделали знак выйти вперед, и он занял место напротив мо-ду, я понял, что это просто доска, за которой режутся в шахматы старики всей улицы, или всей сой, как говорят по-тайски, причем «сой» может означать что угодно, от боковой дороги до узкого переулка. Мо-ду взял Пирина за руки, и мой приятель принялся рассказывать ему о своих злоключениях.
Мо-ду – наверное, точнее назвать его не предсказателем, а всевидящим доктором, потому что Пирин относился к его словам скорее как к полезным советам, чем как к ворожбе старой цыганки с кольцами в ушах, – внимательно изучил ладони Пирина и принялся листать потрепанную книгу, время от времени указывая на какие-то числа концом сильно изгрызенной ручки. Не знаю, о чем они говорили; со стороны их беседа очень напоминала нашу последнюю встречу с бухгалтером, когда он объявил, что моя строительная фирма разорилась и я банкрот.
Пирин сделал вай, заплатил мо-ду, потом встал и кивнул на меня:
– Теперь ты.
Я рассмеялся, покачал головой и попробовал объяснить, что это Джесси, а не я, хочет узнать, какая судьба ему уготована, верный ли путь он избрал и все в таком духе, но старый доктор указывал мне на стул, Пирин ободряюще улыбался, а сам Джесси подталкивал меня вперед и повторял, чтобы я шел первым, словно боялся услышать от мо-ду правду о своем будущем. Да и вообще, отказаться было бы невежливо.
Мо-ду взял мою правую руку. Я протянул ему и левую, стараясь быть полезным, но он отрицательно покачал головой, и я спрятал ее под стол.
Мо-ду принялся тереть мясистую часть моей ладони между большим и указательным пальцем. Я поднял взгляд на Пирина и Джесси и смущенно улыбнулся, однако они смотрели не на меня, а на старого доктора.
Он поглаживал мою кожу, проводил кончиками пальцев по линиям ладони и надавливал на них, как будто пересчитывал годы, которые мне остались.
Я осознал, что больше не улыбаюсь.
Наконец мо-ду обратился ко мне по-английски:
– Тьма в одном шаге от вас.
Я вырвал руку, встал и пошел прочь. За спиной у меня Пирин со старым доктором принялись лаяться по-тайски из-за денег. Джесси хотел меня догнать, но я сорвался на бег и не останавливался, пока не отыскал переулок рядом со стадионом, где оставил «Роял Энфилд». Я вскочил на мотоцикл и промчался мимо Джесси. Он что-то крикнул мне вслед, но слова потонули в реве двигателя.
Еще никогда я не ездил на Пхукете так быстро. Местные дороги и сводки происшествий внушали мне страх даже в сухую погоду, и я старался более или менее придерживаться своей полосы и скоростных ограничений.
Однако в ту ночь сердце у меня колотилось от ужаса, и я что есть мочи гнал «Роял Энфилд» – сначала по длинной дороге из Пхукет-тауна, мимо пьяных туристов, которые хозяйничают на западе острова, все дальше на север, пока толстые фаранги с обгоревшими на солнце физиономиями и тощими девицами не остались далеко позади; на север, вдоль сочно-зеленых каучуковых плантаций, сейчас казавшихся чернее самой ночи, мимо деревень, которые появляются и исчезают так внезапно, словно они тебе просто привиделись, мимо золотых храмов, таких огромных, богатых и заброшенных, что их никак нельзя принять за видение – скорее за останки забытой древней цивилизации… Гнал, стараясь не сбить замечтавшихся местных жителей, не в меру самостоятельных детей и водяных буйволов, уснувших прямо посреди неосвещенной дороги, выжимая из старого мотоцикла все, что только можно, и уже не отличая рев дизельного двигателя от стука крови в ушах, потому что мне нужно было попасть домой, к семье.
Все окна в доме горели. Я оставил мотоцикл у крыльца и вошел. Стащил с головы шлем – волосы намокли и липли ко лбу, все тело было скользким от пота. Прошло несколько долгих секунд, прежде чем я понял, что в семье ссора.
– Она капризничает, – объявила Тесс.
Жена стояла над Кивой, а та, повесив голову, сидела за кухонным столом над раскрытой книгой. В углу Рори, полулежа в кресле, читал справочник с каким-то грызуном на обложке. Он явно предпочитал не вмешиваться.
– Отказалась сегодня работать, – продолжила Тесс. Кива и бровью не повела. – Не стала обедать. Тогда я попросила ее почитать, а она и этого не может!
– Жарко, – протянула Кива, сердито глядя на нас сощуренными глазами. – Постоянно жарко.
– Ах, так ты хочешь целыми днями валяться у бассейна? – язвительно поинтересовалась Тесс. – Тогда давай наймем прогулочную лодку, и ну ее, эту работу! Может, мне попросить официанта принести мороженого?
Она посмотрела на меня, словно ждала, что я что-нибудь скажу или позову официанта, но я только покачал головой.
– Я не говорила, что хочу мороженого! – возмутилась Кива. – Я только сказала, что мне жарко. И мне правда жарко.
А потом открылась настоящая причина недовольства:
– Мне здесь не нравится, ясно? Или об этом говорить тоже запрещено?
– А мне нравится, – подал голос Рори, хотя его никто не спрашивал. – Мне нравятся господин и госпожа Ботен. Нравится, что мама нас учит. Нравится остров. – Он устроился поудобнее, снова раскрыл книгу и добавил: – Здесь больше животных, чем в Англии.
Кива взорвалась:
– Тебе здесь нравится, потому что дома у тебя не было друзей! – закричала она. – Только я и хомяк! Сестра и жалкий хомяк!
– Неправда, – обиженно ответил Рори, – у меня были друзья, просто я никого из них не выделял. Я дружил со всеми.
У Кивы на глаза навернулись слезы.
– А у меня была Эмбер, – проговорила она, и при мысли об оставшейся в Лондоне подруге ее лицо жалобно скривилось. – О, Эмбер, Эмбер, Эмбер!..
Я шагнул к дочери и осторожно дотронулся до ее плеча.
– Ангел, в нашей жизни большие перемены. К ним просто надо привыкнуть.
Она посмотрела на меня так, словно я совсем ничего не понял.
– А я не хочу привыкать! Я скучаю по школе. По Лондону. По Эмбер.
– Есть ведь скайп, – сказал я, понимая, что это слабое утешение. – Есть и-мейл.
– Что за чушь?! Как можно дружить по скайпу?!
– Не смей так разговаривать с отцом! – оборвала ее Тесс.
– Все в порядке, – поспешно проговорил я, – пустяки.
– Нет, не пустяки!
Жена пододвинула стул и села рядом с Кивой. Та сделала вид, будто ее не замечает.
– Посмотри на меня, – приказала Тесс, и Кива тут же подняла голову. – Послушай, что я тебе скажу.
Кива задрала подбородок, обиженно поджав губы. Тесс приблизила свое лицо к лицу дочери.
– Мы переехали, потому что папа получил здесь работу, – заговорила она. – У меня вот не было ни папы, ни мамы.
– Тесс, не надо, – попросил я.
– Нет, надо. Пусть послушает.
– Я и так все знаю! – поспешно вставила Кива. – Не нужно рассказывать!
Она с трудом сглотнула, и повисло молчание. В каждой семье есть темы, которых стараются не касаться. В нашей – это сиротское детство Тесс. Мы говорили о нем редко, в основном когда ссорились. Мы хотели, чтобы оно навсегда осталось в прошлом, хотели больше к нему не возвращаться – и почему-то не могли.
Тесс заговорила:
– Мое самое первое воспоминание – это дом, который не был мне домом. Вместе со мной там жило много других детей. От всех родители отказались, потому что не хотели или не могли о них заботиться. Потом меня отдавали на воспитание в чужие семьи. В каких-то ко мне относились неплохо, в каких-то хуже. Иногда со мной дурно обращались сами взрослые, иногда – их родные дети: одни не хотели, чтобы я оставалась в их семье, другим просто нравилось меня обижать.
– Тесс, хватит… – произнес я, пытаясь поймать ее взгляд, пытаясь ее остановить. – Она еще слишком маленькая.
Тесс не обратила на меня внимания.
– Настоящего дома у меня не было никогда. Так что тебе – тебе, Кива, – очень повезло.
Кива заплакала.
– Я знаю, знаю, знаю… – проговорила она.
– У тебя есть дом, – сказала Тесс. Гнев понемногу ее отпускал, но все же она продолжала: – У тебя есть папа, мама и брат, и твой дом там, где они. Ты понимаешь меня?
– Да. Да. Да.
Кивины слезы падали на страницы забытой книги.
– Вот и хорошо, – улыбнулась Тесс. – А теперь иди ко мне.
Они обнялись, извиняясь и повторяя, что любят друг друга, и я подумал: она классная мать. По временам Тесс бывала с детьми гораздо строже, чем я, но я знал, что она не может видеть, как они плачут.
Пока девочки обнимались, Рори посмотрел на меня и приподнял брови, как бы говоря: «Хорошо, что мы не стали вмешиваться и дали им самим разобраться».





