Кащенко. Записки не сумасшедшего Котова Елена
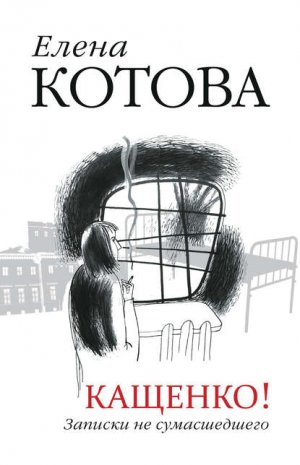
– Ошиблись.
– Но раз вы знаете, что подали не то, что я просила, зачем спрашивать, как мне это понравилось?
– Что? Я ничего не понял! Нет, я понял, что все не так, но о чем вы говорили? – Россия вновь заставила Брайана забыть о своем пофигизме, он вертелся на стуле, переводя взгляд со своей спутницы на официанта. Официант ходил по залу, бросая косые взгляды на их столик.
– Вот скотина! Ходит по залу и бросает хамские взгляды в нашу сторону! Позови менеджера, я хочу говорить с ним.
У менеджера был неплохой английский, что тоже было понятно.
– Ваш официант! Он думает, он кто? Он думает, что раз мы пьем водку, а не французское бургундское, которое у вас по триста евро за бутылку, когда ему красная цена тридцать, то мне можно хамить? Он оскорбил мою женщину. Вы понимаете, что это значит, оскорбить женщину, которая пришла со мной? Вы не знаете, с кем имеете дело…
Менеджер извинялся и спрашивал, чем он может скрасить их вечер.
– Вы не знаете, с кем имеете дело, – повторял Брайан. – Я ирландский паратрупер и колумнист ведущих изданий мира. А она, – он кивнул на спутницу, – известный писатель и журналист. Если этот тупой козел не извинится, я выбью ему здесь и сейчас все зубы.
– Можно, я его лучше сразу уволю? – проникновенно, но неискренне спросил менеджер, зная, что никакие силы небесные не помогут ему заставить официанта извиниться за обычное для Москвы ресторанное хамство. – Что вы хотите на десерт?
– Я не ем сладкого, – заявил Брайан. – Я бы выпил еще рюмку водки и кофе.
– Две водки и два кофе, – менеджер поставил напитки на стол. – За счет заведения.
– Разумеется, – заявила спутница Брайана, а Брайан попросил счет, подчеркнув, что под курицей он не подпишется. Бросив на стол черную карточку American Express, ухмыльнулся в лицо менеджеру:
– Я ирландский паратрупер. У меня на счету шестьсот прыжков. Вам же не нужен мордобой в ресторане. Вы молодец, все правильно поняли. Но того хама вы должны уволить…
Менеджер слушал, спутница Брайана тихонько ржала.
– Я знаю Россию, – сказал Брайан, когда менеджер отошел от стола. – Он все понял. Ему было стыдно, потому что он профессионал.
– Профессионал, – согласилась спутница, – только ему не было стыдно. Он стоял и думал: «Что за скотская у меня работа. Руководить кретинами-официантами и выслушивать ирландского паратрупера. Хочу спокойно отработать свою смену и уйти домой».
– Ты думаешь, он та-а-ак думал? – с сомнением спросил Брайан. – Вряд ли. Он высокоразвитый человек, не то что его официант, скотина. Слушай, может все-таки выбить ему зубы? Скотов надо учить.
Как надо учить скотов, Брайан хорошо знал. Его семья переехала из Дублина в Лондон, когда ему пришло время идти в школу, конечно же, лучшую. Поселились в буржуазно-сытом Саут-Кенсингтоне, и он был отправлен в католическую школу Сент-Филипс. Отец прививал сыну любовь к ценностям мировой культуры и рассуждал о бесконечности познания. В обмен на привитую любовь Брайан выторговал мотоцикл и стал крутым отвязным пацаном, что было необходимостью: жизнь коренастого, чуть ниже среднего роста мальчишки с ирландским акцентом в Лондоне середины 70-х не многим отличалась от жизни чернокожих детей США конца 60-х. В школе он столкнулся со скрытым пороком католической конфессии – два его друга стали наложниками священников, а Брайан заключил, что педофилия – лишь одно из проявлений жизни. Ему же ум и хорошие гены не позволяли ни уйти в примитивный протест изгоя, ни брести по отведенному обществом пути, снося обиды. Он был особенный и знал это. Уже тогда он знал, что должен самоутверждаться на всех и ничего не брать в голову, чему весьма помогали и длинные волосы, и сходки байкеров, где накачивались пивом и роком до одури, и драки как немедленный ответ на агрессию. После второго привода в полицию отец перевел его в школу Хилл-Хаус, а через два года отправил в Кембридж, в Тринити-колледж.
В университете державшиеся своей стайкой alumni Итона и Хэрроу были готовы принять его за своего, поскольку в Хилл-Хаус когда-то ходил принц Чарльз, но Брайану на это было начхать. Он читал то, что нравилось, и затевал в пабах либо драки, либо диспуты – по настроению. Главным развлечением было разогнаться на байке и прыгать с холма на мост, при этом не свалиться в овраг после приземления. В отличие от многих, он ни разу не покалечился.
К окончанию университета произошло то, что рано или поздно должно было произойти. К пьяным студентам, оравшим песни на террасе паба под магнитофон, должны были подойти полицейские. Когда один из них, скрутив руки приятелю Брайана, ударил его головой о стол, Брайан послал копа в нокаут. Судья признал злоупотребление властью со стороны полиции, но коп лежал в больнице с травмой позвонка. Это означало тюрьму. Судья был готов к компромиссу, а адвокаты отца выторговали оправдательный приговор и войска НАТО вместо Иностранного легиона.
В армии Брайан узнал, что дедовщина и групповое изнасилование – еще одно из проявлений жизни, неизбежное в замкнутом пространстве, где против воли собраны полные энергии мужчины. Но он был самым образованным, не лез в карман за словом и всегда был готов к драке. Он знал, что выживет. Первые три года их полк стоял в Голландии.
В Нормандии стало повеселее, жаль, что простояли они там меньше двух лет, из которых Брайану больше всего запомнился приезд генерала Лебедя. А еще барменша из кафе, куда ходили всей толпой. Брайану было двадцать пять, барменше – тридцать. Нет, чувства в этом не было, скорее желание показать, сколько в нем, в отличие от остальной солдатни, класса, как он умеет обращаться с женщиной, говорить по-французски. Они и переспали-то всего несколько раз, а потом их полк перебросили в район Гармиш-Партенкирхена.
В Баварии срок его контракта подошел к концу, и Брайан вернулся в Лондон. За годы его отсутствия многие из друзей сделали карьеры, достигли успехов, но, странным образом, прежняя тусовка не распалась благодаря особой сплоченности, присущей байкерам, даже бывшим. В отличие от них, Брайан с байком расставаться не собирался. Он купил новый байк, отрастил прежние длинные волосы и носил исключительно грязные кожаные байкерские куртки или жилеты, непременно чуть тесноватые и кургузые.
Годы, проведенные в армии, Брайан потерянными не считал: он узнал о европейцах все, хотя, по правде говоря, он и раньше знал о них почти все. Он пил с ними, шутил, дрался с ними, он семь лет спал с их женщинами.
Армейская бывалость и мгновенный писательский успех давали право на многое, практически на все. Нелепые наряды лишь подчеркивали его уникальность. Иногда Брайан рассматривал свои военные фотографии и поражался тому, что именно в армии он выглядел совершенным ангелом… Мальчик в аккуратном черном берете, задумчивые глаза, не наглые, а подернутые грустью и сомнением…
В их лондонской компании ему не давала покоя одна девушка. Селин была француженкой, работала модельером. Не миниатюрная, скорее чуть мосластая, но с модным отсутствием женских округлостей и длинными запястьями, сероглазая блондинка, невероятно стильная. Сказать, что Брайан был влюблен, было бы, пожалуй, неправдой: он не мечтал о Селин, сознавая, что ни его армейское прошлое, ни эпатажный облик, ни едкий юмор не заинтригуют ее настолько, чтобы возникла та доверительная заинтересованность, с которой начинаются отношения. Селин не замечала его, а напор с такими девушками был неуместен. Выжидал ли он? Этот вопрос он себе не задавал.
Летом вся гоп-компания неделю праздновала свадьбу одного из бывших однокашников в Провансе. Брайан переправился с байком на континент на пароме, проехал тысячу двести километров и явился на торжество к вечеру второго дня потный, пыльный, с немытыми волосами и шлемом под мышкой. Для увеселения гостей были приглашены ни много ни мало Ace of Base, но за два дня они успели всем изрядно поднадоесть. Брайану налили штрафную и потребовали, чтобы он спел.
Взяв у солиста гитару, он спел старинную ирландскую песню, потом вторую, третью… Вернул гитару, как бы ненароком сел рядом с Селин, та впервые посмотрела на него: «По крайней мере, ты умеешь петь». И потянулась сигаретой к зажигалке соседа справа.
Брайан вышел в соседний зал, где был накрыт фруктовый стол. Он был зол и голоден. Он хватал руками ломти дыни, арбузов, разложенные на блюдах, и запихивал их в рот. Дверь открылась, вошла Селин: «Вкусная дыня?» Брайан протянул ей ломоть. Не сводя с него взгляда, Селин откусила кусок дыни и стала языком слизывать сок с ломтя. Брайан подошел к ней, взял зубами из ее пальцев остаток ломтя, сплюнул на пол. Обхватил Селин за талию, посадил на стол, стянул из-под платья трусики и опрокинул ее во фруктовое месиво…
Через два месяца они поженились и переехали в Париж. Селин работала стилистом в Vogue, а Брайан продолжал писать, все больше переходя на французский. Литераторство на французском доставляло особое эстетическое удовольствие. Он состриг длинные волосы и, несмотря на свои тридцать шесть, выглядел как подросток с задиристо-модным хохолком на макушке. Мало что могло поколебать его суждения о немцах, евреях или французах. Французов он, кстати, терпеть не мог, но ему нравился Париж, а Селин не нравился Лондон.
Детей они решили не заводить. Брайан знал, что на роль отца он, как, впрочем, и никто другой, не годится: любой отец способен лишь искалечить ребенка своими представлениями о жизни. Так было и с ним, и со всеми, кого он знал. Еще одна сторона жизни, размышлять над которой не было нужды. В жизни не так уж много ценностей, но теми немногими, что приносили радость бытия, Брайан дорожил. Своими пацанскими повадками, например. В сорок пять он по-прежнему носил на макушке хохолок мальчишки-задиры, с готовностью устраивал, если был повод, скандалы в ресторанах, занимался сексом с Селин на общественных пляжах, гонял по ночному Парижу на ревущем байке. В издательства являлся в старомодном костюме с коротковатыми брюками и платком в нагрудном кармане, в сопровождении почтенного адвоката и разговаривал с издателями занудно-изысканным литературным языком с вкраплением матерных слов, якобы случайно сорвавшихся с языка…
На следующий вечер после ужина в «Мистере Ли» Брайан улетал из Москвы. Они пили с клиенткой кофе в лобби его отеля, клиентка размышляла, чем бы порадовать Брайана перед отъездом, а тот отказывался идти в новую Третьяковку смотреть русский Серебряный век, повторяя, что в любом городе главное – архитектура и люди, а он уже узнал и то и другое. Подумав, добавил, что не прочь посетить Центр подготовки космонавтов, но выяснилось, что туда надо было подавать заявку с копией паспорта за неделю. «Говорю же, полицейское государство!» – Брайан даже обрадовался.
– Москва мне понравилась, в следующий раз привезу Селин, – сказал он на платформе экспресса в аэропорт. – Я так все и представлял, но приятно было увидеть собственными глазами. И три дня оказалось вполне достаточно.
– Ты серьезно считаешь, что за три дня можно понять город, страну?
– Конечно, все же сразу понятно. Вообще, все просто, если не считать нюансов. А нюансы – это не для меня. Нет, не потому что я не способен их видеть, а потому что не люблю людей, которые занимаются рефлексиями по поводу нюансов до бесконечности. Я и так все знаю. Я люблю Европу, но ненавижу Евросоюз. Не люблю евреев, но я не антисемит. По убеждениям я демократ, но, в сущности, не люблю людей: в большинстве из них нет ничего хорошего. Можно долго объяснять, как это во мне уживается и почему никто не имеет права меня осуждать. Лишние размышления и нюансы превращают все в дурную бесконечность. А нанизывать слова? Это я делаю только за деньги. Ну все, мне пора, поезд отходит.
Из Шереметьево прислал клиентке мейл: благодарил за визит и за возможность так хорошо узнать ее и страну. Причем, всего за три дня.
Прошел месяц. Брайан лениво правил текст русской дамы, гонял по Парижу на байке, ходил с Селин на светские рауты. Просматривая как-то утром почту, он удивился письму из Руана. Почерк был незнаком. Брайан разорвал конверт, в нем были фотография и листок бумаги. Почерк на нем был такой же, как на конверте, незнакомый…
«Ты вряд ли помнишь меня. Я – Клер, которая двадцать два года назад жила в Нормандии и работала в баре. Вспомнил? Долго думала, прежде чем написать, но решила, что было бы несправедливо, если бы ты прожил всю жизнь, не зная, что у тебя есть дочь. Да, дочь… Я всегда хотела ребенка, но не считала, что нам будет лучше, если у меня будет муж, а у ребенка отец. Можешь относиться к этому, как считаешь нужным.
Доминик красавица, но мало похожа на тебя, разве что глаза. Я сказала ей, что ее отец погиб, выполняя военное задание, когда я была беременна. Это же почти правда. Думаю, ей лучше не знать, что мать обманывала ее всю жизнь. Зная тебя, уверена, что ты согласишься с этим. Но было бы несправедливо лишать тебя возможности взглянуть на нее, если, конечно, ты захочешь. Вот наш адрес…
Надеюсь, твоя жизнь сложилась хорошо.
Клер».
На фотографии хрупкая шатенка с рюкзачком держалась за велосипед на фоне здания университета. Брайан сидел на диване с письмом в руке и старался представить себе дочь, о которой он не знал двадцать два года.
От Парижа до Руана всего пять часов езды по автостраде. Весна была в разгаре, конец апреля, трасса сухая. Брайан выехал на своем байке в ночь, чтобы выспаться в Руане, а утром, пока Доминик на занятиях, встретиться с ее матерью. Клер выглядела гораздо старше Селин, хотя, удивительно, они были одного возраста, обе на пять лет старше Брайана. Клер работала администратором в клинике, по ее словам, они с Доминик ни в чем не нуждались, но Брайан настоял, чтобы она взяла у него деньги. Клер сказала, что выбрала Брайана потому, что он был очень добрым: она всегда понимала, что его сальные шутки, армейские проказы – всего лишь маска. Маска чего? Этого она не знала, но для Клер он был именно тем мальчиком с ангельским взглядом, задумчивым и грустным, каким Брайан видел себя, глядя на армейские фото. Еще она сказала, что выбрала Брайана потому, что тот не любил ее. Она знала, что он забудет ее, как только полк переведут из Нормандии, и никогда не вмешается в ее жизнь.
Вечером Брайан уселся в уголке на втором этаже местного ресторана, заказал бутылку красного вина и седло барашка. Он пил вино и разглядывал вишневые шторы, белые молдинги и карнизы на стенах, лица посетителей. Принесли барашка, который оказался на удивление вкусным… Клер и Доминик появились примерно через полчаса. Клер села поодаль, но так, чтобы дочь сидела лицом к отцу. Доминик что-то оживленно рассказывала матери, обе смеялись. На девочке было синее платье из модно-выгоревшей ткани, на ключицах проглядывали косточки. Брайан думал, что никогда еще не видел таких красивых девушек. Он думал о том, как постарела Клер: пожалуй, встретив ее на улице, он бы ее не узнал. Официант убрал со стола пустую тарелку, Брайан вылил остатки вина в бокал и попросил счет. Допив кофе, расплатился и пересек зал ресторана. У дверей обернулся, глядя теперь в глаза Клер поверх блестящих, тщательно выпрямленных волос дочери и послал Клер воздушный поцелуй.
Брайан гнал байк по автостраде снова через ночь, потому что на одиннадцать утра была назначена встреча в издательстве. Он всегда знал, что не может быть отцом.
Он не хотел бы знать ни детского крика по ночам, ни детских болезней. Он не хотел знать, что и как складывалось и не складывалось в жизни Доминик, какие отметки она получала, в каких мальчиков влюблялась, где хочет работать после университета. Ему было достаточно знать, что его дочь красива и грациозна, что росла без отца, который не навязывал ей свои представления о добре и зле, зато с матерью и ее любовью. Материнской любовью, которой Брайан никогда не знал.
Он знал, что теперь в его жизни есть дочь и что ему будет приятно иногда думать о ней. Дочь красива, у нее любящая мать, она получит образование. Доминик никогда не была ирландским мальчиком, не ходила в Тринити-колледж только потому, что там учился принц Чарльз, или в католическую школу для мальчиков в Лондоне. Ее не изнасиловал в двенадцать лет священник, и она никогда не будет служить в армии. О чем еще беспокоиться? Еще одна страница жизни, давно познанной, состоящей из бесконечности событий, незамысловатых и обыденных, как московский ресторан, баварский бар, стертый с лица земли, или генерал Лебедь…
Он еще увеличил скорость: надо было попасть домой хотя бы до трех утра, чтобы выспаться перед встречей в издательстве.
Наши особенные мальчики
– Дашь ты мне деньги на диски, в конце концов? – требовал Лешка у отца за обедом.
– Сколько можно бить диски на машине? Ездишь безобразно, никакого уважения к моим деньгам! – гнул свою линию отец.
Обычный воскресный скандал, знакомый всем детям и родителям. И происходит он, как правило, именно за обедом, когда всем кажется, что пришло время единения, что, наконец, все обрели способность слышать друг друга, понять близкого человека. «Мам, ну скажи ему», – пару раз рефреном звучали ремарки Лешки, студента то ли третьего, то ли уже четвертого курса юрфака «Вышки». Мать, Ленка, нервно курила, бросала исподлобья косые взгляды на мужа. То ли ей хотелось, чтобы муж дал-таки деньги Лешке на диски, то ли у нее руки чесались самой дать сыну по башке, а заодно и мужу. Мне все это казалось дикостью: парень, в натуре, наглость потерял! Диски бьет, и нет, чтобы смущенно попросить отца помочь, он требует! Возмущенно требует. Хотя мне ли не понимать, как это у них бывает, у избалованных любовью мальчиков. Я и понимала. Так казалось, наверное, не только мне, мое понимание, что по-другому и быть не могло, громко висело над столом. Лешка его слышал отчетливо…
– Я подвезу вас в Москву, – буркнул он.
Я уже шла по дорожке от дома к машине, когда, с треском хлопнув дверью, Лешка в ярости сбежал с крыльца, на ходу бормоча проклятия в адрес родителей. Плюхнулся в машину, включил мотор. Мы молча ехали по местной дороге, скользкой от мокрой желтой листвы, по темному Осташковскому шоссе, блестящему от дождя, по тускло освещенному городу. Обычное унылое возвращение с дачи в город в темень и слякоть поздней осени. В машине слышна была только Лешкина злость, которая с каждым километром все больше сменялась безысходной тоской. От невыносимости жизни, от глухоты родителей, которые сами же купили ему годом раньше новенький «вольво», – что ж ему теперь, с битыми дисками ездить? Лешкина тоска резонировала во мне воспоминанием о другом воскресном дне, ярком, августовском, в моем собственном доме в Вашингтоне.
То лето мой восемнадцатилетний сын провел в маете, грубил, огрызался, постоянно срываясь в агрессию. Это было не первое лето его агрессии, его отторжения всего, что пытались донести до него и я, и бабушка, и отец. Он уже года четыре говорил о своей ненависти ко всему, чего бы ни касался разговор. К своей, казалось бы, давно забытой школе в Москве, к своей лучшей школе в Вашингтоне, окончить которую заставили его мы с бабушкой, тянувшие его буквально за уши. Он ненавидел меня за призывы помнить, сколько мы с отцом сделали для того, чтобы он попал в университет, и за то, как я одеваюсь, за мои деньги и за их отсутствие. Мы не слышали друг друга, я плакала по ночам. Мне было жаль себя, но еще больше – его, страдавшего от этой разрушительной ненависти ко всему миру, а главное – к себе самому.
В то воскресенье я улетала назад в Москву, сын оставался в США, скоро начинался новый семестр в университете.
– Мам, я написал тебе письмо, – сын вошел в спальню, где я паковала сумку.
«Я знаю, что делаю тебе больно, поэтому пишу, ведь разговор между нами уже давно невозможен…» – это начало не сулило ничего хорошего. Мой единственный сын, который должен был достичь в жизни всего, чего не смогла я, прожить более успешную, счастливую и легкую жизнь, чем моя, сообщал, что бросил университет еще зимой и скрывал это полгода. «Я не мог сказать раньше, потому что ты бы меня сломала и заставила вернуться, но теперь уже поздно, я не сдавал экзамены летом». Сын писал, что будет таксистом в Нью-Йорке, а учиться не будет больше никогда.
Отчаяние и желание разбить голову об стену рождали мысли: «сегодня же увезти в Москву и отдать в армию», «к черту самолет, никуда не лечу, остаюсь тут и буду объяснять ему, что он творит, пока этот идиот не поймет», и много другой ереси. Все тинейджерские годы сына, страшные, конфликтные, полные часто беспричинной взаимной злобы, завершились в тот день бунтом, который сломал, как думала я, жизнь моего сына. Стала понятна его агрессия: сын мучился все лето, не зная, чем обернется задуманный бунт, не смея признаться в нем, не зная, как отстоять свое право жить по-своему. Внезапно я поняла: не о том я должна думать, как вернуть сына на правильный путь, а лишь о том, как не потерять его. Нас настолько разделила стена, росшая долгие годы из кирпичей непонимания, что мы уже почти не видели друг друга.
Выйдя из спальни, я лишь произнесла: «Ты сделал свой выбор, я не знаю, что еще сказать». Мы поехали в аэропорт, я думала, как мне пережить случившееся, как найти слова, которые мой сын еще сможет услышать.
Самолет задержали, муж, я и сын со своей девушкой, которая и казалась мне причиной всех бед, пили кока-колу и дрянное красное вино. «Ты молодец, – сказал сын, – я думал, ты меня убьешь». В его словах звучало не только его собственное облегчение, но и сострадание ко мне, и я, наконец, обрела дар речи:
– Ты же понимаешь, что можешь жить в Америке, только если останешься студентом?
– Ну да. Придется пойти в художественный колледж, уже присмотрел один, под Нью-Йорком, – ответил сын (в Нью-Йорке училась его девушка). – Буду рисовать и работать таксистом.
– Ты хочешь стать художником?
– Что-то вроде того. Но точно не инвестиционным банкиром, как хочешь ты.
– Я не буду повторять, что я думаю по этому поводу, ты сам все знаешь. Как бы я ни относилась к своему решению, ты его уже принял. Я буду платить за колледж и твое жилье, потому что мой сын не может жить в помойке. На все остальное придется зарабатывать самому. Мне очень жаль, что тебе будет тяжело, но пойми, это не попытка наказать тебя. Художник, которому мать оплачивает образ жизни инвестиционного банкира, – это раздвоение психики. Помни только, что я тебя люблю, буду любить всегда и всегда буду рядом, если тебе будет нужна моя поддержка.
В ответ на это, впервые за годы, разделявшие нас все больше, сын ответил мне: «Я тоже люблю тебя, мам…»
То воскресенье отделило жизнь моего сына, о которой мечтала я, от той, что он выбрал сам, наперекор всему и, прежде всего, мне. Наперекор школе, где он учился с детьми вашингтонской элиты. Пустив псу под хвост, – как мне казалось все эти годы, всё, что мы с мужем и мои родители вложили в сына и внука, – французский и испанский, теннис и частных репетиторов…
С того воскресенья прошло ровно пять лет и два месяца. Сейчас я ехала по темному мокрому шоссе с Лешкой, сыном моей лучшей подруги, и чувствовала его зреющий бунт. Лешка ненавидел родителей за диски для «вольво», за «Вышку», которую он уже два раза бросал, за деньги, с помощью которых Ленка, его мать, оформляла эти выверты как «академки», и наверняка за многое иное. Выходя у подъезда из Лешкиной машины, я бросила: «Может, приедешь ко мне поговорить? Мне кажется, у нас получился бы разговор».
К моему удивлению, еще через месяц Лешка приехал ко мне. «Я так приехал, чаю попить», – буркнул он себе под нос.
– Понимаешь, – говорила я, разливая чай и разогревая сырники для Лешки, – если ты хочешь жить по-своему, то тебе надо работать, другого варианта нет. У тебя есть и квартира, и машина, которые тебе купили родители, но деньги на еду, одежду, бензин, на эти диски ты по-прежнему просишь у них. По-моему, так ничего не может склеиться.
– Я не могу работать и учиться. А они не разрешают бросить институт.
– А где бы ты работал, если бы бросил институт?
– Не знаю…
– Леш, ты должен сам решить: либо ты работаешь и живешь, как считаешь правильным, либо родители за тебя продолжают платить, а ты будешь слушать, как именно ты обязан жить.
– Почему они считают, что у них есть право шантажировать меня деньгами?
– Это не шантаж. Это их последний рычаг попытаться убедить тебя в том, что ты должен жить так, как они считают правильным.
Прошло еще года три. Лешка кое-как окончил «Вышку», поменял две работы, нигде не приживаясь. В семье продолжались ссоры, а потом почти сразу произошли три события, изменившие многое. Лешкин отец, попав в аварию, на год оказался в заточении больницы, и Лешке ничего не оставалось, как взять в руки его бизнес. Когда отец вернулся к работе, Лешка превратился в партнера, на которого уже нельзя было просто цыкнуть, как в детстве. Тут заболела мать – онкология… Дом наполнился страхом и страданиями: неизвестность исхода, операция, химиотерапия…
Когда Ленка позвонила мне, она плакала не от своей болезни: «Я этого не вынесу, Лешка женится!» Я даже подумала, что это просто глупая Лешкина шутка, очередной выверт, чтобы покошмарить родителей и поутверждать на них свое эго; что до свадьбы дело не дойдет, не сумасшедший же он, чтобы взять и жениться – просто чтобы досадить родителям. Но Лешка действительно женился, поставив всех перед фактом, ни с кем не посчитавшись, – мать была еще в плохом состоянии, в семье не было ни эмоциональных сил, ни даже денег устроить свадьбу. Жену Лешка привел все в тот же родительский загородный дом, благо было крыло с отдельным входом. Мы так и не поняли, каким был его недолгий брак с красавицей Машей: через полгода Лешка развелся, а Маша исчезла.
В детстве мой сын проводил каждое лето в Пярну. В первый же год я подружилась там с Юлей из Ленинграда, а мой Юра – с ее сыном Владиком. Семь лет подряд они проводили на пляже вдвоем каждый божий день, лепили башни из песка, прятали от матерей учебники английского и бесновались в зале игральных автоматов. Когда спустя годы мой сын куролесил, бросал университет, работал таксистом в Нью-Йорке, Владик делал примерно то же самое, только не в Нью-Йорке, как мой Юрка, не в Москве, как Лешка, а в Санкт-Петербурге. Институт он, правда, не бросал, зато после него год сидел дома, потому что не было «работы по душе», а мать обивала пороги военкомата с конвертами в сумочке наготове. Владику это не мешало то и дело приводить в квартиру родителей очередную девушку, он жил полгода с Дашей, потом два года с Машей, или наоборот… Скандалы вечером на кухне и слезы матери по ночам. Все, как у Ленки и у меня.
Когда я приезжала в Питер или звонила Юле, попадая на Владика, тот всегда спрашивал: «А как там Юра?» В прошлом году мой сын приехал в Россию – уже с женой (той самой американкой из Нью-Йорка) и с полугодовалым собственным сыном, мы поехали на дачу к Ленке. Юра и Лешка не виделись с тех пор, как Юра в двенадцать лет уехал в Америку. Они не бросились друг другу на шею – мужчины все же, обоим под тридцать, но не отходили друг от друга все три дня, что мы пробыли в их доме. Сейчас переписываются, Лешка собрался летом ехать в Нью-Йорк в гости к Юре. Владик расстроился, что Юра не доехал до Питера, и ждет его этой весной…
Мой сын теперь девелопер и дизайнер, его браку уже десять лет. Он сумасшедший муж и отец, любит своего сына до дрожи и не может уехать из дома (даже кататься на лыжах) больше чем на неделю: скучает по малышу. Он сам содержит свою семью, которая живет в достатке, и даже помогает мне, теперь, когда я из банкира стала писателем, и с деньгами у меня туго.
Владик женился недавно, его сыну три месяца, он пашет на двух работах, воспитывает жену, не позволяя той нагружать мать Юлю работой по дому, а матери разрешает разве что погулять с коляской. Юля счастлива, хлопочет вокруг внука, беспокоится, что Владик так много работает. Обычная счастливая жизнь…
Лешка работает с отцом, часто собачится с ним, но без отчаяния, хоть иногда и со злобой, как это делают все партнеры-мужчины. Собачатся они, когда мамы нет дома или рано утром, когда она спит. Лешка меняет девушек, но мать и отец не говорят ни слова, ясно, что это лишнее. Видно, что Лешка обожает мать, хотя никогда в этом не признается. Об этом говорить – тоже лишнее.
Ленка, Юля и я очень разные: мои подруги всю жизнь не работали, посвятив себя заботам о сыновьях. Я была всегда плохой матерью, я только вкалывала сама и требовала того же от своего сына с детства. Каждый раз, открывая его дневник, неизменно полный двоек, я давала ему подзатыльники. Чувство вины за это, как и за лучшую школу Вашингтона, где мой сын был так несчастен, что возненавидел и учебу и меня, пришло лишь недавно, и оно мучительно, как все непоправимое.
Каждая из нас, трех матерей, видела жизнь своего сына по-разному… Я мечтала, что в тридцать у Юры будет угловой офис на Уолл-стрит, Ленка – что Лешка будет партнером в юридической фирме, а Юля – что Владик станет директором большого завода. А наши мальчики пошли своим путем, каждый – тоже разным…
Как и все остальные, они прошли через мучительный период жизни: злобы на нас, родителей, за наше желание навязать им ту жизнь, что мы им приготовили, в которой они любили бы девушек из хороших семей. Они прошли через неверие, что мы способны их понять, и через наше насилие, данное нам родительским правом, через свое непонимание, чего же они, сами хотят от жизни, через наши неумелые попытки помочь им понять себя. Они прошли через муки познания женщин через борьбу с матерями за право быть с той, которую они считали ««той самой», единственно нужной им. Владик искал методом проб и ошибок, Лешкин поиск еще продолжается, а Юра нашел в семнадцать и, похоже, навсегда.
А что мы, матери, сделали, чтобы облегчить эти муки нашим сыновьям?
Можно сказать «ничего», и так говорит огромное множество мальчиков, которые вырвались, наконец, к тридцати из тюрьмы родительского дома, свели общение с родителями к минимуму и не хотят ни вспоминать свои страдания тинейнджерского возраста, ни прощать их своим матерям.
Наши мальчики – особенные. Пройдя темный и безрадостный путь поиска себя, они поняли, что любовь, которая наполняла их жизнь колыбели, и есть то главное, чем теперь наполнена их душа. Конечно же, как и все остальные сыновья, они всегда знали, что матери их любят, но, став мужчинами, они не поспешили забыть это, Конечно же, они, как и все остальные сыновья, всегда знали что матери их любят, но, став мужчинами, они не поспешили забыть это. Они дали себе труд попытаться измерить нашу любовь и понять, что она безмерна. Они оценили то, чем так тяготились в отрочестве.
Наши мальчики тянутся друг к другу, хоть живут в разных частях света. Только друг с другом они могут разделить понимание того, как им повезло. Любовь, в которой росли все трое, создала основу их жизни и мироощущения, и она теперь значит для них больше, чем скандалы и протесты, оконченные и брошенные колледжи, познанные и покинутые девушки, сбывшиеся и не сбывшиеся планы их матерей.
Наши мальчики – особенные. Они простили нас за то, за что мы сами попросили у них прощения много позже. Они просят и нас, матерей, забыть нашу вину перед ними. Но мы ее, конечно, не забудем. Зато мы забыли, сколько горя наши сыновья принесли нам. Они это делали не нарочно, они боролись с нами, не понимая, что враги – не мы, а те тяжкие годы – те самые «teen» – от тринадцати до девятнадцати, – наполненные одиноким поиском себя. Они страдали от него, конечно же, больше, чем мы сами, и они могли нам этого не простить. Какое счастье, что те годы прошли, мальчики не вскрыли себе вены, не стали наркоманами или бомжами, а ведь могли – настолько порой ужасны эти муки поиска себя.
Мы, матери, наконец, смогли принять, что растили сыновей не для себя, а для других женщин, что нам нужно теперь конкурировать с ними за любовь сыновей, отойти на второй план и смириться. Это нормально, хотя и очень трудно… Наши мальчики ценят это понимание, и не ослаб, а укрепился наш духовный союз с сыновьями, ставшими мужчинами.
– Мамсик, помни, что я люблю тебя, буду любить всегда и всегда буду рядом, – говорит мне в трубку с другой стороны океана мой сын каждую неделю, и я знаю, что мой сын – самый лучший, а я – самая счастливая мать.
Шорохи судьбы
Рассветный храп Агриппины Дмитриевны за перегородкой уже давно не раздражал Анну Васильевну. Сколько лет они живут вместе… Светло, нет на постели дрожащей полосы фонаря за окном. Фортка открыта звукам птиц, и те щебечут что-то дерзко и робко, совсем по-весеннему, листочки тополя по стеклу шелестят, нет, это она уже себе домысливает, какие листочки, апрель только. И не тополь это вовсе там под окном, летом не бывает от него ватной белой пыли, это ясень-нетополь, клен-невяз, с листочками бледно-зелеными, юными и тревожными, которых уже ждешь, потому и домысливаешь. Юность тревожна, все сложно-страшно, все страшно сложно, все неизведанно-неизвестно, что ждать и как жить. Жить-ждать, жуть-муть будущего, мысли-муки, грусть, как гроздь. Гроздья ожидания свисают и манят, не указывая пути, они, созрев, падают на землю, и все становится ясно, а если их срывают до времени, тогда на черенках сомнения-червоточинки, а стоило ли? Ошибки, сожаления, отчаяние, уже ушедшее, но исполнить задуманное отчаянно надо. Это молодость.
А понимание, что ошибок не бывает и сожаления напрасны, приходит поздно, хотя почему, собственно, поздно? Оно всегда приходит, когда приходит, и больше не уходит, оно тихонько ходит, в тебе неслышно бродит, как бродит вино молодое, расставаясь с тревогой юности, когда гроздья были неспелы. Внутри тебя, Анна Васильевна, все перебродило и уютно улеглось, и все-все стало просто и прозрачно. Красивое слово transparent, только не жить ему в русском языке. «Траспарентно» – звучит безвкусно и невкусно, как транспарант, предписывающий определенность.
Все просто, времени много, и жизнь не кажется короткой, как в юности, она бесконечна, даже если уже почти прошла, ее проживаешь много раз, в мыслях, в рассказах самой себе о себе самой, в наклонениях сослагательных, самою собой слагаемых. Она тянется как нить, и когда же крутить и тянуть ее, как не по утрам под сладкий храп Агриппины Дмитриевны. Тело в постели, ему тепло, еще ничего не болит, вы лежите с ним вдвоем в согласии, а за окном гомон птиц и солнце, но оно еще не с тобой, а там, на улице, с тобой – лишь его теплый и чуть пыльный аромат, просачивающийся через фортку. Сюда, в комнату, солнце придет со двора на закате, утомленное и спелое, гордо отдавшее свою утреннюю юность улице…
Однако, душенька, пора бы и встать, день полон радостей, и нечего лежать, нанизывая гроздья слов, это занятие никуда не денется. Впрочем, ничто уже никуда не денется, все, что нужно, – при тебе, а что не при тебе, то, значит, и не было нужным.
Кашка гречневая на плите пофыркивает. Агриппина Дмитриевна ворчать сейчас начнет, полезет за колбаской, чай заварит прямо в кружке тонкого английского фарфора с золотой надписью Harrods по темно-зеленому. Подарок Лилечки, приезжавшей из Лондона навещать Анну Васильевну прошлой зимой. А Анна Васильевна по утрам признает только кофе. В кастрюльке маленькой, и чтобы сварен был под неотрывным присмотром, чтобы, как только высветлится по краям пеночка и поползет к серединке, с каждым мгновением сужая кружок темного омута, так сразу и снять кастрюльку и тут же на ледяную воду, а в призрак кружка-омута три крупицы соли кинуть.
Что же за прелесть эти бисеринки слов, пуговички-бирюльки, звонкие и цветные или тускло-неунылые. Десятилетиями, что работала Анна Васильевна в издательстве переводчиком с английского и немецкого, наслаждалась она их соцветиями и букетами, случайными нечаянностями их соседств и сожительств, то неуклюжих, но полных смысла, то бессмысленных, но исполненных гармонии, как их сожительство с Агриппиной Дмитриевной. Тонко отличала она игру слов от игры их смыслов, долго боролась за продление своей жизни в издательстве. Особенно после утраты Лилечки, когда издательство казалось ей последним осколком ее реального бытия. Но когда утратила после Лилечки и этот осколок, когда нанизывание слов перестало быть работой и превратилось в занятие, поняла, точнее – почувствовала, что это не просто игра, пища для ума. Слова – это шорохи судьбы. Игра их смыслов – это ощущения, а ощущения – это и есть жизнь, и что в ней утрата, а что нет – они же, ощущения, и решают.
Пытаясь нашарить тесемки и затянуть халат, из-под которого торчала ночная рубашка, вошла в кухню, шаркая тапочками, Агриппина Дмитриевна.
– Что тебе не спится, Нюра, чего кухаришь с утра пораньше? Ща чайку с колбаской попьем, и порядок.
– Агриппина, не ворчи. Таблетки не забудь принять, вон, на подоконнике.
– Груня я! Груня, а не Агриппина.
– Какая же ты Груня? Груня – это Аграфена. А ты – Агриппина.
– Ох, Васильна, замучила ты меня ученостью своей. Все Груней звали, и ты зови.
– Ладно, Груня. Может, ты со мной кашки гречневой поешь? Свежая, рассыпчатая…
– Может, и поем. Сегодня мне за пенсией надо, туда, к бульвару. А когда очки чинить пойдем?
– Тебе сначала новые стекла выписать надо, ты в этих ничего не видишь!
– Значит, к врачу записаться. Щас поедим, потом за пенсией, а на обратном пути – в поликлинику.
– А после обеда вокруг пруда погуляем. День, смотри, какой чудный.
– Да что толку, когда ноги не ходят. И как это наш Палашевский рынок прикрыли, кому он мешал? В этих «Продуктах» только мороженые с пепси-колами да колбаса. А до рынка не добраться.
– Разве что такси взять и на Дорогомиловский съездить, – Анна Васильевна налила из кастрюльки кофе в любимую, единственную оставшуюся от давно побитого любимого же сервиза чашку, в задумчивости поставила ее на блюдечко, подцепила ложкой гречку.
– На такси, что удумала! Тебе только деньги транжирить. Рублей триста, небось, запросят, а еще обратно. А цены там какие, прикинула?
– Груня, Грунечка… Что деньги? Слава богу, не бедствуем. А по рынку походить, по яблочку выбрать, помидорки со слезой, огурчиков пупырчатых, курочку… А печенку парную? Не хочется разве? А праздник какой, Груня! И обратно на такси с шиком прокатиться.
– Проказница ты, Нюра. А я с тобой и на рынок согласна. Тогда уж и водочки захватим. И не маши руками, я тебе стопочку налью, под огурчик-то, потом спасибо скажешь. Только это мы с тобой завтра провернем, сегодня пенсия и поликлиника. Нюр, тебе Лилька-то когда деньги пришлет? Может, прислала уже, тогда мы обе при деньгах.
Агриппина Дмитриевна еще долго рассуждала, что раз в поликлинику, то, может, и с ногами помогут, а с рынком, это, пожалуй, Нюра хорошо придумала, огурчики под водочку и курочку – это им целое застолье, не все ж колбаску из «Продуктов» трескать. А какие огурчики росли на участке, помнишь, Нюр? Валентина, царствие ей небесное, все их полола, а потом и клубнике усы резала, а покойный муж палочки для помидоров стругал.
Анна Васильевна убирала со стола, мыла посуду, Агриппина Дмитриевна проживала кусочек своей бесконечной жизни, медленно, со смаком, как прожевывала она колбаску, и все за этим самым кухонным столом, покрытым потрескавшейся на сгибах клеенкой.
– Да, а о деньгах ты даже и не думай, – Агриппина Дмитриевна с трудом поднялась из-за стола. – Как пенсию мою прокутим, так из квартирных возьмем.
– Я и не думаю, возьмем, если что, но Лилечка пришлет, ты забыла просто, она всегда к концу месяца присылает. Иди, давай, одевайся, умывайся.
– Вот ты и Лильку так всю жизнь гоняла, как меня, вот и сбежала от тебя девчонка-то, – Агриппина Дмитриевна зашаркала по коридору в сторону своей комнаты, но по дороге передумала и завернула в ванную, решив, видимо, все же умыться.
Да, гоняла Анна Васильевна Лилечку. Гоняла в спецшколу на Трубниковском, в музыкалку на Мерзляковском, усаживала читать «Сагу о Форсайтах» в оригинале. Мужа у нее не было, точнее был когда-то, но давно, и думать о нем почти так же давно стало неинтересно. Растила она Лилечку сама, сама разбирала с ней ноты, сама ставила английское произношение. Набирала переводы, редактуры, сидела ночами, оплачивала Лилечкиных репетиторов. Сама ходила с ней на улицу Герцена в консерваторию, сама вязала модные свитерки, когда дочка училась в инязе. Лилечка выучилась, получила красный диплом, отправилась на стажировку в Лондон, тут-то и началась долгая, поначалу незаметная, утрата дочки. Каким непостижимым образом в те глухие годы устроилась Лилечка через полгода в Оксфорд, каким чудом получила стипендию, как умудрялась жить на нее, подрабатывая в бесконечной веренице кофеен, библиотек, архивов, экскурсионных бюро? Об этом Анна Васильевна знала только из кратких телефонных разговоров и редких приездов дочери летом. Интернета тогда не было, а на разговоры неспешные, тем паче задушевные, а тем паче на частые визиты в Москву, а еще более тем паче – на приезды матери в Альбион, оказавшийся, по словам Лилечки, не таким уж и туманным, о чем, впрочем, Анна Васильевна подозревала уже давно, – на все эти затеи, а значит, на общую жизнь и близость душ, у Анны Васильевны с дочерью денег не было. Лилечка звала поначалу мать в Лондон, все зимы Анна Васильевна копила деньги на билет, но летом совала их дочери, казавшейся ей изможденной, и обещала приехать на следующий год.
Побывала она в Лондоне лишь дважды. Один раз – лет через пять после утраты Лилечки, превратившейся в любимую жену преуспевающего риелтора Дэвида, второй – когда у Lily and David Turner родился первенец, Jacob.
Первая поездка принесла Анне Васильевне лишь боль жгучей ревности к городу, поглотившему ее Лилечку, в котором ей самой удалось лишь мельком глянуть на Букингемский дворец, лишь раз пробежать по улочкам вдоль Гайд-парка, где жили Форсайты, лишь краешком глаза взглянуть на свезенные в Британский музей колониальные богатства. А королеву не удалось увидеть вовсе. Но толику увиденного она потом домыслила и доощутила дома, глядя в альбомы, ревность тоже исчезла, в горечи утраты возник привкус радости, что утраченная Лилечка вполне счастлива, хотя, представляя себе ее счастье, Анна Васильевна слышала только шорохи слов дочери, не чувствуя их ароматов.
От второй поездки осталось ощущение тепла живого тельца, которое она не успела ощутить своей частью, сладких детских запахов и тревоги за Лилечку, бродившую по квартире Дэвида в послеродовой депрессии.
Когда у Тёрнеров родился второй мальчик, Jasper, Лилечка уговорила маму не приезжать, они вполне справятся и сами. А дальше потекли их жизни по не соединяющимся сосудам, и из одной в другую перетекало все меньше. Лилечка приезжала навещать мать раз в год, а то и в полтора, мальчиков привозила лишь трижды, а в последний раз, лет десять назад, привезла уже не мальчиков, а трех взрослых мужчин, включая Дэвида, которому давно хотелось посмотреть Москву. К той поре Агриппина Дмитриевна уже поселилась в квартире Анны Васильевны, и Тёрнеры сняли затхловатый двухкомнатный номер в гостинице «Пекин» неподалеку. Питались в ресторанах, рассыпавшихся за последние годы по их Патрикам, – не за клеенчатым же столом в их кухне.
Виртуальное для Анны Васильевны детство внуков и даже их юность давно пронеслись, мальчики повзрослели, словно скачками, становясь старше с каждым следующим фото: на фоне гор, на знойном побережье Средиземноморья, в обнимку с лошадьми на аллеях Гайд-парка, с родней Дэвида на полянке Хэмпстеда, где жили Тёрнеры, позже – с девушками, а потом с ними же, но уже – женами.
Какое отношение ко всему, происшедшему с ее и дочкиной жизнью, имело то, что в детстве Анна Васильевна гоняла свою Лилечку? Лилечкины английские книжки поманили ее в ту юную муть-жуть, полную неизведанного. Утраты вползают в приоткрытые створки души, обжигают, но постепенно стихают, растворяясь в поясничной ломоте, прячась в ночных складках простыней. Дочь помнит Анну Васильевну, пишет ей, шлет фотографии мальчиков, звонит, а значит, мать живет в ее жизни. И деньги переводить не забывает, кстати, каждый месяц, немного, но вместе с пенсией этого вполне достаточно. Сама дочь занималась сыновьями, теперь – внуками, а Дэвид все занят нервными покупателями и продавцами, скачками рынка недвижимости, и Лилечке в их лондонской жизни уже много лет хорошо.
Агриппина Дмитриевна свою Валентину не гоняла, та носилась в детстве по двору, прибегая домой схватить колбаски или наспех съесть остывающие макароны. Училась в школе в соседнем переулке, учителя не жаловались. Ее мать работала на «Красном Октябре», который тогда еще не был разноцветным центром продвинутых хипстеров, а стоял громадой закопченных зданий, сладко-удушливо пахнущих карамелью. Агриппина Дмитриевна спускалась по лестнице по утрам, заглядывала к соседке, просила приглядеть за Валентиной, раз уж Васильна опять дома с бумагами сидит, вечерами поднималась по той же лестнице, волоча отяжелевшие за смену ноги, совала конфеток Лилечке, которую всегда жалела, – то ли за безотцовщину, то ли за детство, украденное матерью в поисках чего-то, Агриппине Дмитриевне неведомого. По выходным Агриппина Дмитриевна, с мужем, Валентиной, навьюченные сумками и рюкзаками, отправлялись на садовый участок с хибаркой, где-то за Люберцами, возвращались распаренные вечерней воскресной электричкой, Агриппина Дмитриевна волокла пьяненького мужа, а Валентина – сумки с чем-то огородным.
В техникуме Валентина выскочила замуж, у Васильны для застолья забрали и стол, и все стулья, и посуду, свадьба тянулась через смежные комнаты ее квартиры, выплеснувшись приставными столами в коридор. Все десятилетия, минувшие с той поры, больше всего любила Агриппина Дмитриевна вспоминать именно свадьбу. Дочь в белом платье, сама шила, портнихам, этому жулью московскому, не передоверяла. А пироги какие девки с фабрики натаскали, а торт-то, Нюр, какой ты из этой, как ее, «Праги» приволокла? И Валечка с Серегой, такая пара – загляденье просто… Сидят рядом, она – ну голубка просто, да, Нюр? А мой напился, как всегда. Он и Серегу-то споил, если уж по совести… Как придет с работы, а я в вечернюю смену, так и водку на стол. А что Серега, пацан же совсем… Валечка, голубка моя, плачет, тревожится за мужа-то, и не зря тревожилась-то, правда, Нюр?
Лет пять тревожилась Агриппина Дмитриевна за бездетность дочери, чуяло ее сердце беду, да разве ее углядишь, ухватишь. А как пошла Валечка по врачам от бездетности лечиться, так и вернулась домой сама не своя. И ведь еще двадцати пяти не было! Все женские органы Валечке тогда повырезали, и еще года три мучилась она люто от химии. Хоронили ее на Митинском кладбище, как сейчас стоит перед глазами та картинка. Земля промерзлая, комками набросанная, снегом лишь припорошенная, гроб на веревках опускают, а в нем Валечка. Еще минуту до этого вглядывалась Агриппина Дмитриевна в лицо дочери, не узнавая ее. Не Валечка в гробу лежала, а только то, что химия от ее тела оставила.
– Грех, грех так говорить, Нюр, но как гроб-то закрыли, мне облегчение вышло. Отмучилась, думаю, голубка моя, теперь душа ее немного помается, так недолго, она ж безгрешная голубка, и будет ей покой и счастье. Грех так говорить, Нюр, скажи мне? Но ты меня-то понимаешь, подружка, а до Бога мне враз дела не стало. Есть он там или нету, мне с тех пор неведомо. Знаю я только, что есть Валечке царствие небесное, а значит, и мне покой и счастье.
Агриппина Дмитриевна произносила свой привычный монолог, роясь в комоде, она искала рейтузы. Хоть на дворе и апрель, а зябко, холод от земли зимний идет, не гляди, что солнце жарит по головам-то. А у нее ноги совсем не ходят, разве что летом разойдутся, а вот рейтузы… Куда ж они, едрить их, запропастились?
– Нюр, рейтуз моих не видала? – Агриппина Дмитриевна не замечала, что подруги нет рядом. – Может, ты их в ванную положила? Ну вот, они в одеяло закатались. Завтра белье надо бы в прачечную снести. Нет, завтра ты же на рынок навострилась, за огурчиками с пупырями… Нюр, а Пасха у нас в этом году когда? Поедем к Валентине и к моему алкоголику, прости господи, тоже цветок ему какой посадим и стаканчик граненый нальем. Отпился, муженек, отпился. Сколько я его трезвым видела за всю жизнь? По пальцам те дни пересчитать можно!
После смерти дочери отдалилась было Агриппина Дмитриевна от соседки. У той дочь училась лет десять, теперь и заморского мужа приискала, мать пригласила в гости два раза и живет припеваючи. А мать тоскует, хотя что тосковать, раз сама такую вырастила? А ее Валечка успела только за свой вечный покой и счастье жизнью заплатить, не изведав в ней ничего, кроме мук пыточных. Серега с мужем квасили, Валечку оплакивали, а потом пропал Серега, вроде на заработки подался. А может, и в тюрьму угодил, по пьяни-то. Вскоре и муж помер. Жил как Емеля на печи, только вместо печи – горб жены, и помер во сне. Сердце от водки остановилось, и все дела. Хоронили они его вдвоем с Нюрой, и снова думала Агриппина Дмитриевна, что теперь уже она сама, считай, отмучилась, алкаша своего не надо ей дальше по жизни волочь, снова стала захаживать к Васильне. Туго им обеим в те годы жилось, по одной пенсии, вот и крутись как знаешь. Стали они с Васильной потихоньку вещи таскать – Нюрины в комиссионки, а ее собственные – в ломбард и барахольщикам, куда же еще, коль муж все пропивал.
А лет через семь объявился и Серега, такой матерый сделался, с волчьим взглядом, куда прежний голубок улетел, что подле Валечки на свадьбе сидел? Объявился и вспомнил, что прописан он в Агриппининой квартире. Зачастили участковые, в суды Агриппину таскали года полтора, Серега скандалил, прибегала Васильна его увещевать, да что толку, она только руки заламывать умела и слова непонятные горохом сыпать. То время совсем не хотелось Агриппине Дмитриевне вспоминать, а на круг-то вышло и совсем неплохо. Сели они с Васильной на кухне, раскинули карты жизненные, и пришло к ним решение, за которое она никогда свою Нюру отблагодарить не сможет. На кой ляд Агриппине Дмитриевне – Васильна тогда ее все по отчеству еще называла, тьфу, язык сломаешь, – квартира? Денег на нее нет, вещи Агриппина почти все распродала, а как все продаст, что? Да и Васильне одной, без Лильки, которая в их дом на Малой Бронной уже не вернется, что делать? Сереге за квартиру суд хороший отступной назначил, пусть он этой квартирой и подавится. А они деньги на сберкнижку положат, и будет Агриппина жить в Лилькиной комнате. Расходов меньше, а к пенсиям деньги квартирные добавятся. Так Васильна рассудила.
Съехала Агриппина Дмитриевна с четвертого этажа на второй, забрав только кровать свою, комод со шкафом да кастрюльки-сковородки. Посуда у Васильны не в пример лучше была, да вот хоть кружка, ее Лилькой привезенная. Все по справедливости, Нюрина квартира, Грунины денежки. Так и живут с тех пор, и хорошо им, грех жаловаться. А как Лилька стала матери деньгами помогать, так они квартирные и не трогают почти, разве что на врачей особо дорогих, или могилку поправить, да раз в год по обновке купить, но за ними тоже ноги топтать радости мало, барахло одно. Так что снимают все больше проценты, когда за пенсией ходят.
За что еще Груня была Васильне отдельной благодарностью благодарна, так это за то, что та ее гулять приучила. Когда это у Груни время было без дела ходить и по сторонам головой вертеть? А теперь гуляют под ручку, Груня примечает, сколько домов распрекрасных вокруг стоит. Далеко не отправляются, да и Васильна твердит, что нету в Москве ничего красивее их переулков да пруда, что нынче в моде. До бульваров гуляют, там церковь, где сам Пушкин венчался, вокруг нее еще церквы, дома, узорами разукрашенные. Вниз если спуститься – театр, а потом филармония. Но это разве что ранней осенью, когда ноги почти не болят, витаминами за лето напитанные, а так они по своей Малой Бронной, по Козихинским переулкам гуляют, круги мотают вокруг пруда, на львов смотрят, на заборе в Ермолаевском посаженных. Придумают же такое, львов на забор посадить! Гуляют они вокруг пруда, Васильна то молчит, то ка-а-к начнет сыпать словами и стихами в придачу, а Груня слушает. Понимает не все, но больно красиво Нюра рассказывает, и стихи красиво у нее выходят, откуда она их всех помнит-то, со школы, что ли? Так это было когда, при царе Горохе. Особенно Груне запомнились слова «шорохи судьбы». Как это судьба шуршать-то может? Затейница Нюра, честное слово. Судьба шуршит? Не бывает такого, а красиво. А еще слепой, которому на рынке платок вязаный подарили, а он все на старух смотрел. Не прост-то слепой был, раз на старух смотрел, а старухи… Ну, это только Васильна так придумает. Они из окна вываливались, все как одна, а слепой все смотрел. Васильна потом призналась, что не сама она это придумала, а какой-то писатель. Его потом за такие придумки в тюрьме сгноили. Это Груне как раз хорошо понятно было, так над людьми глумиться, это как он ставил-то себя высоко? Нюра говорила, что тот писатель даже над Пушкиным смеялся, а хуже всех досталось Толстому и Тургеневу. Этих Груня не читала, помнила только, что собачку Муму звали. Хотя все они хороши. Один про слепого в вязаном платке писал, другой – про немого с собачкой. Лучше б кто про голубку ее, Валечку, написал, про ее жизнь мученическую, да как мать ее живет и радуется за дочку, за себя и за подружку Нюру, которую перед сном благодарит. Вот какие книжки людям читать надо, а не про слепых с немыми.
После сберкассы зашли Груня с Васильной в поликлинику, записались ко врачам, домой обедать пошли. Груня еще позавчера борщ замечательный сварила, они его и поели со свежим хлебушком, что в дорогой пекарне у сберкассы захватили. Груня подремать пошла, не девочка уже, за восемьдесят, а Васильна, как водится, за стол уселась, Лилькины письма в компьютере читать.
Лилечкин русский с годами едва заметно съеживался, еще менее заметно съеживалась ее память о детстве на громыхавшей трамваем Малой Бронной, где теперь гневно фыркали автомобили и шумели пивные посиделки подростков, толкавшихся ночью у пруда. Эти новые звуки не доходили до Лилечкина слуха, ведь и он съежился, а Анне Васильевне про их жизнь с Агриппиной Дмитриевной писать было нелегко. Она искала слова-бисеринки для рассказа о рейтузах, о тревожных веточках, в окно по утрам пробивающихся. Слова куда-то рассыпаться, разбегаться ртутью по столу начинали, когда бралась она писать Лилечке о горделивом закате солнца в их дворе и о рейтузных казусах. А как не писать о них, это жизнь ее, рейтузами и словами общими с Агриппиной крепко перевязанная, а, кроме как о жизни, о чем еще писать? Лилечка над плетением слов не думала, мейлы ее были уваренные, как каша из английских и русских слов вперемешку – о сыновьях, внуках, Дэвиде, который мается простатой, о купаниях в океане, о неведомой Анне Васильевне родне. Кашу щедро украшали фотографии, а мелко нарезанным укропом сыпались вопросы – получила ли мама деньги, не болеет ли…
На закате вышли подруги гулять вокруг пруда и сейчас шли неспешно по дорожке.
– «В беспорядке диком теней, где, как морок старых дней, закружилась, зазвенела стая легких времирей…»
– Нюр, а лебедь снова плывет, гляди. Я хлебушек захватила, ты придержи меня за руку-то, я ее хлебушком…
– Осторожно, Агриппина…
– Груня я…
Они обогнули детскую площадку, вышли на солнечную сторону пруда. Дрожащая на солнце вода сменила цвет, желтые тени поднимались, как кувшинки, из-под качающихся на воде слизистых пятен ярко-зеленой тины…
– «И когда сойдутся в храме сонмы радостных видений, быть тяжелыми камнями для грядущих поколений…»
– Нет, Нюр, точно тебе скажу, это Валентина, голубка моя. Это она – лебедушка, радость моя, а не видение. Она за хлебушком-то все ко мне плывет, все манят ее хлебом, а она уж какой день, как нас завидит, так и ко мне…
Они шли дальше, прохожие оглядывались на двух старух, одна – полная, в длинном, почти до пят застегнутом на круглые пуговицы капоте или халате, с прямыми волосами, по-юному прямо держит спину, другая – худая, вперед склоненная, с седыми волосами, скрученными в пучок, и в малиновой юбке, болтающейся между вязаной кацавейкой и рейтузами, чуть подволакивает бредущие позади ноги. «Где шумели тихо ели, где поюны пролетели…»
– На рынок если завтра соберемся, надо груздей соленых приискать. Царь грибов, груздь, хорош под водочку… Вечерком сядем, за лебедушку мою выпьем, груздями закусим…
«Груздь, гроздь, грусть-гвоздь… Поюны пролетели… Все просто, мы проросли с Груней друг в друга, как кувшинки через пятна тины, через блики Лилечки и Валентины, я учусь у Груни радоваться утрате, дарованной жизнью, она – словам, видениям-ощущениям, забвению мук, свернувшихся складками в памяти. А грусть-гвоздь красит звуками своими утренний шум улицы. Все просто…»
– Давай, Нюр, присядем, что ль, на лавку, на солнышко пожмуримся. Ножки мои отдохнут.
Анна Васильевна смотрела на воду, по которой, удаляясь от них, плывет к другому, тенистому берегу белая лебедь. Скоро они с Груней умрут, и все станет совсем просто. А пока она жмурится на зелень тины в воде, на блики солнца, отраженные оранжевым домом напротив, жмурится, нанизывая слова, и живет их ощущениями и шорохами.
Полоска света
Она алкоголичка, и лечиться ее не заставить. Твердит, что здорова, просто искромсана жизнь, просто несчастна, все еще любит его, искромсавшего и ее жизнь, и ее тело, ее юность, утраченную до времени. Она еще его любит, хотя почти всегда ненавидит, от этого и плачет по вечерам, по утрам, еще не успев проснуться. А еще за обедом, когда напьется. От этих слез, конечно, а вовсе не от алкоголя, она стареет, ей страшно смотреться в зеркало, глаза заплыли набрякшими пузырями, полными слез. Ничто не поможет, ни мезонити, ни плазмо-что-то за бешеные деньги, ни диета, – хотя она же похудела, она так старалась, а для кого? Ведь только для него, а он – сволочь, деньгами откупается. Да ей начхать на его деньги, ей нужна любовь, она ведь все та же, кого он встретил тридцать лет назад на теннисном корте, – стройная брюнетка с искрящимися голубизной глазами, с чувством юмора, которое приводило его в восторг, пока он сам не убил его, как убил и все остальное в ней. Она отдала ему жизнь и продолжает отдавать ее остатки, а он плюет на нее, квасит на работе вечерами, лишь бы домой не идти, и бросит ее, как только случай подвернется. И сын, которого отец не научил любить мать, тоже ее бросил, и она умрет в одиночестве в хосписе.
Привычно вымотанный нечеловеческим днем, проваливаясь в полусон в темноте машины, он плавал в мыслях, обычных для его поздних возвращений домой. Днем, на работе он жил, воевал, побеждал, радовался, а эту вечернюю дорогу домой – ненавидел. Когда же он проворонил, что жена спивается от безделья, не выдержав испытания деньгами и праздностью? А теперь уже поздно, теперь только терпеть. Психика алкоголички, в доме ад, и будет только хуже, исхода нет, он же не бросит ее, не бросит и ее мать, которая уже десять лет лежит парализованная, не бросит сиделок и домработниц тещи. И сына тоже не исправить, женился в двадцать семь уже во второй раз, и снова на полной хабалке. Ничего уже не исправить, поздно. Значит, такая жизнь, она в общем-то уже прошла, но так нельзя думать. Нельзя признаваться в обреченности, другой жизни нет и не будет, придется радоваться этой. Не руки же на себя накладывать, в самом деле, лишь потому, что от безысходности избавления нет.
Звонок телефона заставил очнуться, он не понимал, что объясняет ему домработница на корявом русском языке. Лишь то, что случилась беда. Машина остановилась, он вбежал в дом. Жена на полу без сознания, голова в лужице крови, проломленные перила галереи второго этажа, стойкий запах перегара.
«Скорая» неслась к Одинцовской больнице, он вдавливал на каждой выбоине свое тучное тело в сиденье, желая придавить собой машину к дороге, чтобы эта выбоина не оказалась последней в ее жизни. Он знал, что будет спасать ее, требовать от врачей невозможного, а в подреберье вспышками, которых он старался не замечать, мерцало страшное – может, эта выбоина, на которой только что тряхануло, и есть избавление.
Врачи на операцию не решились, и утром он вез жену в город, в нейрохирургию, уже в коме, и снова вжимался в сиденье, и снова мерцало избавление. Через неделю после операции ее вывели из комы, что уже было чудом. Обритая, обмотанная бинтами, обвешанная трубками и катетерами, она лежала в забытьи, еще не зная, что левая часть ее тела парализована. Он жил в больнице две недели, в праздно-изнуряющем бессилии вернуть жизнь, в которой будет хоть что-то, кроме безумной калеки, беспомощно проклинающей его. Он сам увязает в безумии, это ему мерещится от усталости, от бесконечности больничного коридора, по которому он уже который день бродит с анестезиологом Лизой – брюнетка сорока лет, конский хвостик, тонкая талия и чуть полноватые бедра. Лиза смотрит на него с таким мудрым состраданием, удивительным в сочетании с доверчивостью ее взгляда, который хочется назвать «детским», и это сравнение столь же пошлое, как и его безумие. Он все знает, он просто в мороке, но ловит Лизин взгляд, улыбку, острит и говорит без умолку. Рассказывает и рассказывает Лизе о своей жизни, точнее о прошлом, гонит мысли о будущем, которое, слава богу, избавления не принесло. Он знает, что в его жизни уже не будет ничего, и не в силах поверить в это, потому что такую жизнь он не вынесет. Только поэтому он ловит взгляд Лизы. «Нет, будет, поверь мне, я знаю», – обещают Лизины глаза, такие ясные, полные его боли, дающие надежду. И ему все яснее, что без этих глаз, без этой девочки с конским хвостиком, представить будущее он уже не может.
Лизин муж был тот самый хирург, что оперировал его жену. Муж выходил к нему в коридор и с превосходством профессионала объяснял ему, профану, что будут рецидивы, галлюцинаторные боли, еще какая-то хрень, что это будет его жизнь и другой ему не дано. А он лишь видел превосходство самца, учуявшего покушение на его собственность, и это давало надежду. Когда жене стало лучше настолько, что нельзя было счесть предательством с его стороны выходной день на даче, он пригласил обоих к себе в гости. За столом он умело и споро напоил мужа до полного расставания с чувством превосходства и, пока тот храпел в гостиной, нежно и убедительно трахнул его жену на верхнем этаже в японской комнате, где по камешкам струился ручеек. Кажется, даже два раза. Лиза целовала его и шептала, как целовали и шептали ему в последний раз лет двадцать назад. Она всегда ждала именно его. Ждала все восемь лет ее брака с мужем-хирургом, а до этого еще десять лет брака с кем-то другим.
Спустя еще неделю к жене вернулось то, что медики называют сознанием. Когда оно приходило, жена просила вина, чтобы не так болела голова, и проклинала его за то, что в сговоре с врачами он искалечил ее трепанацией черепа, хотя всего-то надо было ранку на голове зеленкой помазать. Потом сознание отступало, и она рассказывала, как ходила на охоту на кабана, потому что сын просил дичи к обеду. Ему же и на ребенка наплевать, и на маму парализованную: рожа наглая, опухшая, спихнул ее в больницу, а сам квасит.
Через месяц он перевел жену в реабилитационный санаторий, нанял сиделок и массажистов, принялся разгребать завалы на работе. Он забыл, как изводили его вечные звонки жены среди рабочего дня, он ждал звонков Лизы, и если не слышал их целый час, то звонил сам. Он ждал ее голоса, сидя в приемной шефа, он прерывал совещания, чтобы выскочить в бытовку и произнести: «Мой маленький, почему ты грустишь, я же с тобой, я тут, рядом…» Он никогда не знал, что нести такую милую чушь – это счастье, он захлебывался от нежности, когда она произносила: «Мне плохо без тебя». Безысходность предательски поменяла цвет и вкус – он же не бросит жену, калеку, с которой прожита жизнь, но и без Лизы жизни не будет.
Новый вкус безысходности был сладок, и он несся по пробкам, чтобы убедиться, что Лиза мучается вместе с ним. Лиза выскакивала в пальтишке поверх халата к воротам больницы, обнимала его, просунув руки под его пиджак, и шептала, что не в силах дождаться вечера. Он вслушивался в ее слезы, в слова, что муж все понимает, грозится ее прибить, и радовался, что Лиза принадлежит ему. Лиза мучилась от того, что он есть в ее жизни, но не каждую минуту, а ей нужна каждая, они слишком долго ждали друг друга. Ей нужно ждать его по вечерам, готовить ему ужин, вдыхать запах его свежевыглаженных или грязных рубашек, да хоть бы и трусов с носками. Она будет, конечно, ждать, сколько потребуется, но это с каждым днем труднее, и вообще, сколько можно встречаться в чужой съемной квартире.
Он никогда и никого не пускал в свою жизнь, но жизнь стала настолько иной, что не рассказать о ней было невозможно. По крайней мере, той единственной приятельнице по работе, которая была способна понять. Он изумлялся тому, что может быть счастлив, даже когда Лизы нет рядом. Достаточно собственных слов о ней, рвущихся из него неумелым рассказом. Слушательница, все понимающая женщина, сменившая трех мужей, смотрела на него с сочувствием, как смотрят на человека, чья болезнь не поддается лечению, но неизбежно исцеляется сама собой. Он злился, что она не хочет его понять, и повторял, что летает. Только это слово передавало его состояние.
– Летать невозможно, а я лечу. Не чувствую тела, поднимаюсь, расправляю крылья, понимаешь? Так не бывает, это нереально, но это же есть. Ты понимаешь, какое это чувство?
– Да, крепко тебя, дружок, скрутило. Что могу сказать, наслаждайся, пока это с тобой.
– Ты же знаешь, что мне никто не был нужен, но это совсем другое… Ты понимаешь, что я не могу бросить жену?
– Понимаю. И не бросишь ты ее никогда. Ты не торопись, радуйся… пока…
– Заладила одно и то же… Ой, Лиза звонит!
Из комнаты отдыха минут пять долетали слова «маленький мой…». Он вернулся в кабинет, брякнул айфон на стол, произнес с неискренней досадой: «Минут на сорок хватит, потом потребуется подзарядка». – «Подсели?» – спросила собеседница. «Угу», – счастливо хмыкнул он.
Жизни жены уже ничто не угрожало, но изменений к лучшему тоже ждать сложно, главное – не нервировать, чтобы не было рецидивов прежней силы, как сказал худенький, с монгольскими скулами, пожилой врач. Охоты на кабана сменились жалобами на массажиста, который выламывает ей ногу и руку, от чего и рука, и нога совсем онемели, а ведь еще буквально неделю назад она бегала по даче, а теперь вот лежит. И какого черта муж приставил к ней эту сволочь домработницу, которая ее кормит отравой и опять спрятала бутылку вина, будто она алкоголичка какая-то? Ведь мама уже выздоровела, звонила сегодня, вот пусть он ее и привезет вместо домработницы.
В воскресенье прикатил сын, сообщить, что разводится во второй раз. Выгнать жену назад к родителям он пока не может, жена же не виновата, что он встретил новую любовь, да и он в этом не виноват. В этом никто не виноват, так получилось, а жить с новой любовью ему, кроме как на даче, негде.
– Ты хочешь, чтобы я жил с твоей третьей бабой? – поинтересовался он.
– Пап, ты же здравомыслящий человек. Когда-то ты же должен решить, что делать с бабушкой? Стометровая квартира, между прочем, пропадает. Не где-нибудь, а на Остоженке. Звучит, конечно, дико, но какая ей разница, где лежать в постели, если она уже никогда не поднимется?
– Мать ты тоже списал со счету?
– Ты что, хочешь ее забрать? Она же парализована, сам же сказал, что… ну… ведь нет надежды, что она станет… нормальной. Сам посуди!
– Посудил уже. Все понятно, собственно, ничего другого я не ожидал.
Сын заявил, что опаздывает, и укатил на своем новеньком джипе, подаренном отцом ко второй свадьбе. Он же хлопнул полстакана виски, глуша омерзительное чувство, что не хочет ничего больше знать. Ни видеть, ни слышать, ни думать ни о жене, ни о сыне, которого он сам воспитал таким. А как его было воспитывать, когда жена его только осаживала и твердила сыну о гадкой наследственности? Он набрал Лизоньку: может, она вырвется из дому, он пришлет за ней машину?
В тот вечер и ночь они летали как никогда высоко и бесконечно. Он брал ее грубо, ставил ее на колени, а она, вцепившись в изголовье кровати, кричала, что весь мир должен слышать, как она счастлива. Он целовал собственный укус на ее смугловатой, с маленькой родинкой шее, переворачивал ее на спину, наполнял поцелуями ямку на ключице, прятал лицо в ее мягком животе, чтобы зарыться в нем от мерзости жизни, заглушить в себе все, не дающее жить. Лиза впивалась ему в спину ногтями и стонала: «Не могу, не могу больше, нет, иди, иди ко мне, я тебя не отпущу, спасу… ото всех, ты вся моя жизнь, иди…»
Очнувшись, они отправились на кухню, открыли бутылку вина. Он держал ее за загривок, она обхватила руками его живот, приговаривая, что ему надо худеть, но ей не хочется, чтобы он худел, она любит каждый кусочек его огромного, тяжелого родной тяжестью тела. Ей нужно целовать каждую складку его живота, перебирать мохнатые заросли на его груди. Пробило три. Он разбудил шофера и повез ее домой.
У подъезда ее панельного дома в Медведково сидел на лавке пьяный муж, приветствовавший их матерно. Мужа можно было бы и прибить, но он лишь слегка его пихнул, чтобы тот не дергался. Муж елозил по лавке, пытаясь встать, требовал ответа, что происходит, и тут единственно правильный, достойный их общего полета ответ пришел сам собой. Они приехали сказать мужу, что решили пожениться. Лиза пискнула было, но он шлепнул ее легонько по щеке со словами «молчи, маленький» и сообщил мужу, что эксцессов не допустит, квартира остается ему, а им надо забрать Лизины вещи и успеть еще немного поспать, пока не наступил понедельник. Хотя вещи можно и не забирать, а купить новые.
Наутро он позвонил сыну сказать, что через три месяца тот может переехать на дачу и жить там хоть с бабой, хоть с кем, а пока придется потерпеть. Не удержался и добавил: «Если хочешь, приезжай, только без своей бабы. Познакомлю тебя с моей будущей женой». Сын опешил, пустился в расспросы, вечером прикатил, опешил снова, они ужинали втроем, ему было трогательно видеть, как Лиза старается понравиться сыну. Тот, косясь на Лизу, расспрашивал о матери, а он рассказывал сыну, что матери нужен платный психиатрический интернат, лучший, где будут гарантированы уход и отсутствие психов вокруг. Надежды, что к ней вернется способность двигаться, а главное – разум, нет, значит, интернат – единственно верное решение. В первую очередь для нее самой. Забвение реальности – не мука. Мука – это несовместимость причуд ее разума с жизнью. Ему легче было говорить это сыну, чем самой Лизе, он не предавал жену, а лишь прощал сыну предательство, которое тот уже совершил.
Все затянулось, сначала он искал интернат, потом лучший дом престарелых для тещи. Оплачивать интернат, содержать сиделок и домработниц тещи и еще купить для них с Лизой новую квартиру было слишком дорого, даже для него. Конечно, с дачи он съезжал не ради сына, но жить с Лизой на даче, которую они почти три года, почти в согласии, почти с любовью обустраивали с женой, ныне живым покойником, было чересчур. Он видел, как это несправедливо по отношению к Лизе. Она ежедневно натыкается на шампуни, притирки и лосьоны жены, заполонившие все три ванных, обходит стороной шкафы с ее одеждой. Она такая деликатная, развесила с полдюжины своих вешалок, зацепив их за обшивку стены необитаемой японской комнаты, и разложила трикотаж и бельишко в коробки из ИКЕИ, стоявшие в ряд на полу. От этого его переполняло чувство вины за то, что он все откладывает начало их жизни, и казалось, что лишь она туманит по утрам брызжущую из-под сомкнутых век радость. Он гнал эту тягость от себя, искал Лизонькино тело, бормоча спросонок «мой маленький…», а Лиза, комкая простыни, прижималась к нему, смотрела на него с восторженной улыбкой, чтобы он видел, как она счастлива. Она прижимала к себе его громоздкое тело, шептала, что хочет закрыть его собой от мира, чтобы он… только так, что это – навсегда.
Продав квартиру на Остоженке, он купил трешку в доме на углу Проточного переулка, рядом с метромостом, но с видом на реку и терпимым ремонтом. Устроил Лизу в ведомственную больницу, спокойную, без ада агоний в реанимации. Он продолжал летать и знал, что это не может быть правдой, ведь люди не летают, и это, конечно сон. Но неизбежность пробуждения уже не страшила безысходностью. Когда он проснется, то просто окажется в том будущем, которого раньше у него не было.
Пришла зима, он теперь мотался в интернат к черту на кулички – сто километров от Москвы – раз в неделю, чтобы в интернате знали, что он жену не бросил, а за персоналом есть присмотр. Вечерами засиживался по привычке на работе, поражаясь, что не никто не обрывает телефон, что дома не ждет истерика, и предвкушая позднее возвращение к Лизе в долгую, принадлежащую только им, ночь.
Он стал снова приводить иногда домой приятелей с работы, чего не делал уже давно, потому что было стыдно за жену, у которой на лице было написано, что его друзья – мерзавцы и продадут ее мужа за понюшку табаку, особенно душа общества Вася, блондин с седеющей бородой. Это не мешало жене напиваться, ронять слезы в тарелку и тыкаться, ища сочувствия, в Васино плечо. Сейчас, выходя с мужиками из лифта, он знал, что Лиза уже накрыла стол, а в ее глазах, когда она откроет дверь, будет стоять изумление от нечаянного праздника. Он любовался тем, как старательно она смеется шуткам, как показывает всем, что счастлива, – взглядом, поминутными прикосновениями к нему, – как смущается от чуть насмешливого и такого откровенного внимания мужиков, как тянется, потупив глаза, чтобы не встретиться с ними взглядом за Васиной пепельницей, полной окурков «Данхилл».
Конечно, это была измена не жене, а всей прошлой жизни. Утратившей привлекательность, больной и постылой. Он не заметил, как пришло лето, он просыпался с Лизонькой от раннего рассвета, и даже, когда они размыкали объятья, еще было неприлично рано. Он полюбил рассказывать Лизе по утрам сказки, которые придумывал на ходу, она толкала его – как не стыдно, заснул, на самом интересном, похрапывает даже. Он просыпался, снова сжимал ее чуть полноватые бедра, зарывался в ее живот, а потом они, уже вместе, еще раз уплывали в сон, пока не наступал день.
В субботу они встали поздно, неспешно завтракали. Он поедет в интернат попозже, пусть пробки дачные рассосутся. Вернется к ночи, когда жена заснет, разбудит Лизу, расскажет ей новую сказку, которую придумает по дороге.
К жене его не пустили, врач сказал, что всю неделю она чрезмерно возбуждена, надо на время исключить все внешние раздражители, появились признаки эпилепсии. Они сидели в кабинете врача, тот выглядел усталым и раздраженным.
– Вашей жене нужны покой и стабильность. Не говорю, что выбор психиатрического интерната был ошибкой, кто может так сказать. Но мы, давайте называть вещи своими именами, лишь глушим раздражители, это дорога, если так можно выразиться, с односторонним движением. С каждым месяцем вашей жене будет только труднее справляться с внешним миром. Я склоняюсь к тому, что терапия сейчас могла бы больше помочь, чем психиатры. Нет, я даже не обсуждаю вариант, чтобы вы забрали ее домой, уже поздно, вы не справитесь, а это для нее станет невыносимым раздражителем. Но почти домашний уход и постоянное присутствие хорошего терапевта, возможно, дали бы эффект. Дозированное, ювелирное движение в сторону реальности. Сложно, очень сложно, но вы подумайте. Хотя, возможно, уже поздно… Я тоже подумаю.
Он говорил себе, возвращаясь в город, что врач просто снимает с себя ответственность, хотя никто его ни в чем не обвинит. Какая терапия? Она могла бы помочь тогда, когда жена отказывалась признать, что больна. Тем более эпилепсия… Как он будет ювелирно двигать эпилетика в сторону реальности? Они все хотят только брать и брать, и никто не хочет ему ничего давать, кроме Лизы. Он все сделал правильно. Да, настроение поганое, но у него не было жизни уже последних лет восемь, а сейчас появилась.
Пробки так и не рассосались, машина медленно ползла по Новой Риге к Москве, на Звенигородской наконец полетели, свернули на набережную, пронырнули под мостом и встали на светофоре, ожидая стрелки на разворот к дому. Он глянул на свои окна: света не было. Хотя какой свет, на город только начали наползать сумерки. Взгляд скользнул ниже, и он увидел Васю, выходящего из их подъезда. Вася сел в знакомый «ауди» – три ольги два ноля сорок шесть, шофер помигал левой стрелкой, потом правой, свернул в Проточный переулок, и машина покатила в сторону Садового.
Поднявшись в лифте, он сунул ключ в замок, открыл дверь. Лизиных обычных, радостно-торопливых, шуршащих тапочками шагов не послышалось. В квартире было уже темно, только из-под двери ванной по коридору стелилась полоска света и доносился Лизин голосок, напевавший, что «из Ливерпульской гавани, всегда по четвергам…».
Он прошел в гостиную с видом на реку, взглянул на два бокала с остатками вина, на две кофейные чашки и пепельницу, полную окурков «Данхилл». Заглянул в спальню, увидев ожидаемо неубранную постель, зацепил нечаянно ногой кружевной черный лифчик, валявшийся на полу. Положил ключ от квартиры на стол и вышел, захлопнув за собой дверь. В голове крутилось дурацкое «а лифчик просто открывался», и не было ни безысходности, ни полета, ничего не было, даже боли. Он просто проснулся и оказался в будущем, которого не было еще час назад. Почему-то он вдруг представил себе вязкую судорогу, которая скручивает тело его жены. И тонкую полоску света… Всегда по четвергам…
Лёник
– Папа, я с тобой?
– Нет, сынок, я на гастроли. На кастрюли, как ты говоришь. Ты ведь так говоришь, да?
Игорь знал, что его слова натужны, что он смотрит на малыша, вылезшего из-за стола не так, как все эти три года. Тот мусолил обмылок персика, который дала ему Таня, кормившая его овсянкой. Он уже с полчаса отворачивался от ложки, выгибался в стульчике, а мать просила, чтобы съел еще ложечку, пыталась отобрать персик, чтобы нарезать его дольками, но он только крепче сжимал кулачок, затыкая персиком рот, чтобы не оставить шансов ложке с кашей, и мычал. Мать наконец сдалась, и он, извернувшись всем тельцем, сполз со стульчика и стоял сейчас в коридоре, глядя на отца и обсасывая обмылок липкой персиковой мякоти.
Игорь знал, что, когда вернется, ни сына, ни Тани тут уже не будет, и все смотрел на малыша, когда-то его собственного. Он так любил его – полтора года, пока ничего не знал, – а потом, когда уже знал, любил еще больше года, может быть, даже крепче, а последние полгода не понимал, как сможет изжить эту любовь.






