Кащенко. Записки не сумасшедшего Котова Елена
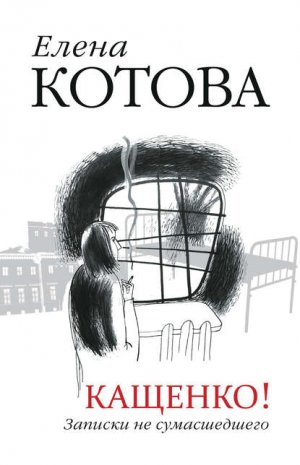
Года три спустя, когда ему было лет шесть или семь, Лёник в последний раз спросил маму: «А где папа Игорь?» Он так и сказал «папа Игорь», потому что тогда, когда ему было лет шесть или семь, он хорошо знал, что его папа – Олег. Мама ответила: «Он уехал в Америку», и вот тут-то Лёник в последний раз вспомнил день, когда папа уезжал «на кастрюли». В том воспоминании были тоска, Лёникино бессильное желание не отпускать папу, мамино раздражение – вовсе не из-за каши, из-за чего-то другого, – и страх от того, что папа с мамой улыбались, а он знал, что это неправда. Рядом с тем воспоминанием был и другой день, когда он оказался в огромной квартире, гораздо больше их собственной. Их привез туда старый дядя на белой машине. У Лёника болело ухо, мама обмотала его противным душным платком, по квартире были разбросаны чемоданы. Старый дядя сначала сердился, что мама искала какую-то маленькую кастрюльку, а потом, когда Лёник заплакал, сел перед ним на корточки и сказал, что они с Лёником будут играть. Будто дядя – его папа, а Лёник – его сын. Лёник побежал от него по длинному коридору в самую дальнюю комнату, спрятался в угол за штору. Ему было страшно, что старый дядя его найдет, он знал, что это случится непременно и очень скоро, он слышал шаги дяди, и самым страшным был миг перед тем, как дядя тронул рукой штору, сказав весело: «А кто тут у нас сидит?» Дядя отдернул штору, и тут Лёник бросился на пол с ревом, стал изгибаться и молотить по полу ногами. Он кричал, кричал громко, потому что хотел, чтобы пришла мама, и мама прибежала и понесла его на ручках в кровать, а он все кричал. Он плакал оттого, что болело ухо, что под мышкой оказался холодный градусник, а у него был жар, но даже сильнее платка его душил ужас сна, в который он проваливался и от которого никогда не проснется. А в этом сне старый дядя всегда будет его папой. Но потом он, судя по всему, выздоровел, а папа Олег оказался вовсе не страшным. Больше Лёник о том дне ничего не помнил, а теперь он уже был большой, ему было шесть лет или даже семь, он узнал, что папа Игорь уехал в Америку, а его с собой не взял, поэтому, ползая по полу с паровозиками, которые все пытались съехать с рельсов, он решил, что, значит, Лёник ему не нужен. Ему захотелось заплакать, но он передумал – наверное, потому, что тогда, лет в шесть или семь, он уже знал, что не нужен никому, и уже умел забывать то, что не хотел помнить.
Лёник рос обычным мальчиком, умненьким, домашним, капризным, но мама его любила и все прощала, потому что он часто болел. Он был скорее грустным, чем веселым, он не любил есть, не любил лечиться, а мама то кормила его, то лечила. Он рос таким мальчиком, которых обычно называют хлюпиками. Он нравился самому себе, но знал, что мама хоть и любит его, но ей он нравится не всегда, а папе не нравится совсем. Потому что он грустный и часто болеет. От этого ощущения своей второсортности, совсем незаслуженной, несправедливой, он и грустил больше всего.
В четыре года отец поставил Лёника на лыжи, но Лёник только простужался, падал, то с вывихом пальца, то с синяком, от которого распухало все колено. Года через два папа стал возить его на плавание, но из бассейна он возвращался с простуженным горлом и лежал дня три в кровати, обмотанный маминым платком, а потом еще с неделю сопливился. Позже, в восемь, отец отдал его в теннисную секцию, откуда его исключили, когда тренер заявил отцу, что не знает, что делать с ребенком, который посреди дистанции внезапно останавливается со словами, что дальше он бежать не может, потому что его сейчас стошнит.
По вечерам отец готовил с Лёником уроки, повторяя, что тот должен научиться работать, но Лёник видел, что отцу просто нравится его мучить. Зачем он делает вид, что хочет объяснить про две трубы, вливающих воду в бассейн, и одну, из которой все выливается, зачем ему ответ, сколько воды станет в бассейне через четыре часа? Это же неправда – лить и выливать воду одновременно четыре часа подряд. И пешеход, идущий со скоростью четыре километра в час навстречу поезду, – тоже чушь и неправда, никогда они не встретятся, если пешеход не полный идиот, и зачем про это спрашивать? Понятно, что учителя мучают его, потому что им платят зарплату, но папе-то это зачем? Ясно, что он ненавидит Лёника, просто боится сказать, потому что маме это не понравится. Еще противнее было, когда отец твердил, что Лёник должен научиться думать. Вот уж этого Лёник делать совсем не хотел, потому что боялся. Он же может додуматься до чего-то такого, что все от него скрывают, и тогда он останется с тем, о чем додумался, один на один. А скрывают от него многое, это он знал всегда точно и думать об этом не желал.
Когда отец впервые спросил его, кем Леонид – папа называл его только так, хотя Лёник ненавидел это имя, – хочет стать, когда вырастет, Лёник, которому было уже двенадцать или тринадцать, улегшись в постель, подумал, что вообще-то ему никем не хотелось становиться, ни космонавтом, ни ученым, ни бизнесменом, как отец. Все это была такая же неправда, как и то, что нужно работать, хотя Лёник уже знал, что это никому не нужно, все просто притворяются. Он знал, что, когда он вырастет, у него будет все. Что именно, он еще не знал, просто все. Но даже когда у него будет все, он ведь все равно кем-то будет? Подумав об этом, Лёник представил себя королем. Он в темном зале, в мантии сидит и подписывает указы о казни, а потом выходит на площадь и смотрит, как палач рубит головы. Лёник казнит каждого, в чьем взгляде он прочтет хоть намек на то, что он, Лёник, – второсортный, – каждого, кто нечаянным вздохом или взглядом выдаст, что ненавидит его. Но Лёник разглядит это и казнит негодяя. Тут Лёник испугался думать дальше, потому что дальше надо было представить себе, кого именно он казнит.
Примерно в шестнадцать Лёник уже знал, что ненавидит отца. Тот был сильным и требовал от Лёника быть таким же, а Лёник давно знал про себя, что он хлюпик, и не считал, что это плохо. Его возмущало, что только за это отец считает его второсортным, и ему хотелось отстаивать свое право оставаться хлюпиком. Тем более что это укрепляло его в нежелании работать, думать и непременно кем-то стать. Зачем, если у него и так будет все? Чтобы быть похожим на отца?
После школы Лёник поступил в университет на юридический, по ночам думая, что неплохо было бы стать судьей. Он прочел где-то, что судья, вынося приговоры, руководствуется только законом и своим внутренним убеждением. Это заманчиво – вглядываться в лицо подсудимого, пропускать мимо ушей неправду, которую плетут адвокаты, и прислушиваться к внутреннему голосу, решая, какого наказания заслуживает подсудимый. Ведь каждый заслуживает наказания! Хотя бы за постоянные обманы, за унижения других, за жестокость, без которых не способен прожить ни один человек. Естественное право, как известно, карает за естественные преступления, просто одним дана власть наказывать, а другим – нет. Внутреннее убеждение подсказывало ему, что судьей он, скорее всего, не станет, потому что – опять же – придется всем доказывать, что он умеет работать, что он «чего-то достиг» – а это были самые ненавистные слова отца. Лёник решил больше не думать, кем он станет после юридического, ведь главное – поступить, потому что отец, который никогда не мог сделать что-то просто так, поставил это условием покупки Лёнику машины. Когда Лёник поступил, отец купил ему жалкий Ford Focus, единственным достоинством которого было то, что за такую дрянную машину можно было не рассыпаться в благодарностях.
Когда на втором курсе он завалил философию и теорию права, отец потребовал собраться и пересдать осенью. Он требовал, чтобы Лёник показал, на что способен, а Лёник твердил, что у него нет сил, потому что постоянно болит голова, и вообще… Мама испугалась, стала кричать на отца, и тот сдался, позволив ей выхлопотать Лёнику академку. Наслаждаясь целый год заслуженным бездельем, Лёник окончательно пристрастился к фотографии, которую любил уже давно, но в тот год она стала его единственной и тайной страстью. Сначала он фотографировал исключительно уродов. Физически дефективных, идиотов, просто некрасивых до омерзения, и поражался, как их много. А потом понял, что их гораздо больше, ведь в урода превратить можно почти каждого. Даже просто каждого, если повезет. Неловкий поворот шеи, раззявленный от смеха рот, ярость, исказившая лицо, гримаса, которая выдает человека на секунду с головой, как бы он ни кривлялся, что это он пошутил так, а вообще у него просто дружеский, веселый разговор. Вот так они себя и выдают с головой. А Лёник уже успел все увидеть. Надо только подловить момент, и главное, чтобы никто не знал, какого момента ты ждешь и для чего. Уроду можно показать другую фотографию, сделанную минутой позже, а ту, заветную, припрятать. Вся же фишка в том, что в урода можно превратить любого, тот ни о чем не догадывается, а Лёник уже приговорил его к уродству пожизненно. Никто не мог помешать ему окружать себя уродами – людьми, которые гораздо хуже его, и чем больше он находил таких людей, тем сильнее нравился самому себе.
На четвертом курсе он снова завалил какие-то экзамены, и снова отец в ярости бегал из угла в угол, а Лёник делал вид, что слушает, жалея только о том, что ему не хватит смелости взять и сфотографировать отца несколько раз. Было бы просто украшение его коллекции уродов. Но прооравшись, отец снова выхлопотал ему академку – куда деваться, если до диплома один год всего. В тот второй совершенно свободный год Лёник, который в школе боялся девочек, а потом три года не боялся, но выбирал лишь тех, с кем можно не церемониться и не прикладывать усилий, встретил в книжном магазине «Республика» Надю. С год они встречались без церемоний. Лёнику было начхать на нежность и преданность Нади, это ему предлагали и все прежние – те, с которыми он не церемонился. Он уже умел тут же расставаться с ними, как только видел, что еще немного – и за эти нежность и преданность с него начнут что-то требовать. С год он все ждал, когда же и Надюшка начнет от него что-то требовать, но та была готова принимать Лёника без всяких условий, таким, как есть. Наверное, потому, что красавицей Надю назвать было трудно, к тому же она была старше Лёника на полтора года. Но Лёника вполне устраивало, что Надя его любила. Он заявил родителям, что они хотят съехаться. Те, со своим умением усложнять даже самые простые вещи, решили непременно сначала познакомиться с родителями, как они выразились, «Надежды», как будто это они с ними жить собирались. Надиным родителям Лёник понравился, даже очень, и все устроилось, родители скинулись и купили им вполне сносную двушку, не бог весть где, на Самотеке, но все же не в Алтуфьево.
Лёникиным родителям нравилось, что Надя уже «многого добилась» – от этого выражения Лёника корежило. Надюшка протирала юбки в маркетинговой компании старшим бренд-менеджером. Сам же Лёник, потрудившись два года помощником старшего партнера в одной именитой фирме, заявил, что больше не собирается тратить жизнь на подбор подходящих параграфов законов для чуши, которую пишут партнеры. Отец пристроил его в юридический департамент крупного банка, где было все то же самое, отец снова напряг свои связи, и Лёника взяли на работу в министерство, но это было уже просто смехотворно – ходить куда-то к девяти утра за мизерную зарплату и за то, что все вокруг называли «перспективой». Когда он ушел из министерства, отец снова орал, и снова Лёник жалел о том, что не посмеет его сфотографировать, а мать причитала, осаживала отца, ругала Лёника, жалела его, а Лёник все думал, почему они считают его второсортным, не хотят просто оставить его в покое и требуют ответа, как и на что он собирается жить. Несколько месяцев Лёник не делал ничего, у него то и дело подскакивало давление. Вообще он чувствовал себя очень усталым, и все, кроме Нади, его раздражало. Отец спросил, не хочет ли Лёник поработать в его строительной фирме, и Лёник понял, что отец сдался.
В отцовской фирме была скука смертная, да и отца приходилось видеть гораздо чаще, чем хотелось, но плюсом было то, что, когда Лёник по утрам считал, что не в силах тащиться на работу, когда он просыпался совершенно, полностью разбитым и хотел только спать дальше, он так и делал. Залезал снова под одеяло и выключал телефон. В конце концов, мать, которая, конечно же, лезла на стенку от его выключенного телефона, потому что у нее была привычка названивать ему раз по десять в день, могла и Надюшке позвонить, та телефон никогда не выключала.
Надюшка – в вопросах, не касавшихся ее работы, – была лентяйкой, что Лёнику нравилось. По выходным они спали до полудня, потом еще долго валялись в постели, слонялись по квартире, ближе к вечеру выползали куда-нибудь поесть – потому что Надюшка, слава богу, готовить не любила, да и не умела, – а потом в кино. Иногда даже отправлялись, например, покататься на картингах или, смешно сказать, в боулинг. Надюшке нравились Лёникины фотографии – родителям он их показывал крайне выборочно: они все равно не поймут, и лишь начнется разговор о том, что у него вывихнутая психика. Надя, правда, тоже сказала, что показывать эти фотографии людям, наверное, будет неправильно, вряд ли обычный обыватель сочтет их чем-либо иным, чем плодом вывихнутой психики, но, по крайней мере, сама Надя считала, что фотографии почти гениальны.
Когда Надюшка забеременела в первый раз, а Лёник повез ее в больницу, они вернулись часа через три, заказали пиццу, весь вечер смотрели ужастики, и никто, слава богу, не делал никакой драмы. Во второй раз было то же самое, но в третий Надюшка устроила-таки драму, потому что врачи заявили, что у нее больше не будет детей. Лёник не очень понимал, зачем устраивать драму из-за того, чего уже не изменить, но Надюшке требовалось сочувствие. Он гладил по голове Надюшку, лежащую, свернувшись калачиком, у него на коленях, повторяя, что всегда будет с ней, и Надюху это в конце концов примирило с той жизнью, которая устраивала Лёника.
Отец же мириться с жизнью, которая устраивала Лёника, не собирался и вбил себе в голову, что Лёник должен готовиться стать его преемником, а для этого – конечно же – он должен больше работать, вникать во все дела его фирмы. Лёник терпел, потому что отец стал уже совсем старым, за семьдесят, – преемником так преемником. К тому же ему совсем не хотелось расстраивать мать, которая, как это она делала всю жизнь, больше всего любила лежать не диване с книжкой, готовить или сходить с ума, когда у Лёника был отключен телефон. Или когда они с отцом ссорились. Но ссорились они с отцом теперь гораздо реже, потому ли что отец, похоже, смирился с тем, каким вырос сын, или ему надоело слушать, как мать его пилит за нежелание понять сына. Пилила мать и Лёника, видимо, стремясь показать, что она справедлива: «Отец не понимает, что ты – другой, чем он, – любила повторять она Лёнику. – Но и ты должен больше считаться с тем, какая нелегкая у него жизнь». Лёник не понимал, с чем, собственно, он должен считаться, раз отец сам выбрал себе ту жизнь, которую уже почти прожил.
Лёник не знал, что отец думал, в сущности, так же. Он сам выбрал свою жизнь и никого винить за нее не собирался. Жизнь его будет непроста, это Олег понял в первый же день, когда познакомился с трехлетним Лёником. Олег – тогда тридцатисемилетний, богатый и успешный мужик – любил и работать, и гулять в полную силу, он любил Таню, он вообще любил людей. Он был к ним терпим и даже щедр, всегда был готов помочь даже тем, кто в его представлении был хлюпиком, даже им он всегда готов был помочь. В тот день, в день их встречи с сыном, он увидел, что его трехлетний сын Лёник – хлюпик, и не удивительно, раз его три года воспитывал скрипач, который, пусть он хоть сто раз будет восходящей звездой, сам не мог быть никем иным, кроме хлюпика. Олег знал, что Таня не станет делать из хлюпика Лёника настоящего пацана, а будет только искать маленькие кастрюльки, кутать малыша в душные платки и убиваться, что сын растет хлюпиком, с чем она не в силах справиться, а, поубивавшись, снова ляжет на диван с книжкой или пойдет рисовать. Значит, так и будет, и лепить из Лёника настоящего пацана и мужика придется только ему. Будет нелегко, в этом Олег тоже не сомневался, потому что Лёник достался ему трехлетним, а человека – даже в три года – поменять уже непросто. Кого ему было в этом винить, кроме себя?
Олег знал, что сам влюбил в себя Таню, когда та была счастлива с восходящей звездой, скрипачом Игорем, и когда Тане, на пятнадцать лет его моложе, было всего двадцать. Как она могла не влюбиться в Олега? От этой любви Танина жизнь стала лишь еще прекрасней. Ее счастливый брак с Игорем и ее любовь к Олегу прекрасно уживались в той сказке, которую Таня считала жизнью. Таня не любила делать над собой какие-то усилия, а любила быть беззаботной, что так ей шло, валяться на диване с книгой, что Игорю очень нравилось, и любила, чтобы ее любили. Так, собственно, все и было, и Таня имела все основания считать свою сказку былью, тем более что эта очаровательная иллюзия и была для Олега самой неотразимой Таниной чертой. Таня и ребенка-то совсем не хотела, когда забеременела от Олега, но раз так получилось, Таня заявила Олегу, что она даже готова развестись с Игорем и выйти за Олега. Но Олег не собирался тогда бросать ни свою жену, ни сына, уже тринадцатилетнего, хотя и повторял, что любит Таню. Не мог же он винить Таню, если она решила, что быть женой конкурсного, уже почти знаменитого скрипача лучше, чем матерью-одиночкой?
Конечно, только самого себя мог он винить и двумя годами позже, когда понял, что не в силах разлюбить Таню и хочет быть с ней, а та к тому времени уже растила его ребенка, которого скрипач Игорь считал своим. Тане это было неприятно, и вовсе не потому, что это было неправдой – правда ее мало заботила, – а оттого, что после мук родов, кормления, бессонных ночей с младенцем она считала только своим этого ребенка, на которого ни у кого, кроме нее самой, не может быть прав. Игорь считал, что у него тоже есть права на ребенка, а Таню это так раздражало, что она убедила себя, что не может жить во лжи и ей требуется-таки правда. А убедив, рассказала Игорю про Олега, который и есть настоящий отец Лёника. Она знала, что Игорь, конечно, будет мучиться, но простит, и в ее жизни снова наступит гармония. К тому же она – наверное, уже просто из упрямства – отказывалась мириться с тем, что Олегу нужна его жена и уже пятнадцатилетний сын больше, чем Таня и ее ребенок. Поэтому все будет так, как она считает нужным, и пусть все вокруг страдают не меньше, чем она. Игорь действительно все простил, заявив, что Таня – его жена, а Лёник – его сын, и все должно остаться так, как и было, и Лёник ничего не должен никогда узнать, и они всегда будут вместе. Но даже и это у него не вышло, потому что он был, видимо, не просто хлюпик, но еще и неудачник. По сравнению с Олегом, по крайней мере. Олег же, спустя еще год, понял, что готов ради Тани бросить свою жену и сына, так и завертелся тот мучительный морок, и вертелся он еще почти год, пока Игорь, уехав на гастроли, не вернулся в их бывшую общую с Таней пустую двушку, а Таня и Лёник не переехали в огромную квартиру на Полянке, снятую Олегом на то время, пока он будет строить Тане дом. Олег построил дом, и в этом четырехэтажном доме с шестью спальнями прошло Лёникино детство.
В тот день на Полянке, когда Таня вышвыривала на пол вещи в поисках маленькой кастрюльки, а Лёник заболел необъяснимой болезнью, с температурой под сорок, с удушьем, Олег уже все понимал. Он не понимал только, почему он ждал три года, ведь он уже тогда знал, что не сможет жить без Тани. Даже то, что Таня со своим скрипачом вырастили Лёника хлюпиком, его не страшило, малыш был таким славным, и он знал, что уже почти полюбил его, а со старшим сыном они почти год не разговаривали. Олег знал, что он должен быть безупречным отцом, он и сам хотел быть им. Он ставил Лёника на лыжи, возил в бассейн, следил, чтобы он не пропускал теннис, брался сам за его уроки, когда у Тани кончалось терпение, а оно кончалось крайне быстро. Олег отказывался мириться с тем, что сын не хотел учиться, а потом не хотел работать, он считал, что рано или поздно сын перерастет трудный возраст и возьмется за ум, по-другому же не может быть, жизнь все равно заставит. А Таня все лежала с книжками на диване или готовила, считая, что главное для ребенка – это правильно питаться. Еще она часто тайком от Олега убирала Лёникину комнату, хотя тому было уже шестнадцать. Когда Лёник бросил работу в третий раз, Таня придумала себе новую сказку о правде – что Олег требует от сына невозможного, хотя он всего лишь требовал, чтобы тот работал. Хоть как-то, чтобы в состоянии был себя содержать. Но Таню в этом убедить было невозможно, она оберегала Лёника от отца и потакала ему абсолютно во всем, пусть даже от этого сын ее любил ничуть не больше. Конечно, Олег видел, что сын по-своему любит мать, а его самого почти ненавидит. Или просто ненавидит. Ни сына, ни Таню переделать невозможно, и ей совершенно незачем постоянно его пилить и повторять, что сын не вырос сильным, не все сильны, как Олег, а он не хочет с этим считаться, требует от сына невозможного и тем калечит его. Олег заводился лишь тогда, когда Таня переходила на крик и трясла пальцем перед его носом, повторяя, что Олег не в состоянии любить сына таким, каким сам его вырастил, и, в конце концов, сломает психику ребенка или доведет его до самоубийства. Так было в одном фильме, который Таня однажды смотрела по телевизору и требовала, чтобы Олег смотрел вместе с ней, чтобы понял, чем все это кончается, а Олег орал на Таню, что у него нет выхода, она сама, что ли, не понимает? Как сын выживет, когда его, Олега, не станет? Как, если сын не в состоянии работать? Олег действительно стал сдавать и повторял, что сыну останется его фирма и тот должен научиться вести бизнес, – не потому, что верил в это, а просто потому, что надо же во что-то верить, чтобы жить дальше.
Лёник редко навещал родителей – когда съездить уже было легче, чем отвечать на истеричные звонки матери, – она волнуется, как они там с Надей, он не был у отца на работе уже три дня, он должен немедленно приехать, ей надо убедиться, что с ним все в порядке. Лёник не любил эти поездки – не о чем было говорить с родителями, да и лень тащиться на их дачу по пробкам, когда выходные так коротки. С каждым годом родительский дом раздражал его все больше, в детстве дом не казался таким запущенным, а сейчас он испытывал отвращение к хаосу родительской жизни. Его не удивлял вечный беспорядок в доме, хотя прислуга приходила дважды в неделю, не удивлял холодильник, забитый едой, которую постоянно выбрасывали. Он знал, что подоконники всегда были и будут завалены отцовскими бумагами, лекарствами, прибором для измерения давления, сломанными очками, удлинителями и подзарядками, среди которых никогда нельзя найти нужную. Его даже не бесило, что сначала одна, а теперь уже и три спальни из шести превратились в склад барахла, которое никогда никому не понадобится, а рядом с мамой, лежавшей с книжкой в гостиной на диване, теперь поселился обогреватель, потому что в доме плохо работал котел, но чинить его ни у кого не было времени. У Лёника все это вызывало просто отвращение, но пару часов можно и потерпеть.
В ту субботу, когда они с Надюшкой выбрались, наконец, к Лёникиным родителям, отцовской машины у дома не было, он и по субботам часто торчал на работе. Они вошли в дом, где царила странная тишина, почему-то напугавшая Лёника. Не слышно было ни рокота посудомойки, ни шипения маминых вечных сковородок. Они вошли в гостиную, и испуг прошел – мама, как обычно, преспокойно лежала на диване, правда, с лэптопом, а не с книжкой.
– Отец скоро приедет, у нас грибной суп, а на второе я нажарила бифштексов. Надо вставать, салатики резать. Наденька, ты все еще на диете?
– Мы оба на диете, – буркнул Лёник, усаживаясь в кресло. – Надь, включи телевизор.
Мать отправилась на кухню, а он бросил взгляд на открытый лэптоп. «Игорь Церман, концерт в Кеннеди-центре». Пробежался глазами по закладкам – «Церман, вики», «Гендель, соната…», «Моцарт, Третий скрипичный концерт…».
– Мам, кто такой Церман?
– Знаменитый скрипач.
– Ты полюбила скрипичную музыку?
– Лёник, отстань. Я когда-то любила и самого Цермана. Тридцать четыре года назад. И он меня любил, представь себе. Вообще он мог бы быть твоим отцом. Но сейчас это все уже не имеет никакого значения. – Мать произнесла это, тем не менее, с гордостью. – По-моему, отец подъехал. Надюш, помогай на стол накрывать.
Несколько дней Лёник читал в Сети все, что мог найти о Цермане. Самый юный в истории победитель конкурса Паганини, лауреат конкурсов Сибелиуса, еще кого-то, почетный профессор в университете Йель, снова конкурсы, почетный член, председатель попечительского совета…
Лёник слушал на YouTube особенно щемящее в скрипичном исполнении «Summertime, and the livin’is easy» и искал «Игорь Церман» на «Фейсбуке».
После трех месяцев переписки Церман прислал им с Надюшкой приглашение: Церман и его жена будут рады, если Лёник – он так и написал «Лёник» – с подружкой поживут с месяц в их доме под Лос-Анджелесом, ну и, конечно, посмотрят окрестности. Непременно надо будет съездить в Лас-Вегас. Лёник все слушал и слушал Гершвина, думая, что его отец богат, а мама и сейчас вполне good-looking, но его жизнь никогда не была easy, она всегда была второсортной, и это несправедливо.
– Мам, а зачем ты сказала, что Игорь Церман мог бы быть моим отцом? – спросил он мать, когда приехал в очередной раз.
– Просто вспомнила молодость.
– То есть он не мой отец?
– Лёник, какого черта! Не прикидывайся, ты прекрасно знаешь, кто твой отец! И вообще ты взрослый, все понимаешь, все уже вспомнил. А что не вспомнил, тебе уже Церман наверняка рассказал, ты с ним переписываешься уже бог знает сколько времени.
– Мы с ним об этом не говорим.
– Это ваше дело. А я была, как ты знаешь, замужем за Церманом, а потом развелась.
– И когда ты развелась, я уже был?
– Тебе было уже три года, и ты всегда… ну, после того, как я тебе сказала… прекрасно знал, кто твой отец!
– А почему ты развелась с Церманом, только когда мне было уже три? Почему не тогда, когда узнала, что мой отец Олег?
– Что ты ко мне пристал? Тебе этого не понять. И теперь это уже не имеет никакого значения. Особенно для тебя.
– Ты не любила Цермана?
– Да, но очень скоро я полюбила твоего отца, и гораздо больше. И люблю его и сейчас и ни о чем не жалею. Это все или у тебя есть еще вопросы?
– При этом только и делаешь, что читаешь и слушаешь Цермана.
– Говорю же, тебе этого не понять. Даже и не пытайся. Но это замечательно, что вы с Надюшей летите на целый месяц в Штаты, правда? Ты рад?
Игорь не чувствовал боли уже лет тридцать, но в памяти о ней не было привкуса удивления – отчего же тогда, тридцать лет назад, было так больно? Его боль, его тогдашняя любовь к Тане и Лёнику жили в памяти, как живые цветы, только что срезанные. Любви и боли уже не было, а цветы не засохли, в памяти жили все изгибы листочков, капли воды на лепестках, наверное, даже запах тех цветов. Боль была нестерпимой тогда, когда Таня сообщила, что он – не отец Лёника. Нестерпимым было непонимание, зачем она ему это сказала, если при этом разводиться с ним не собиралась. Но он продолжал любить и Таню и сына, а потом, когда Таня заявила, что разводиться она все-таки собралась, а он все продолжал любить их, не представляя, как сможет изжить эту любовь, как сможет жить без Тани и малыша, которого не мог перестать считать своим. Он все еще отказывался понимать, что Таня – это странная разновидность чудовища с беспечно-доброй психикой самки, жестокой в своем женском естестве. А когда понял, любовь к Тане стала умирать, а любовь к Лёнику жила еще очень долго, и мысли о том, каково его славному малышу там, с неизвестным отцом и беспечно-жестокой матерью, преследовали его много лет, уже в Америке. Но потом все растворилось в памяти, и теперь, когда сын, – Игорь все же не мог удержаться, чтобы не называть в мыслях Лёника сыном, хотя тут же и одергивал себя, – написал ему о себе, он не стал писать ему в ответ, как он любил его когда-то. Зачем? Игорь просто радовался, что к ним с женой приедут на лето Лёник со своей подружкой, что он просто предвкушает встречу со славным, хоть и малознакомым молодым парнем, с которым у него наверняка найдется много общего. Он почему-то был в этом уверен, ведь люди не меняются и нынешний Лёник наверняка похож на того малыша, который стоял перед ним, мусоля персик.
Жена Игоря – ведущий стилист в Este Lauder – тоже радовалась, что дети старых друзей ее мужа, еще со времен России, приедут к ним на целый месяц и она будет угощать своих приятелей такой интересной русской парой. У Церманов не было детей, и они все еще были влюблены друг в друга, хотя были женаты больше двадцати лет. Они вместе приехали в аэропорт встречать Лёника и Надюшку, и Лёник поразился тому, насколько они оба молоды. Высокий, некогда черноволосый Игорь, теперь совершенно лысый, и его хрупкая жена с прекрасной осанкой и еще более прекрасной кожей, которая даже терпимо говорила по-русски. От Церманов шел запах успеха, так же как и от их дома – с окнами на океан и двумя террасами, от широких диванов, в которых можно было утонуть. А еще запах чистоты, свежесрезанных цветов и покоя.
Лёнику понравилось, что Игорь в первый же вечер, когда его жена и Надюшка отправились спать, после первого же шота виски предложил не обсуждать эту мутотень с отцовством, не расчесывать прошлое, а просто хорошо провести вчетвером месяц. Все так и получилось. Лёник даже показал Игорю с женой коллекцию своих фотографий. Игорь согласился, что картинки, конечно, безумны и могут вызвать сомнения в нормальности автора, но вывихами психики в Америке никого не удивишь, а вот фотографии поразительны, в их безумии и есть вся фишка. Правда, он сказал не «фишка», этого слова он, конечно, не знал. Он произнес: «It’s this sickness that makes the trick!» Это Лёник сказал про фишку, отчего они вместе долго смеялись, а когда объяснили жене Игоря, в чем фишка, та сказала, что выставку так и надо назвать Blue-chip Ugliness.
– Тут это будет иметь успех, – повторяли Игорь и его жена.
Лёник с Надюшкой посмотрели Сан-Франциско, Лас-Вегас, Большой каньон. Лёник рвался в Нью-Йорк, но Надюшкин отпуск заканчивался, а тут еще выставка, которую неутомимая жена Игоря организовала, пока они колесили по западному побережью. Она сама отобрала пятьдесят лучших фотографий и издала каталог. «Самые уродливые, максимум шока, максимум экспрессии», – повторял Игорь, и, действительно, выставка имела громкий успех, калифорнийская пресыщенная элита нашла ее «свежей, оригинальной, актуальной» и даже обнаружила «игру контрастов между красотой души и уродством фасада, мастерски переданную автором». Игорь настаивал, что необходимо провезти выставку по Америке. Первым делом – в Нью-Йорк, конечно. В отличие от Надюшки, Лёнику торопиться было некуда, не к отцу же на работу. Они с Игорем проводили Надю в аэропорт, прямой рейс Лос-Анджелес – Москва.
Три месяца Лёник летал по стране, опережаемый собственной славой. В Чикаго, Бостоне, Нью-Йорке, Новом Орлеане – везде было одно и то же: папарацци, автографы, интервью, ставки за котрые росли с каждой неделей. Его тошнило от слов «артхаус» и «концептуальное искусство».
В Бостоне он познакомился с шаловливой инженю двадцати семи лет, считавшей себя состоявшимся писателем коротких рассказов с признанием среди истинных ценителей. Лора была из тех барышень, что рождаются уже с трехмиллионным трастовым фондом, одевалась с тем сдержанным шиком, который отличает поистине большие и старые деньги, она сразу и безоговорочно приняла Лёника таким, как есть, что тоже было безусловным плюсом.
Лёник не вернулся в Москву ни через три месяца, как обещал Надюшке, ни через год, как позже обещал матери. Через год он снял дом с видом на океан, минутах в тридцати езды от Церманов, и позволил Лоре к нему приезжать. Он продал половину фото из своей коллекции, часто ездил в северные горные дикие штаты, чтобы пополнять свои запасы будущих уродов, и у него появился первый миллион, а ставки за интервью стали неприлично запредельными. Через два года, когда миллионов стало уже шесть, он представлял, как его дряхлый отец все еще пыжится в своей тошнотворной строительной компании, где все по-прежнему, где две трубы льют куда-то воду, а третья ее выливает, а отец все ищет правильные ответы, но никогда их не найдет.
Две фотографии купил у него музей Гуггенхайма, на что Лёнику было совершенно наплевать. Лора поселилась в его доме, и он переложил на нее изучение предложений – стать ли contributing креативным директором для какого-то из журналов мод, которые так и охотились за ним, или лицом продвижения часов Hamilton, или сумок Tom Ford, или еще какой-то дряни, сулившей огромные деньги: Лору надо было чем-то занять, а с Лёника вполне пока хватало Пулитцеровской премии. Лора что-то попискивала насчет собственного дома, но Лёник пропускал эти инсинуации мимо ушей, продолжая снимать все тот же дом, хотя, по правде сказать, он уже стал тесноватым. Но Лёник раз и навсегда запретил Лоре спрашивать, не хочет ли он переехать на восточное побережье.
Лёник не думал, счастлив он или нет, он терпеть не мог эти бессмысленные умственные спекуляции. Он всегда знал, что у него будет все, и он это получил. Досаду иногда вызывали лишь Надюшкины мейлы, поток которых все не прекращался, и пришедшее осознание того, что он ненавидит мать. Она могла бы дать ему эту жизнь гораздо раньше.
Признание лохушки
Как радостно было бежать в детстве в кино на «новую картину» – так называла фильмы моя бабушка. Стоять в очереди, зажав в руке тридцать копеек, входить в зал и смотреть неизменные «Новости дня» или «Фитиль», предвкушая другой мир, где краски более яркие, а чувства – более подлинные, чем в жизни. Тот мир не исчезал ни когда я, переминаясь с ноги на ногу, спускалась в толпе по ступенькам к выходу, ни долгое время спустя. Хотелось не стряхивать, а беречь это наваждение. То были первые симптомы болезни: проживать самой от начала до конца все, что происходит с героями на экране, примерять их жизнь на себя. Быть похожей и на Штирлица, и на капитана Алехина из «Августа сорок четвертого», быть такой же бесстрашной, побеждать зло. Совершать «подвиг разведчика» и «вызывать огонь на себя». А как по-другому?
Добро бы, если это была бы обычная детская болезнь. Но года три назад смотрела «Жизнь других», понимая, что чекисты, гэбэшники не перерождаются ни-ког-да, они навечно все те же не ведающие человеческих чувств серые особи, которыми их создала система. Но все равно верила, что горькая участь героини, сила ее чувств, намотанных километрами прослушки, способна даже сотруднику Штази раскрыть глаза и, вопреки системе, породившей его, спасти героев.
Возможно, мне бы удалось одолеть детскую болезнь, если бы не фильмы о любви. Как им не верить, если буквально все они о твоей собственной жизни?
«Она» ждет и верит, или не верит, но ждет все равно, или все наоборот, она не видит, как он любит, и ждет кого-то иного, и нам ясно, как горько она ошибается. «Он» не понимает, что никто не полюбит его так, как она, или не может решиться, или уже почти решился, но что-то помешало. Если в фильме «они» прозревали, я плакала от радости, если нет – от досады, что прошли мимо своего счастья. Ну как же «она» не нашла заветные слова, чтобы он прозрел? Я бы точно нашла.
А ведь, в сущности, от этих фильмов про такую якобы твою собственную жизнь и твою собственную любовь ничего, кроме вреда, нет! Причем вреда, с одной стороны, самоочевидного, но с другой – тем не менее наркотического… Кто подсел, тому уже не помочь, он ищет в этих фильмах забвение, утешение, надежду. Это болезнь… У мужиков – водка, у нас – фильмы про любовь.
– Это все Голливуд, – размышляла как-то моя лучшая подруга над причинами такого количества разбитых женских сердец. – В конце каждого фильма женщина уезжает с принцем в сказку. Все понимают, что полное фуфло, а в глубине души тем не менее надеются – а вдруг не фуфло? Всю жизнь мечутся в поиске именно такого счастья. Наступают на одни и те же грабли, страдают, клянут мужиков и снова ищут. Чтобы все как у всех. У кого «у всех» – непонятно. Ведь ни у одной никогда не было этого голливудского счастья. Но все его исступленно ищут.
По правде говоря, не все. Кто-то уже переболел детской болезнью, а кто-то, похоже, родился с иммунитетом к «любви как в кино». А может, и не родился, а просто отдельные ушлые матери находили какие-то тайные места, где в младенчестве прививки от этой трудноизлечимой болезни делали. А иные матери, возможно, чуть менее ушлые, но не менее мудрые, иными способами научили дочерей не верить той лапше, которую «они» вешают нам на уши, той пурге, которую «они» гонят, не верить остальным словам, которые, несмотря на все их разнообразие, проходят в женском лексиконе под общим кодовым названием «люблю, трамвай куплю…». Берут эти мудрые дочери мудрых матерей от мужчин все, что те способны дать, а потом и еще вдвое больше, и не страдают. А остальных – тех, кто ждет чудес, как в кино, – называют лохушками. Надо признать, не без оснований.
Когда в моей жизни на первом курсе появился первый «он», я была, конечно, полной лохушкой. «Он» обещал непременно развестись через десять лет, после того как его сын закончит школу, а я вспоминала фильмы, где «они» ждали друг друга долгие годы, а потом были счастливы. Маме, назвавшей меня идиоткой – слова «лохушка» тогда еще не было в лексиконе, – пришлось лечить это конкретное проявление болезни, что ей удалось не без труда.
Вскоре появился другой «он», на этот раз не женатый, а погруженный в свои рукописи по философии. Разве это не счастье – служить гению? Разве он не оценит, что только я могу так его любить? Конечно, это и есть счастье, бесспорно. Это же прекрасно – уходить из его квартиры на цыпочках, когда я ему мешаю, и знать, что скоро, через день, или два, или через неделю, ему станет одиноко, он будет маяться оттого, что не пишется, и непременно позвонит, и я полечу к нему через весь город, зная, что он меня ждет, чувствуя, как я нужна ему. Как ни одна другая… Что другая? Она же не умеет уходить на цыпочках, она не способна понять, что мешает, она бы сидела и сидела рядом с ним, сновала бы из угла в угол, мелькала бы перед его глазами. Туда-сюда, туда-сюда… Она не умела бы любить его, как умею это делать я. Как горда я была умением понимать, что для настоящего мужчины могут быть вещи важнее меня и моей любви. Ведь только вчера по телику видела, как Лёля в «Девяти днях одного года» служила своему Гусеву, физику-ядерщику. Долго, правда, не понимала его, мучила его, мучила себя. Зато научила меня понимать. А мне говорят, что я – лохушка.
А вот героиня фильма «Под покровом небес» не служила Малковичу, она с ним скучала… Она ждала счастья, которое развеяло бы скуку, и скука не давала разглядеть, что счастье не надо ждать, что оно рядом, что нужно просто уметь увидеть его за знойной, тоскливой скукой, наполняющей ее жизнь день за днем. За это жизнь ее и наказала крайне жестоко. Малкович умер у нее на руках в африканской пустыне, а она, пройдя мучительный путь и все, наконец, поняв, стоит в последнем кадре перед окнами затрапезного отеля, где в начале фильма ей было так скучно. Стоит и не решается войти, и непонятно, пугает ее этот невзрачный отель своим шиком или манит… А как этот отель раздражал ее в начале фильма, когда ее привез туда муж-Малкович и она не хотела понять, что же погнало его в эту тоскливую знойную Африку… Возможно, именно то, что она его не любила? Возможно, но разве это теперь важно? Теперь его уже нет, теперь она его уже любит, но теперь, увы, уже поздно.
Справедливости ради должна заметить, что не всегда принц увозит «ее» в прекрасное далёко, но и фильмы, где он этого не делает, приносят один вред, обостряют болезнь лохушек вроде меня. Как же мне хотелось, чтобы в «Касабланке» Рик увез Ильзу – Ингрид Бергман – на том самолете! И не только мне. Уверена, абсолютно всем, кто, судя по рейтингам, уже семьдесят лет считает «Касабланку» лучшим фильмом мирового кинематографа, этого хотелось. А как ей самой хотелось! Но Рик ее не увез, она улетела с другим, а он остался, и всем, кто, судя по рейтингам, тем не менее, каждый год снова смотрит и смотрит этот фильм, – им всем ясно, как сузился мир обоих после взлета самолета, взявшего курс на Лиссабон. Оба будут жить, вспоминая – или не вспоминая – о другом, оба смирятся с тем, что жизнь прекрасна, даже когда из нее уходит счастье. А прекраснее любви нет в жизни ничего. А прекраснее любви Ильзы и Рика вообще ничего и никогда не существовало, это как раз было ясно с самого начала! Ясно всем, особенно молчаливому пианисту Сэму, который всегда знал, что любовь принесет героям только горечь, однако и он не смел ей сопротивляться, хоть и пытался. Ильза присела к его пианино и попросила: «Спой это. Спой еще раз, Сэм», и тот запел:
- You must remember this…
- The world will always welcome lovers,
- As time goes by…
И что, кроме вреда, можно ждать от такой истории? А кроме нее, есть уйма других, талантливых и так себе, вплоть до совсем неприметных, где, тем не менее, нам показывают горькую правду: героини ждут обещанной любви два часа экранного времени, но так и остаются несчастными. Я сострадаю им, хотя они вообще-то могли понять, что к чему, уже на пятнадцатой минуте. Но они же верили! Считать горькую правду лекарством от любви мы, лохушки, отказываемся.
«Мы» – это потому, что эта болезнь точно инфекционная. Ею заражаются не только от непосредственного контакта с экраном, но и от общения с другими больными. Сколько наших подруг-лохушек бегут к своим Бузыкиным или механикам Гавриловым с распахнутыми объятиями! А те пугаются этих распахнутых объятий, не нужны они им. Да что Бузыкины! Хоть один нормальный мужик, даже в кино, если, конечно, он – не Колин Фёрт, оправдывал надежды лохушек, грезящих по ночам? Мы знаем, что в жизни Колинов Фёртов нет, а тот, который есть, наверняка в жизни совсем иной, чем на экране. Но мы сопротивляемся, отказываемся представлять себе, как в жизни – что скорее всего – Колин Фёрт ходит с брюзгливым видом по квартире, глядя на пыльный Лондон, мается отсутствием вдохновения или мигренью, гнобит свою жену или не-жену, ворчит или храпит и никакой любви никому не дарит. Нам это не известно, и слава богу. Мы верим тому Фёрту, который на экране на наших глазах ныряет в пруд в белоснежной рубашке… Мы отказываемся верить, что нам подсовывают бузыкиных, которых мы принимаем за фёртов. Те единичные хеппи-энды в жизни подруг, которыми закончились их истории распахнутых объятий, только убеждают нас, что и бузыкиных можно превратить в фёртов. Для этого надо не так уж много: беречь и холить свою болезнь, любить и верить еще сильнее и безогляднее, чем в кино, и ждать несравненно дольше, чем два часа экранного времени. И мы ждем – кто год, кто три, кто полжизни, и если не приходит хеппи-энд, это лишь значит, что фильм, который мы поставили и смотрели все это время, был неправильный, и мы ставим и смотрим другой, если на это еще остались силы.
Наступает момент истины, и очередной «он» разбивает тебе сердце. Ты худеешь, не ешь, лежишь на полу, стараясь унять боль в солнечном сплетении. Лежишь и думаешь, что любовь – вовсе не благо и не счастье, а болезнь, лечить которую тебя не научили в детстве. Всему, черт побери, учили – и музыке, и иностранным языкам, и фигурному катанию, но почему наши матери и бабушки не учили нас тому, что «ни у кого нет и не было этого голливудского счастья, но все его исступленно ищут», как говорят героини моего романа? Прижать живот к полу, чтобы не дать сердцу трепыхаться, сотрясая тело волнами боли, – это, скажу я вам, первое дело в такой ситуации. И, упаси бог, ни в коем случае нельзя смотреть, как на белом лимузине «рыцарь» приезжает в трущобы спасать под музыку «Травиаты» свою «красотку», которую он из проститутки превратил в честную женщину и к которой теперь без обручального кольца не подступиться. С самого начала знаешь, что это сказка, но – черт побери – получилось же! Если бы это было полное фуфло, разве нас так пробирало бы?
Как бы то ни было, когда-то боль стихает, ты понимаешь, что сердце разбито, а дважды оно не разбивается. Понимаешь, что уже не пойдешь в шторм на причал, как «женщина французского лейтенанта», что не побежишь ни к кому с распахнутыми объятиями. Через какое-то время находится нужный «он», и вы рожаете детей, и вы счастливы, и только иногда по ночам щемит сердце, что так, как в кино, скорее всего, не будет никогда.
Для многих, кстати, на этом заканчивается их болезнь, их сердце шепчет, что кино – это понарошку или, по крайней мере, уж точно про жизнь других. Мое же разом повзрослевшее разбитое сердце лишь готово признать, что любовь – скорее всего, болезнь сама по себе. Но кино – это точно не понарошку. Неужели оттого, что мое сердце разбилось и я никуда не бегу с распахнутыми объятиями, я теперь откажусь проживать жизнь героев, чьи сердца постигла та же участь, что и мое? Разве их жизнь стала от этого менее похожей на мою, а моя жизнь – на их? Даже если в моей жизни любовь всего лишь разбила мне сердце, но не вынесла мозг, как героям «Горькой луны» Поланского – двум фигурально, а двум – чисто конкретно: два выстрела и мозги, разбрызганные по стене.
Снова беру с полки пронзительный фильм Damage о смертельной болезни-любви. К слову, наш кинопрокатный перевод «Ущерб» мне не нравится. «Травма», пожалуй, было бы точнее. Сострадаю женщине Анне, подранку, чья любовь способна порождать лишь страдания и дальше калечить ее жизнь и жизни всех остальных. Проживаю чувства юноши, которого убила любовь к Анне. Переживаю исступление его матери, не понимающей, как можно жить дальше, когда твоего сына, как ни крути, убил его собственный отец. И вопреки воле сострадаю – причем больше, чем остальным, – отцу, который и заварил всю эту кашу лишь потому, что не нашел сил сопротивляться болезни страсти. Как я их понимаю, как сопереживаю им, как жалею всех, кто в собственной жизни не познал, что это такое – всеохватная страсть, сопротивляться которой нет возможности! Удивительно, куда деваются нынче эти наркотические фильмы? На нынешнее кино хожу все реже и почти никогда не плачу. Не плачу на «Елене» Звягинцева, потому что не в состоянии проживать жизнь этих героев. Просто грустно, что они еще раз напомнили мне, как много людей не ведают, что такое любовь, и всю жизнь живут, сплевывая семечки с балкона.
Не тянет смотреть кино, возможно, очень хорошее, но никак не соотносящееся с тем миром, который я считаю своим. Зачем только меня усадили смотреть «Старикам тут не место» Коэнов? Вполне верю, что бандит-мексиканец – да разве он один! – за два лимона может легко убить десяток людей, но не понимаю, зачем косить-то всех подряд, включая жену героя, которая вообще тут ни при чем. Верю лишь тому, что он явный психопат. «Да ты не ставь себя на место героев, а насладись тем, как точно переданы их изломанные чувства», – призывают меня умники, научившиеся смотреть «другое кино» с той отстраненностью, которой оно и ждет от зрителя. Как можно оценить точность передачи изломанных чувств, если смотреть на них отстраненно, а себя считать нормальной? Я не умею. Когда герои – психопаты, меня охватывает депрессия, Когда они Фредди Крюгеры – ужас. Когда они просто не живые – скука.
Не хочу смотреть, как героиня ест землю и корчится от ненависти к себе, а герой два часа тоскует о чем-то непонятном, потому что его сломали, видимо, еще до рождения. Не могу сопереживать томной популяции «духless» или любви, которая включается «on» and «off». Чего ради этого в кино переться, вон, за окно выгляни, они все там тусуются.
Не получается сопереживать пустоте, чернухе, жести, неправде, все это кажется мне чудовищным. Понимаю, что нечто зеленое, чешуйчатое, выползающее из ванны душит героя понарошку, что вампир выгрызает печень тоже понарошку, но не могу… Не могу видеть «шреков», «аватаров» и «бэтменов».
А вокруг все больше людей, которым они нравятся. Видимо, теперь ушлые матери делают прививки в специальных тайных местах не избранным младенцам, а всем поголовно. А затем им вручают стрелялку, с которой можно играть в жизнь, пока батарейка в гаджете не разрядится. Они застрахованы от болезни сопереживания, любят «шреков», которые, возможно, похожи на героев их мира, где не только кино, но и жизнь – понарошку и в ней после смерти тебе дадут другую.
Ва-Банк, или Все хорошо, прекрасная маркиза…
«Он» – не герой, не супермен, он не слишком решительный человек и, может быть, даже не шибко быстро думающий. Он не стоял на танке у Белого дома и не создавал ту самую газету, перевернувшую умы россиян, хотя в те годы был у истоков новой российской журналистики. Но Он не считал себя оракулом, не стремился завоевать признание, его интересовало понимание и уважение лишь одного-единственного человека. Поэтому Он рассказывал загранице о России, любил французский шансон, а в остальном, Madame la Marquise, во всем остальном Он был ее муж, и это было главным в его жизни.
«Она» же, как многие женщины, которым брак не мешает пребывать в грезах об истинной любви, точнее – в уверенности, что она непременно придет, – жила с ним в гармонии покоя, радости ожидания, от которой просыпалась по утрам, и в предвкушении, что лучшее – впереди.
Супермен, стоявший в отличие от него на танке и выглядевший, как свидетельствуют фотографии, весьма эффектно, появился в ее жизни вроде бы и внезапно, вызвав, однако, ощущение, что иного не дано. Она вошла ночью на кухню, где звучал шансон, чтобы расставить все точки над «i» и разрушить мир дорогого ей человека, который, тем не менее, должен был понять, что это не Она, а судьба все решила за них. Она сказала, что уходит, и весь дальнейший разговор мгновенно стал бессмысленным, как всегда в таких случаях, и закончился его смиренным «ну что ж». Другой влепил бы пощечину, закричал бы «Бле-а-а-ать». Мог бы и выбить зубы Супермену, размолотить ветровое стекло его машины или сделать все вышеперечисленное, следуя лишь инстинктам, обостряющимся до предела в моменты ярости и отчаяния. Увы, тогда это был бы уже не Он, и Она, его жена, которую, вполне возможно, только с этой точки зрения можно было бы назвать тем самым словом «б…ть», такого исхода не опасалась. Главное – чтобы ночью Он не сунул голову в духовку или не вскрыл вены, чем омрачил бы ее неизбежное счастье с Суперменом.
- …Un incident, une btise,
- La mort de votre jument grise,
- Mais, part a, Madame la Marquise…
Как, в сущности, невелик, был его выбор, и что Он мог сказать, кроме «ну что ж»? Ну а в остальном – действительно, – прекрасная маркиза…
Всю ночь ему казалось, что где-то рядом бродит… медведь? Пожалуй, что именно медведь, он ходил на медведей на Камчатке… Нет, не с ружьем, конечно, с фотоаппаратом. Но рядом были товарищи со стволами, он слушал их рассказы, что медведь – если он жрет ягоды или просто стоит себе и смотрит куда-то периферийным зрением, у медведей суженным, – не опасен. Но если он приседает, вздымая верхние лапы, то через мгновение кинется. И тогда лишь крупнокалиберная пуля, и не одна, может его остановить… иначе все, останутся одни клочки. В ту ночь ему казалось, что вокруг их жизни ходит медведь, а может, зверь уже присел и вздыбился, и как только Она или Он откроют двери квартиры, он разорвет в клочки их жизнь. Вообще-то ощущение, что вокруг их жизни кто-то хищно бродит, стало для него уже привычным. Он смиренно, почти бестрепетно был готов к тому, что однажды Она прозреет, увидит, как обыкновенен Он, ее муж, что Он не герой и не супермен, и их жизнь разлетится вдребезги… Он никогда не забывал об этом…
- Так, ерунда, пустое дело,
- Кобыла ваша околела,
- А в остальном, прекрасная маркиза…
Да, Он всегда считал, что готов к этому, и когда это произойдет, Он не будет докучать ей всякой ерундой, однако Он никогда не думал, насколько ему будет страшно. Присевший и изготовившийся к нападению, уже ничего не соображающий зверь за стеной – а может, за окном – вызывал инстинктивный страх, то повергая его в оцепенение, то толкая к бегству, то подстрекая к нападению. Ему грезилось в воспаленной полудреме, что у него в руках кухонный нож или какая-то палка с острыми гвоздями, но в оцепенении бегство невозможно, а спасать Ее необходимо, как же иначе. Он ворочался, сбивая простыни в комок, и тискал горячую подушку. А Она спала, и, похоже, безмятежно.
Правда, наутро Он увидел, что и ей не сладко. Вряд ли ее пугал зверь, занесший когти над их жизнью, скорее она пыталась справиться с чувством вины… Или ей трудно было скрыть досаду оттого, что Он путается тут под ногами, мешая ей бежать навстречу счастью… Он не знал, отчего именно Она выглядит измученной, отчего у нее тусклые, несчастные глаза, но произнес: «Ты совершенно измучена, круги под глазами. Работаешь сутками, изводишь себя…»
Она лишь пожала плечами, и ему ничего не оставалось делать, как отправиться на работу. Он не знал, что делать, Он не готовился к нападению, Он вообще плохо соображал в тот день, а был лишь в ярости на себя, что он потеряет ее как раз тогда, когда обязан ее спасти. «Но вам судьба, как видно, из каприза еще сюрприз преподнесла…» – совсем не к месту и не ко времени вертелись у него в голове дурацкие слова старой песенки, еще больше лишая разума и обостряя инстинкты.
Он не знал толком, какая сила в конце концов повела его в высокий начальственный кабинет то ли к замминистра, то ли к секретарю объединенного парткома – теперь и не вспомнить тогдашней табели о рангах. Высокий кабинет принял его лишь потому, что никто и никогда не штурмовал этот кабинет с таким отчаянным напором, никто не рычал так под дверью и не колотил в нее, чуть ли не царапая когтями. Тем более Он, известный своей бесконфликтностью. Как всегда, Он говорил только правду:
– Мне срочно нужна путевка в Юрмалу, у меня больна жена.
– Вы стоите в плане этого года? Именно на лето?
Разумеется, Он не стоял ни в плане того года, ни уж тем более на лето. К битвам за летние путевки в роскошном по тем временам ведомственном доме отдыха в сосновом бору, в двух шагах от песчаного пляжа Дубулты на Рижском взморье допускался лишь ограниченный контингент журналистских тяжеловесов и партийная шушера. Но в тот день в конце июня Он не размышлял о правилах и нравах учреждения… Его ничто не могло смутить, и он требовал путевку немедленно, здесь и сейчас.
Кабинет наморщил лоб и осведомился у селектора, что можно сделать «в порядке исключения». Селектор, изможденный интригами вокруг Юрмалы и независимыми наблюдателями за распределением путевок, что-то невнятно пробормотал.
– Путевок нет, но я распоряжусь. Вас включат в план третьего квартала, зайдете в профком к концу августа.
– Моей жене нужна путевка сейчас, речь идет о ее душевном здоровье. Ей необходима немедленная смена обстановки.
Высокий кабинет снова воззвал к селектору и радостно повернулся к нему: приятно почувствовать себя немножко богом, когда вот так, ни с того ни с сего, иногда решаешь помочь простому смертному, попирая при этом устои:
– В порядке исключения… Нашлось место для вашей жены в первом корпусе в двухместном номере.
– Мне нужен отдельный номер на двоих, в новом корпусе и с окнами в лес. Необходимо, понимаете?
История умалчивает, просто ли лишился дара речи высокий кабнет от такой наглости или в голове у него мелькнула мысль, что, может, этот Он не так прост, как кажется, революция все ж, недавно вот интервью с Ельциным приволок, когда все остальные отлуп получили, – но кабинет буркнул: «Идите на рабочее место, с вами свяжутся».
– Нет, – ответил Он. – Я еду за билетами, а когда вернусь, буду ждать в вашей приемной.
История умалчивает и о том, размахивал ли Он в кассах Рижского вокзала журналистской ксивой, требуя купе в вагоне СВ, но вполне возможно, что все было именно так, хотя это шло бы вразрез с тем пониманием устройства Вселенной, в котором Он жил уже больше тридцати лет.
Известно, однако, как поражены были его сотрудники, когда он объявил им, что редактор-выпускающий может выпускать в эфир все, что душе угодно, а у него нет времени на глупости, потому что ночью он уезжает в Юрмалу на две недели. Известно и то, как не нашелся что сказать его главный редактор, заикнувшийся было, что по графику отпуск у него в ноябре… И тут же поперхнулся, ибо при новом понимании устройства Вселенной не было ничего удивительного в том, что Он послал главного к… матери.
Крайне удивилась и Она, когда, войдя в ее кабинет, Он сказал, что на сборы три часа, потому что завтра их ждут дюны, сосны и двадцать шесть километров песчаного пляжа.
Она смотрела в остолбенении, как Он вытаскивал из пепельницы горелые спички и ломал их на мелкие кусочки, а когда замолчал, то с озлоблением швырнул их на пол… Точно как герой рассказа Куприна «Куст сирени», небогатый офицер, слушатель военной академии Николай Евграфович Алмазов, когда он объяснял жене Верочке, что от усталости он посадил поганое зеленое пятно на чертеж инструментальной съемки местности, поставив тем самым крест на своей карьере. Увидев его насупившееся лицо со сдвинутыми бровями и нервно закушенной нижней губой, Она, подобно Верочке, в ту же минуту поняла, что произошло что-то гораздо более значимое, чем ночная кухонная разборка, и заговорила словами Алмазова, к которому Верочка сунулась было с утешениями.
– Ах, не говори глупостей. Неужели ты думаешь, я поеду… – Она твердила, что точки над «i» расставлены на кухне, и повторяла, как Алмазов: «Не делай, пожалуйста, глупостей».
– Нет, не глупости, – возразил Он, точно так же хрустнув пальцами, как Алмазов, и топнув ногой, совсем как Верочка. – Никто тебя не заставляет… Но у тебя издерганы нервы, тебе нужен покой, в конце концов, ты сама пилила меня все годы, что я не могу достать путевок в эту Юрмалу. Отдохнешь, а потом делай что хочешь.
На следующее утро всю дорогу в такси от Риги до Юрмалы Она плакала. От невозможности вынести две недели разлуки с Суперменом, от своего малодушия, позволившего поманить ее каким-то курортом и увезти против воли в момент, когда решалась судьба. Она плакала от злости на него – лучше бы расколотил машину Супермена или вскрыл вены, ничего, не помер бы, она уж как-нибудь усмирила бы его, зато смогла бы уйти с чувством собственной правоты – не жить же с психом… Она плакала от смутного ощущения, что ее собственное понимание устройства Вселенной пошатнулось и теперь она уж и не знает, как полагается уходить в таких случаях.
- Упавши мертвым у печи, он опрокинул две свечи,
- Попали свечи на ковер, и запылал он, как костер,
- Погода ветреной была, ваш замок выгорел дотла,
- Огонь усадьбу всю спалил, а с ней конюшню охватил,
- Конюшня запертой была, а в ней кобыла умерла,
- А в остальном, прекрасная маркиза…
В покосившемся мире, полном слез, упреков в его адрес, звонков с переговорного пункта Супермену, громоздивших между ними досаду и взаимную глухоту, Она прожила неделю. Не радовало ни солнце, ни запах хвои и моря, ни шедший по краю дюн подлесок, полный кустов черники, на которых уже завязывались жесткие крохотные ягодки. Не радовали ни новый корпус, отделанный с той прибалтийской тщательностью, которая превращала тогда Юрмалу в истинную заграницу для жителей Совковии, ни общение с легендарными зарубежными собкорами, единственными из смертных, обитавшими здесь по праву. Смятение девчонки, считавшей, что знает все, исполненной отваги шагнуть навстречу той самой, заветной любви и споткнувшейся о неведомое…
Зато всю вторую неделю Он и Она смеялись, бегали по мелководному ледяному морю, согревались в бесконечных кофейнях пахучим черным кофе, который умели варить только в Юрмале. Она изумлялась своему узнаванию его, по сути первому подлинному узнаванию человека, с которым прожила в любви почти десять лет, Она изумлялась ощущению, что сидит за столиком кафе с суперменом и что… все хорошо, прекрасная маркиза. Все то, что будило ее по утрам предвкушениями и радостью, сбывается… Вот тут, посреди подлеска, полного кустиков черники, посреди бесконечного серо-желтого пляжа, в аромате хвои и моря… Ведь все действительно хорошо!
По возвращении Она не отвечала на звонки того, другого, который приезжал под ее окна на не разбитой машине… Когда тот, другой потребовал расставить точки над «i», Она, правда, вышла в скверик у дома, чтобы поговорить. Но что тот, другой мог, в сущности, сказать ей? Разговор был бессмысленным, и Она с облегчением вздохнула, когда дверь лифта закрылась и Она поехала вверх, к нему, туда, где Он слушал французский шансон на кухне и одновременно жарил вырезку, пока жена вышла прогуляться в скверике у дома.
Уже не Он, а Она вспоминала «Куст сирени», не понимая, кто из них Верочка, а кто – Алмазов. Бесхитростный, в сущности, рассказ о женщине, заложившей драгоценности, чтобы среди ночи посадить куст сирени на том месте, которое было отмечено жирным зеленым пятном на судьбоносном чертеже мужа…
Пыльным городским вечером они шли по своему хрущобному микрорайону из магазина «Продукты», Он нес авоськи, а Она опять вспоминала Куприна: «Они шли домой так, как будто бы, кроме них, никого на улице не было: держась за руки и беспрестанно смеясь. Прохожие с недоумением останавливались, чтобы еще раз взглянуть на эту странную парочку…»
Лет через двадцать они почему-то поехали в гости на дачу к тому, другому. Тот давно женился на весьма достойной девушке, теперь уже совсем взрослой. Долгое застолье на четверых, водочка, малосольные огурчики, картошка с укропом и селедкой за шершавым столом из бревен, закат, пробивающийся сквозь сосны. Обсуждение предстоящих выборов в России, анекдоты из революционной юности, нещадные комары. Жена того, другого, уставшая от бесконечного, становившегося все более пьяным разговора, отправилась спать в два часа ночи, а троица переместилась в дом: мужчины, куря сигары, беседовали, глядя то в телевизор, то на нее… Она, то и дело затягиваясь сигаретой, выстукивала что-то чрезвычайно важное на лэптопе, но было видно, что она чувствует, как смотрят на нее мужчины… Хотя бы потому, что когда они смотрели на нее, то замолкали…
В наступившей паузе хозяин дома произнес, обращаясь к нему:
– Ты все-таки великий человек! Смотрю я на эту женщину и думаю: какое счастье для всех, что я тогда не женился на ней.
– Да. Это действительно счастье, – сказал Он серьезно и тут же усмехнулся: «Tout va tres bien, Madamе la Marquise…»
Цыпленок из «Хэрродса»
«На месте королевы отменила бы в Лондоне Рождество. Пять лет тут живу, но привыкнуть невозможно. В России Новый год – нормальный праздник, все сидят по домам, готовят, друг к другу в гости ходят, а тут – дурдом. В метро и магазинах – ни войти, ни выйти, по улицам не пройти. Мне-то, ясное дело, надо в Россию подарки везти, а этим-то что неймется? – Галя проталкивалась к выходу из метро на улицу. – Завтра стрижка, краска, маникюр, потом собраться. Значит, подарки надо все сегодня… А еще ужин готовить… Чего я на работе так долго сидела? Уже три часа, день, считай, прошел. Черт, я ж остановку проехала, мне теперь назад к “Хэрродсу” с километр на каблуках шкандыбарить».
Галя махнула рукой кэбу… Усевшись, принялась рыться в бездонной сумке в поисках кошелька, но тут где-то зазвонил телефон. В сумке его не было, на сиденье тоже. Где он звонит, дрянь такая? Ой, он, оказывается, в кармане был… Так, а перчатки тогда где? Ладно, перчатки где-то тут, никуда не денутся, сейчас эту стерву на телефоне надо погасить…
– Galina, – задребезжал в телефоне голос секретаря их отдела. Англичанка, стерва редкостная. – Я правильно вас поняла, что завтра на работу вы не собираетесь? А послезавтра едете в отпуск? А где заявление на отпуск? Я вам о нем всю неделю говорила.
– Сами за меня написать не можете, что ли?
– Как? И подписать за вас тоже?
– Ну… А даже если подписать, что, трудно разве?.. Ладно, завтра заеду, сейчас не могу говорить. – Кэб уже остановился у «Хэрродса». Сунув таксисту деньги, Галя ринулась ко входу, но тут же метнулась назад:
– Погодите, телефон забыла! А на сиденье его нет, где же он? Вы не брали? Ой, а он в сумке… странно… Зато перчатки вот, на полу, так я и знала!
Она ступила на эскалатор, едущий вниз. «Сыну – джинсы, сестре – видно будет, мужу – скажем, одеколон. Еще этим двум…»
– Джонатан, это я. Что тебе подарить?
– Галя, милая, твой подарок – это сегодняшний рождественский ужин.
– Ужин – само собой. Но подарок есть подарок. Не знаю, как у вас, а у нас в России просто невозможно на Рождество не сделать подарок близкому человеку…
– У вас в России делают подарки на Рождество? Никогда бы не подумал… Мне ничего не нужно, Галя!
– Ну, Джо-о-натан…
– Раз ты так настаиваешь… Любую мелочь, только не перчатки.
– Поняла. Все, пока, – Галя уже подошла к прилавку с джинсами.
– Мне для сына, двадцати лет. Самые модные, какие молодежь носит. Он в Канаде живет, представляете? Там фасоны – просто жуть, «Праду» от «Дизеля» не отличить. Мне размер «тридцать два». Вот эти, черные, «Прада»? Какие вставочки кожаные прикольные… Только они велики будут. А это правда «тридцать два»? Большие какие-то…
– Напротив, они очень узкие. Может, вам размер «тридцать»?
– Что, я размера своего сына не знаю? Дайте «тридцать один».
– У «Прады» нет размера «тридцать один».
– Ну, вы представляете? А у кого есть?
– Только у «Баленсиаги», – сказал продавец, выкладывая на прилавок узкие джинсы серого цвета.
– Ой, какая бахрома! – воскликнула Галя. – Прям обе пары хочется взять, представляете? Я так и сделаю, пожалуй. А ту, что не подойдет, я могу сдать через месяц?
– Конечно. Возврат покупок в Рождество продлен как раз до месяца.
– То есть до пятнадцатого января? – спохватилась Галя. – А я в Лондон вернусь только семнадцатого, мне после Канады еще в Россию надо съездить, представляете? Можете мне продлить срок обмена? Всего на три денечка.
– У вас вип-карточка, попробуйте договориться в клиентской службе.
– Я сбегаю туда, а вы джинсы отложите, – бросила Галя уже на ходу.
– Вы пальто забыли! – крикнул ей вдогонку продавец.
– Сейчас вернусь, пальто тоже отложите…
Менеджер клиентской службы был приветлив. «Две пары джинсов – четыреста шестьдесят фунтов. Это, вероятно, не все подарки? Если вы потратите восемьсот на все подарки, я продлю вам возврат до двадцатого января».
– Восемьсот – это запросто, спасибо, – Галя вспорхнула со стула.
– Беру обе пары, представляете? – заявила она продавцу. – Только быстрей, мне в аксессуары надо бежать.
– Первый этаж, мэм. Спасибо за покупку.
На первом этаже Галя прокладывала себе путь через толпу. «Чудные кашемировые свитера, – подумала она, бросив взгляд направо, – надо купить. Кому, там решим, в крайнем случае себе оставлю». На примерку свитеров ушел час. Галя смотрела, как продавцы заворачивают ей два свитера, один – просторный с вырезом, другой – облегающий с кнопочками на рукавах.
– Подождите, мне еще блузочки племяннице и девушке сына надо…
Выбор блузочек затянулся, все были слишком маленькими. «По улицам ходят люди нормальных размеров, а в магазинах – будто на ужей шьют». Наконец, уже с тремя пакетами, Галя добралась до аксессуаров.
– Одеколон «Крид», шарф кашемировый, портмоне и еще… Что же еще? Ах да, перчатки! Черные, размер «девять с половиной».
– А портмоне какое? – спросил продавец, выгружая на прилавок кучу всего.
– Шарф вот этот. Эти перчатки. Ну и портмоне у вас, я вам скажу… Кошмар какой-то, а не портмоне… Разве такие можно носить, как вы себе это представляете? – Галя схватила третий пакет и двинулась к продовольственному отделу, раз уж обещала Джонатану ужин. Продавец окликнул ее:
– Мэм, вы забыли пальто!
– Опять? – Галя вскинула свою бездонную сумку на плечо, перебросив через нее пальто, и стала пробираться по указателям Food Hall. Там она надолго задумалась перед полкой с вареньем: сын так любил, когда мама привозила ему английский оrange marmelade. Выбрав мармелад и побросав в корзину салат, картошку, яблоки, Галя увидела, что в мясном отделе очередь, а на часах уже шесть. На прилавке лежал цыпленок в упаковке. Сойдет и цыпленок, главное же – своими руками приготовить. А если его еще мармеладом обмазать… м-м-м… Джонатан язык проглотит.
Поиск кассы привел ее обратно в отдел мармелада. Теперь Галя искала в сумке телефон, чтобы сообщить Джонатану, что опаздывает.
– Цыпленка надо оплачивать в мясном отделе, – сказала кассир.
– Да? – Галя стала искать свою черную скидочную карточку «Хэрродс». – Ой, я карточку в клиентской службе забыла. Отложите это все, я быстро…
– Хорошо, только цыпленка заберите.
Галя сгребла пакеты, пальто, цыпленка и сообразила, что эскалатор вниз рядом, а до мясного отдела надо бежать через два зала. Значит, сначала карточку, а потом цыпленка…
– Карточку забыли? – спросил менеджер.
– Спасибо! – крикнула Галя уже на бегу к эскалатору, но тот почему-то привез ее не в продовольственный отдел, а прямиком к прилавку «Луи Виттон». «Так мне же еще портмоне надо купить, чуть не забыла!»
Выбор портмоне требовал обеих рук. Галя сунула в один из пакетов и пальто, и цыпленка, плюхнула пакет на пол, бросив поверх него пальто.
– Ни один мужчина не стоит таких денег, – объявила она продавцу. – Не надо портмоне, покажите кошельки для ключей. Только покрепче, у него ключей больно много.
Продавец паковал кошелек в коробочку, а Галя переминалась с ноги на ногу в нетерпении. Схватив все пакеты, побежала назад в отдел мармелада, получила там еще пакет с едой, отерла пот со лба и двинулась к выходу. Ну и день, как только люди выживают в Рождество в этом Лондоне. Она на работе и то меньше устает.
У двери кто-то тронул ее за плечо. Обернувшись, она увидела женщину средних лет в джинсах и свитере.
– Мэм, служба безопасности. Прошу пройти со мной.
– Что случилось? – спросила Галя, оторопев, а женщина уже вела ее через магазин, снова вниз по эскалатору, по служебному коридору. Они вошли в пустую комнату, где стоял обшарпанный стол и стулья вдоль стены.
– Вы все покупки оплатили?
– Конечно.
– Попрошу пакеты, – минуя шарфы, джинсы, блузки, свитера и кошелек для ключей, женщина уверенно выудила из пакетов цыпленка.
– Я сейчас найду чек, – пролепетала Галя, холодея от мысли, что цыпленка-то она забыла оплатить.
– Не трудитесь, его у вас нет. Мы ведем видеонаблюдение с тех пор, как вы спрятали цыпленка среди покупок, прикрыв его пальто.
В комнату вошла вторая женщина, а вслед за ней мужчина, по виду менеджер.
– Нелепость полная, – кинулась к нему Галя. – Она что, с ума сошла? Вы посмотрите, какой шопинг! Джинсы – почти пятьсот, свитера и блузки – еще триста, кошелек, шарф, – она выкладывала на стол чеки. – Такой стресс, эти карточки, обмены, очереди. Я больше тысячи фунтов у вас в магазине потратила, зачем мне цыпленка за три фунта красть, сами подумайте? Как вы сами-то себе это представляете?
Менеджер и первая женщина удалились, а вторая осталась охранять Галю. «Теперь точно опоздала к Джонатану», – обреченно подумала Галя, но тут вернулась первая женщина:
– Менеджер решил передать вопрос полиции.
– Какой полиции, вы что? Зовите его обратно, он, наверное, меня не понял…
– Вы совершили кражу. Менеджер посмотрел запись, как вы бегали по магазину, пряча цыпленка. Полиция будет в течение часа.
– Я не могу ждать час! – На это женщина, не сказав ни слова, вышла. Галя стала рыться в сумке в поисках телефона, чтобы позвонить Джонатану.
– Телефоном пользоваться нельзя, – произнесла та, что ее охраняла.
Галя откинулась на спинку стула, ее била дрожь. Полная задница… Снова нырнула в свою бездонную сумку. Где-то на дне должна быть пластинка феназепама, только где…
Она выкладывала из сумки книгу, зонтик, файлы с бумагами, косметичку, кошелек, очечник с темными очками, второй – с очками для вождения, туфли: «Черт, на одной набойки нет… Ой, а на дне, оказывается, сигареты поломанные… Когда это они просыпались?» На дне сумки нашлась облепленная крошками табака пластинка с таблетками.
– Прием медикаментов запрещен, – женщина вцепилась ей в руку. – Что это?
– Это… Мой транквилизатор…
– Откуда это? На каком языке тут написано?
– На русском, – тихо ответила Галя, понимая, что дело может обернуться и ввозом наркотиков в Англию, но тут в комнату вошли два полисмена. Галя подняла на них глаза, в которых еще не угасла надежда.
– Они тут с ума сошли… – она пересказала свою историю. – Вы представляете? Пусть подавятся своим цыпленком. Мы можем и в ресторан сходить, раз уж я все равно опоздала…
– Мэм, вы отрицаете кражу?
– Конечно.
– Значит, ваши показания расходятся с показаниями службы безопасности. Придется ехать в полицию, заводить дело. Только суд сможет решить, кто прав: вы или магазин «Хэрродс».
– А это долго?
– Что именно?
– Ну, в полицию?
– Пока отпечатки пальцев снимут, показания возьмут, может и до ночи затянуться, – почему-то заржали полисмены. – Но если вы признаете кражу, тогда просто штраф, и вы свободны.
– Признаю, – обреченно сказала Галя, – только побыстрее, я опаздываю.
– Вот квитанция. Сорок фунтов, поскольку это первый случай воровства…
– Как вы можете так говорить! Это не воровство!
– Я не понял, мэм, вы признаете, что совершили кражу, или нет?
– Признаю, – второй раз обреченно вздохнула Галя.
Полицейские переглянулись, тот, что постарше, протянул Гале квитанцию.






