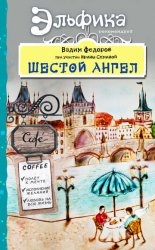Любовь надо заслужить Биньярди Дарья
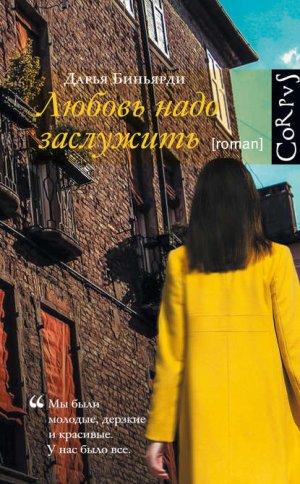
— Давно хочу тебя спросить, что ты делаешь в Ферраре?
Я действительно давно задаю себе этот вопрос, что делает здесь, в Ферраре, такой человек, как он.
— Обычное дело: полицейских с юга отправляют поработать на север. И Россане здешняя больница понравилась, но мы не останемся тут навсегда.
— А куда бы ты хотел поехать?
— Не знаю. Не важно. Преступники есть везде.
— И много таких полицейских, как ты?
— Таких красивых, как я? — в его глазах загорается насмешливый огонек.
— Таких умных, как ты. Я, к примеру, еще не встречала.
— Если ты читаешь книжки, это еще не значит, что ты умный. Вообще–то, нет, немного. Лео читает?
— Детективы. Мемуары. Специальную литературу. Романы — никогда. Он говорит, что жизнь интереснее.
— Нет в людях совершенства! — улыбается Луиджи. Подносит руку к моему лицу, как будто хочет погладить, но останавливается и медленно опускает руку в карман.
— Мне надо закончить одно дело, — говорю я. — Отвезешь меня в гостиницу?
— Может, выпьешь кофе?
— Судя по заведению, он будет ужасным.
— Да, ужасным, но надо выпить, не то Отелло обидится.
— Это твой друг?
— Он помогает нам вытаскивать трупы, которые течением прибивает к плотине. Может, что–то поешь?
— Нет, спасибо, лучше не буду.
Ловец трупов приносит кофе, Луиджи кладет в мою чашку две ложечки сахара и размешивает, улыбаясь и глядя мне прямо в глаза.
— Пей, — подвигает ко мне чашку.
Кофе — вполне, совсем не противный.
Я смотрю на Луиджи.
Он смотрит на меня.
Ничего говорить не нужно.
Я убрала компьютер в рюкзак и попрощалась с каждым жильцом гостиной Бонапарта. Теперь я поняла, что это не только Наполеон и Жозефина, но как минимум еще два персонажа. Было бы здорово познакомить с ними Лео! В моем кармане лежат ключи от дома на виа Виньятальята, но сейчас я туда не пойду. Сейчас главная задача — убедить Микелу сказать мне правду.
Жду в холле гостиницы. Мой план — заставить Микелу поверить, что Альма при смерти: возможно, она читала в газетах, а если нет — я покажу. Если она скрывает что–то, касающееся Майо, настал момент рассказать мне все.
Не люблю врать, но такой уж сегодня день. И потом, это не ложь, я просто сыграю роль Эммы Альберичи, инспектора полиции, детектива — свое «альтер эго». А может, наоборот, ее двойник — это я, со всеми человеческими слабостями и недостатками. Конечно, она справилась бы с задачей лучше меня, но сегодня мой день. Времени осталось совсем мало, нужно закончить начатое дело.
Микела входит в вестибюль гостиницы ровно в три, в руке у нее ключ.
— Хочешь пристегнуть велосипед во дворе? — спрашиваю я.
— Молодец, — отвечает она, целуя меня в щеку. Впервые за все наше знакомство. Сегодня на ней зеленая «аляска», подбитая светлым искусственным мехом, наверное, такие куртки они с Альмой носили в школе, я заметила, что мода на них возвращается. Со спины она кажется совсем девчонкой.
Дождь прекратился.
— Хочешь посмотреть гробницу Лукреции Борджиа? — предлагает Микела.
Нет, не хочу, я хочу только поговорить с Микелой. Но соглашаюсь.
Мы идем по проспекту Джовекка в противоположную от замка сторону, потом Микела сворачивает на какую–то незнакомую мне улицу.
Вид у Микелы усталый.
— Это в монастыре Корпус Домини, где сейчас монахини, сестры Клариссы. Увидишь, какое красивое место.
У меня нет никакого желания идти в монастырь Кларисс, я хочу поговорить, сейчас же, немедленно. Проходим мимо ворот какого–то парка, обнесенного высокой стеной из красного кирпича.
— А это что? — спрашиваю у Микелы.
— Парк Парески, зайдем?
— Да.
Мокрые скамейки, маленький, очаровательный парк. Деревья такие высокие, что им, наверное, не одна сотня лет.
Большие магнолии с плотными глянцевыми листьями, конские каштаны, дубы, вязы, лиственницы, елки: каких только деревьев здесь нет! Напротив качелей под черепичным навесом стоит скамейка, сухая.
— Посидим здесь немного? — спрашиваю у Микелы.
— Конечно, — отвечает она, окинув взглядом мой живот.
Помолчав немного, будто бы не зная, с чего начать, Микела говорит:
— Я читала про Альму, мне очень жаль…
Я молчу.
— Как она? — спрашивает Микела.
Она стоит прямо передо мной, руки убрала в карманы. И больше не улыбается.
В парке тишина. Мокрые качели, и никого, кроме нас двоих. Интересно, почему у этого парка такое высокое каменное ограждение? Микела шевелит носком сапога опавшие листья.
— Очень плохо, — лгу я. — Нам сказали, сердце может не выдержать.
Не думала, что это так просто. Как заученная роль. Чувствую, что волнуюсь, словно все, что я сейчас сказала, — правда. Голос мой дрожит.
Микела наклоняется ко мне, покачиваясь на каблуках, берет мои руки в свои.
— Мне так жаль! — Ее маленькие ручки просто ледяные. Я смотрю ей прямо в глаза.
— Ты поняла, почему я сегодня приехала? — продолжаю я. — Майо жив, я знаю. Скажи, где он, как я могу с ним связаться? Завтра может быть поздно.
Она медленно распрямляется, опираясь ладонями о колени. Вздыхает. Опускает голову. Удивительно, как просто лгать, если это ложь во спасение.
Микела садится на скамейку рядом со мной, шарит в сумочке, достает табак и бумагу, привычным движением сворачивает сигарету. Закуривает. Выпускает дым в сторону. И, глядя куда–то в мою переносицу невидящим взглядом, произносит:
— Он умер десять лет назад.
— А знаешь, почему на этой улице нет никаких ворот, кроме монастырских? — шепчет Микела.
Мы сидим рядышком на последней скамье в маленькой церкви.
После того как Микела призналась, что Майо умер всего десять лет назад, снова пошел сильный дождь. Пришлось убегать из парка. Она потащила меня за собой по небольшой, вымощенной булыжником улочке, вдоль которой тянулась стена из красного кирпича, по всему видно — очень старого. Мы влетели в какую–то дверь и оказались в церкви. Значит, вот почему эта улица показалась мне странной: на ней нет ни ворот, ни домов, лишь высоченная стена.
Микела тихо рассказывает:
— На этой улице в Средневековье проходили дуэли. И тогда Катерина де Вигри, Святая Екатерина Болонская, которая жила в этом монастыре, придумала сделать здесь дверь, чтобы люди прекратили убивать друг друга. Перед церковной дверью они постыдятся. Тут рядом хоры Кларисс и могила Лукреции Борджиа.
— Микела, прошу тебя, мне нужно вернуться в Болонью, к Альме. Расскажи мне все. Как вышло, что он умер лишь десять лет назад? А раньше? Ты его видела? Куда он подевался? — не отступаю я.
— Однажды вечером он позвонил. Я была дома одна, смотрела телевизор. Родители работали в баре и обычно возвращались не раньше полуночи. Прошел год, как он исчез. Было плохо слышно, но я сразу узнала его голос: он сказал, не пугайся, я жив, живу в Мадриде.
Бледность Микелы приобрела пепельный оттенок. Она говорит очень тихо, монотонно, уставившись на алтарь, не глядя в мою сторону, и я непроизвольно отвечаю ей так же. Со стороны может показаться, что мы молимся.
— А ты что ему сказала?
— Сначала хотела бросить трубку, мне стало страшно, словно на том конце провода — призрак. Я была уверена, что он умер. Но в этот момент он сказал: «Я не призрак, Мики, это действительно я». Я заплакала. Мы говорили недолго, он звонил от кого–то, не знаю, от кого. Спросил о своих, пришлось сказать, что родители умерли, а Альма уехала из города. Это его как будто не удивило. Умолял меня не говорить никому о том, что он жив, обещал позвонить на следующий день. И позвонил. На этот раз было слышно лучше, сказал, что собирался мне написать и все объяснить, и что позвонит еще. Для него было очень важно, чтоб я не рассказывала никому, что он жив, потому что ни при каких обстоятельствах он не собирается возвращаться. Вернуться — означало снова сесть на иглу. Сказал, что доверяет только мне.
— И ты так никому ничего и не рассказала за все эти годы? — шепчу я.
— Никому… но Изабелла, кажется, поняла. Может, случайно прочитала одно из писем. Она никогда ни о чем не спрашивала, лишь однажды намекнула, но я сделала вид, что не понимаю, о чем речь. Я умею хранить секреты. По крайней мере, думаю, что умею.
Микела смотрит на меня с беспокойством, словно боится. Чувствую, ей нелегко было нарушить свой уговор с Майо.
— Как ты могла ничего не сказать Альме? Это его сестра, она осталась совсем одна.
— Майо просил меня не говорить.
— Вы встречались?
— Один раз, в Мадриде. Мы переписывались.
— И как он жил?
— Хорошо. Работал с одним испанским техником по спецэффектам, который потом перебрался в Голливуд, иногда ездил к нему в Лос — Анджелес. В последние годы у него появилась подружка, Флор, она жила в Фуэртевентура, и он часто бывал у нее. Флор и сообщила мне, что он умер.
— А как же Альма? Ему было неинтересно, как она живет? И как он исчез? — Я непроизвольно повысила голос.
— Мы об этом почти не говорили, — отвечает Микела шепотом, повернувшись ко мне и делая знак говорить тише.
— Не говорили?! Разве вы не дружили все втроем? Ему была не интересна сестра? А тебе? — продолжаю я свое.
— Антония, Майо был не такой, как все. Он был… другой. — Микела, кажется, теряет терпение. — Он был свободен. И говори тише, а то придет монахиня. Скажем тогда, что хотим посмотреть могилу Лукреции Борджиа.
— Я не могу, Микела, мне нужно в Болонью, к Альме. Я хочу узнать только, как он умер и как ему удалось исчезнуть.
— Умер от инфаркта, мне сказала Флор спустя несколько месяцев, никто не знал, что у него больное сердце.
— Ты уверена, что это правда? А если это очередная ложь?
— У него не было причин снова инсценировать свою смерть, через двадцать лет после «воскрешения». Он знал, я его никогда не предавала.
— Как ему удалось исчезнуть той ночью?
— Он написал мне письмо. Если хочешь, я дам тебе почитать, оно сохранилось.
— Когда? Мне нужно бежать к Альме.
— Вернусь домой, сканирую и отправлю тебе по электронной почте. Это все, что я могу сделать, Антония!
Я встаю, смотрю ей в лицо, она не отводит глаз, выдержав мой взгляд.
— Отправь сразу же, как сможешь, — говорю я, сжимая ее плечо. Чувствую ее торчащие тонкие кости. Воробьиные косточки.
Надо спешить домой. Альма скоро проснется. Как рассказать ей про Майо?
Дождь перестал, но на улице по–прежнему пустынно и тихо.
Я размышляю о кавалерах, которые сражались у этих стен на дуэлях семьсот лет назад. О Святой Екатерине, решившей прорубить дверь в задней стене церкви. О Майо, который звонит из Мадрида и узнает, что у него больше нет семьи.
Нельзя устраивать дуэль перед церковными воротами. Нельзя бросать сестру, оставшуюся сиротой.
Если я потороплюсь, успею на пятичасовой поезд.
Я сижу уже больше часа в коридоре с ореховыми стенами, ожидая, когда там, за стеклянной дверью, проснется мама.
Десять раз проверила почту в телефоне, но Микела пока не прислала ничего. Перечитала последнее письмо, адресованное Лео, в котором я рассказывала ему о нашем разговоре с Лией Кантони. Размышляю, как меня сбила с толку фраза об ошибках, за которые приходится платить — я полагала, что это намек на бабушкину измену, а потом Лия объяснила, что бабушка ни при чем, что она имела в виду крещение Джакомо. Тогда я не поняла, что вся эта история имеет ко мне самое прямое отношение.
Я до конца не верю в разгадку тайны Майо. А вдруг это очередная ложь? Может, он еще жив? Может, он решил разыграть очередное свое исчезновение, не будучи до конца уверенным, что Микела — единственный его свидетель — его не предаст? Все–таки история дедушки и бабушки оставила заметный след в жизни маминой семьи. Мне нужно поговорить с Лией. Сейчас время ужина, но я знаю, что еда для Лии далеко не главное, поэтому можно звонить смело. Лия отвечает после первого гудка.
В трубке слышна фортепьянная музыка, не могу понять, что именно. Голос Лии по телефону кажется моложе. Она уже в курсе событий.
— Антония? Спасибо, что позвонила. Как Альма? Я прочитала в газете, что ее сбили, — говорит она со своим неповторимым феррарским акцентом.
— Ей сделали операцию, все прошло хорошо, я в больнице, жду, когда она придет в себя после наркоза.
Я вышла из коридора на аварийную лестницу, чтобы никому не мешать. Из сада доносится запах мокрых сосен. В Болонье тоже весь день идет дождь, но тумана нет. В воздухе разлито приближение весны. Молодой медбрат в красном пуховике, накинутом поверх белого халата, курит, прислонившись спиной к перилам. На голове у него беспроводные наушники, он приветственно машет мне рукой и продолжает курить и слушать музыку, покачивая в такт головой.
— Ну, хорошо. Я беспокоилась и за нее, и за тебя, — говорит Лия.
— За меня? — удивляюсь я.
— Беременным нельзя волноваться.
Значит, она заметила, но почему–то ничего не сказала.
— Ты думала, я не заметила? — усмехается Лия. — Заметила, просто не стала комментировать, ты бы подумала, что я — одна из тех дотошных старух, которые повсюду суют свой нос…
«Про вас можно подумать все что угодно, только не это, скорее, наоборот… ” — хочется мне ответить.
С тех пор, как Альма в больнице, я стала все больше походить на мою Эмму Альберичи. Эмма — прямолинейная, конкретная. Она ничего не боится, не болтает о проблемах, а старается их решить. Я всегда мечтала быть такой, как она.
— Интересно, какой антоним к слову «любопытный»? — спрашивает Лия, и я не пойму, шутит ли она или говорит серьезно.
— Может быть, безразличный? Я хотела вам сказать, кажется, я поняла, что вы имели в виду, когда говорили об ошибках, за которые надо платить. Думаете, мой дед покончил с собой из–за… лучше вы мне ответьте.
Лия откашливается, шепчет Мине «нельзя!», хоть лая и не слышно.
— Я и сама до конца не понимала, пока ты не спросила. Я всегда была уверена, что Джакомо сделал неправильный выбор, но никогда не задумывалась, что он первый и заплатил за все. Все выжившие в нацистских лагерях чувствовали себя виноватыми, а каково было ему, ведь он не попал туда лишь по чистой случайности… Думаю, он очень страдал и хотел защитить своих детей от этой трагедии. Мы все судили о нем… слишком поверхностно, — говорит Лия.
Поразительно! Сколько лет этой женщине? Почти девяносто? А она так рассуждает. Я совершенно изменила свое мнение о ней.
— Никто из нас не спрашивал себя, почему твой дедушка всегда в депрессии. Но если внимательно посмотреть на то, что с ним произошло, понять было несложно. Он так и не смог изжить эту травму, хоть и женился, завел семью… — продолжает она. И добавляет: — Многие выжившие покончили с собой, вспомни Примо Леви. Настоящие ветераны — не те, кто остался в живых, а их дети. Выжившие, они… как живые мертвецы. Мы все знаем это, пусть и не признаем. Джакомо был не просто оставшимся в живых, он всю жизнь балансировал на краю пропасти и, когда Майо пропал, сорвался.
Слова Лии — как подтверждение моим догадкам: никто, очевидно, кроме жены, не понимал, какой ужас творился у Джакомо в душе.
Слушая Лию, замечаю, что медбрат в красном пуховике снял наушники и посматривает на меня, словно ждет окончания разговора.
Я смотрю на него вопросительно, знаками он показывает: «Мне нужно с вами поговорить, не торопитесь, я подожду», потом отворачивается и тушит сигарету о край перил. Вижу, что бычок он заворачивает в бумажную салфетку и кладет в карман.
— Я хотела бы приехать к вам после… а может, и до, вместе с Альмой! — завершаю я разговор с Лией. Почему–то не могу сказать, «после рождения ребенка», не знаю почему.
— Я буду рада, — оживляется Лия. — Передавай маме от меня привет, скажи… Нет, ничего. Передай привет, и все. Пока, Антония! Спасибо, что позвонила.
Слышу, как залаяла Мина.
— Спасибо вам, Лия.
Медбрат понял, что мой разговор закончен, оборачивается. Молодой, черные кудрявые волосы, четко очерченные нос и подбородок.
— Вы — дочь профессорши? — улыбаясь, спрашивает он, акцент выдает в нем южанина.
— Да, я дочь той женщины, которую вчера сбили.
— Я так и думал. В общем, хотел сказать, что цветы мы отнесли Мадонне в большую часовню, но все остальные подарки у нас в дежурке, — сообщает он мне радостно, как приятную новость. И, очевидно, прочитав на моем лице недоумение, поясняет: — Сегодня утром к вашей маме приходили студенты. Мы сказали, к ней пока нельзя, и они все это просили ей передать, жаль, цветы завянут, но там еще лимон в горшке, ему жара только на пользу.
— А, спасибо! Я не поняла… спасибо.
— Не за что! — И он охотно продолжает: — Никогда не видел столько гостей у пациента в реанимации. Видно, что они любят вашу маму Там еще плюшевый слон, девушка сказала, что это слониха, как она.
— Кто? Моя мама?
— Ну, девушка, которая его принесла, так сказала — слониха, но по–доброму. Как же ее звали… вроде Карлотта или Камилла. Как вы, такая! — Лицо его озаряется. — Тоже ждет ребенка. И еще они принесли миндальных конфет, целую корзинку, я не понял, то ли была уже свадьба, то ли будет. Мы вам оставили.
— Спасибо, пусть они лучше будут у вас.
— Ну, хоть одну–то попробуйте! Желтые конфеты… первый раз вижу желтые конфеты… Приходите, до конца коридора и налево, вместе с дедушкой приходите…
Дедушка… то есть мой папа, как раз в этот момент приоткрыл дверь на аварийную лестницу:
— Альма приходит в себя.
Альма
Мы знали, что наш отец — человек слабый, но в его любви никогда не сомневались, до того самого вечера.
Мы только вернулись домой, сели ужинать: мама приготовила каппеллетти в бульоне, который Майо шумно всасывал с ложки. Конечно, это некрасиво, и Майо просто валял дурака. Обычно это забавляло отца, но на этот раз он был, казалось, ко всему равнодушен.
Мама тоже молчала, может, просто устала, а может, для нашего восприятия, обостренного марихуаной, обычная тишина стала чем–то непривычным, невыносимым.
Думаю, Майо заговорил лишь для того, чтобы нарушить эту тишину.
— Мы с Микелой были сегодня на кладбище на виа делле Винье, классное место, почему вы нас никогда туда не водили? — начал он, посмотрев на маму так, словно искал похвалы.
Мама, вместо того чтобы улыбнуться и мягко подшутить над ним, как она обычно делала, когда Майо чем–то хвастался, с тревогой поглядела на отца. Тот резко поднял голову над тарелкой, уронив ложку в бульон и забрызгав белую скатерть, вышитую желтыми цветочками.
— Что вы там делали? — прошипел он.
Мы переглянулись — первой нашей мыслью было: кто–то увидел, как мы курили на кладбище, и все рассказал отцу.
Действие марихуаны еще не прошло, сердце билось, будто в ожидании чего–то ужасного.
— Что, нельзя просто сходить на еврейское кладбище? — ответил Майо удивленно и несколько обиженно и посмотрел на маму.
Отец отодвинул тарелку и сидел как оглушенный: его взгляд блуждал где–то далеко, и было что–то непонятное в этом взгляде. Несомненно, кто–то засек нас и донес родителям. Я поняла, что Майо решил выкручиваться и перейти в наступление.
— Что в этом плохого? — повторил он с обидой в голосе. — Или, может, у нас семья тайных антисемитов, а мы об этом не знали?
— Разве я сказал, что плохо? — закричал отец, отодвигая стул назад, и вскочил из–за стола с такой яростью, что мы испугались.
Все случилось так стремительно, мама тоже встала и, положив руку ему на плечо, повторяла: «Джакомо, ну, не надо… а он кричал все сильнее, стуча кулаком по столу так, что подпрыгивали тарелки со стаканами: «Разве я сказал, что плохо? А? А? Я сказал, что плохо?»
Это было невыносимо. Майо сидел растерянный, испуганный. Я понимала, у него в голове, как и у меня, проносятся все возможные варианты: родители узнали о наших плантациях на По, нашли запасы травы на чердаке, им сообщили, что видели нас на кладбище… и все же реакция отца казалась нам чрезмерной. Конечно, мы бы ни в чем не признались, ни за что на свете. Но мы не заслуживали такого отношения, отец просто сошел с ума. Мы оба так думали, только я сказала об этом вслух. Я тоже вскочила на ноги, держась за край стола, злые слезы текли по моему лицу.
— Папа, ты с ума сошел?! — крикнула я.
Тогда Майо поднял голову и тихо, с вызовом сказал: «Тоже мне новость… ”
Внезапно отец поднял руку и ударил Майо по лицу. Эта пощечина оглушила нас. Мама метнулась вперед всем телом, закрыв собой Майо, и, умоляюще сложив руки, смотрела на отца. Тогда он схватил супницу, нашу прекрасную старую овальную супницу из белого фарфора с золотым потертым ободком, и швырнул ее об пол. Супница разлетелась на четыре части, горячий бульон растекся по плитке, подбираясь к ковру. Я смотрела, как бульон затекает в швы между плиткой — каппеллетти на полу были похожи на улиток, на разбитую крышку, на потрясенную маму, на красные следы от пальцев на лице Майо. Как такое могло случиться? В нашей семье никогда не было жестокости, не могла же она проявиться вот так, внезапно? Если это случилось, значит, мы виноваты.
На мгновение все замерло как в стоп–кадре: мама в обнимку с Майо, отец со сжатыми кулаками и я, уставившаяся в пол.
Дальше помню оживление и растерянность. Отец сделал два шага к Майо, сказал сдавленно: «Прости меня» — и убежал наверх. Мама гладила Майо по голове, как ребенка, а я пошла за ведром и тряпкой, чтобы убрать осколки и вытереть пол.
О том, что произошло, мы больше не говорили.
На следующее утро, когда мы проснулись, чтобы пойти в школу, вся эта история уже казалась нам не столь трагичной и сильно преувеличенной, потому что накануне мы обкурились. Но осталось ощущение, которое слабело по мере того, как все забывалось, будто мы сделали что–то ужасное и тем самым вызвали такую несправедливую и болезненную реакцию.
В тот вечер отец не пришел ужинать, мама сказала, что он остался в поместье по хозяйственным делам. На ужин мама приготовила пиццу и за столом как–то слишком внимательно смотрела на нас.
Отец появился на следующий день и был с нами ласковее, чем обычно. Он привез из деревни полевые цветы, виноград, яблоки, свежие яйца. Рассказал, что у трехшерстной кошки родились котята, один получился белым, другой рыжим, а третий — черным.
— Такие милые! Я хотел взять тебе рыжего, Альма, я знаю, ты таких любишь. Ты бы хотела рыжего котенка?
— Нет, пусть он останется со своими братьями, папа, — ответила я, не поднимая головы.
Майо исчез спустя ровно год и три месяца.
Антония
Как хорошо ночью в родительском доме, в его обволакивающей тишине. Раньше мне так хотелось сбежать отсюда к простору, к свету, я задыхалась от нагромождения книг, бумаг, журналов, каких–то предметов.
Две маленькие спальни справа и слева от узкого коридора, и, хотя родители старались не вмешиваться в мою жизнь, терпеть мрачный характер Альмы в таком тесном пространстве порой было невыносимо.
Лучше всего можно увидеть небо из окна на кухне.
На умытом после дождя небе висит тонкий серп луны и видны даже две звездочки. Кухонный стол у стены освещает конус теплого света. Ночью здесь хорошо, лучше, чем днем.
Газовая плита — белая, эмалированная, стоит на кухне, сколько себя помню. На самой большой конфорке — чайник Альмы, на самой маленькой — кофейник Франко. Рыжик слушает нас, подняв кверху подрагивающий хвост, трется о ножки стола. Странно, этот кот никогда не мяукает, не помню, чтобы хоть раз слышала его голос.
Лео тоже зашел выпить молока с печеньем. Я решила сегодня переночевать у папы: Франко в порядке, просто я поняла, что отец стар, и для меня очень важно побыть с ним, быть может, даже важнее, чем для него.
Сколько себя помню, у Франко всегда были седые волосы и седая борода, но в эти дни они еще больше побелели. Он сидит на своем стуле, на том самом месте, где я привыкла видеть его по утрам — целых двадцать лет, — читающим газету с большой чашкой кофе в руках. Вот и сейчас он держит чашку, будто согревая руки. Внушительная фигура Лео, слишком громоздкая для такого маленького помещения, занимает почти всю кухню. Лео доел песочное печенье, макая его в молоко, и теперь посматривает на часы. Я знаю, сейчас он скажет, что ему пора в Комиссариат, он ведь так любит работать по ночам.
Неожиданно Лео спрашивает, обращаясь к Франко:
— Когда Антония была маленькой, что вы рассказывали ей про Майо?
Не понимаю, зачем он? И почему он не спросит об этом меня? Но любопытно, что папа ответит. Я помню, Альма говорила, что ее брат умер от лейкемии.
— В детстве Антония посмотрела какой–то фильм, в котором мальчик умирал от рака, и, думаю, сочинила себе, что ее дядя умер вот так же. Альма никогда ее не обманывала, — отвечает Франко, — кое о чем она просто умалчивала.
Кажется, я что–то припоминаю, но не могу вспомнить ни как назывался фильм, ни как Альма рассказывала мне о своем брате. Но я хорошо помню то замешательство и напряжение, которое возникало, когда кто–либо спрашивал Альму о ее родителях: я была слишком мала, но знала, всегда знала, как она страдает от этих расспросов. Когда такое случалось, я страдала вместе с ней.
Детям тяжело выносить родительскую боль: нужно помнить об этом, когда родится Ада.
— А ты никогда не расспрашивал ее о предках? Ты знал, что Сорани — еврейская фамилия? — продолжает Лео выпытывать у Франко.
Около полуночи, и мы все устали, но Лео говорит так спокойно и ровно, что папу, кажется, не раздражают его вопросы, напротив, он заинтересован, как и я.
— Я тактичный человек, Лео, — отвечает он с легкой улыбкой. — Или, быть может, не любопытный, — добавляет, закидывая ногу на ногу. — Я предоставлял ей право рассказывать, что она хочет и когда хочет. Я всегда был готов ее выслушать, а в остальном не задавал никаких вопросов. Откуда ты знаешь про еврейскую фамилию?
— В средней школе у меня был одноклассник с такой фамилией, его родители — практикующие иудеи. Мы дружили с ним, и я даже был на его празднике бар–мицва. Они не из Лечче, его отец — венецианец, работал в банке, — рассказывает Лео, — он объяснил мне, почему мой друг Давид не ест, например, колбасу.
Лео, в отличие от Франко, любопытный. Его интересуют люди вообще, ему не скучно с ними, тогда как Франко и Альма очень избирательно, если не сказать мизантропически, настроены ко всем, кроме коллег по работе.
Встреваю в разговор, чтобы рассказать все, что знаю от Лии про Джакомо и про его семью, про депортацию. Франко и Лео внимательно слушают, но у Лео при этом взгляд заинтересованный, как у человека, решающего какую–то головоломку, а Франко кажется отрешенным. Я знаю, что он старается отделить информацию от эмоций, если, конечно, он их испытывает: просто ему необходимо в любых обстоятельствах сохранять ясный ум.
— Все, простите, мне пора, — говорит Франко, тихо поднимаясь со стула.
— Я тоже должен идти. — Лео с шумом отодвигается назад, ищет взглядом свой плащ. — Мы еще поговорим об этом.
— Идем спать, — зеваю я.
Вижу, что папа совершенно измучен, и я тоже устала.
Когда Альма пришла в себя на десять долгих минут, она не сказала ни слова. Лежала неподвижно, как парализованная, и водила по сторонам глазами, не поворачивая головы. Наконец каким–то незнакомым, низким и глухим голосом спросила, не умирает ли она.
— Не думаю, что умирающие говорят таким мужицким басом, — мягко ответил ей Франко.
Тогда Альма повернулась ко мне и посмотрела так, будто хотела сказать: «Он шутит даже у смертного одра», но ничего не сказала, а только сжала его руку и слабо улыбнулась. Она вернулась к нам, это снова была она.
Франко наклонился к ней и прошептал:
— Ничего страшного, все будет хорошо. Тебя сбил мотоцикл, ты помнишь?
Она кивнула.
— Что ты делала в Пиластро, мам?
Я не могла удержаться, мне так хотелось спросить ее об этом.
— Я устала, — сказала она этим ужасным голосом и закрыла глаза.
Вскоре она снова уснула, а мы с Франко сидели и смотрели на нее. Она была очень бледной, но дышала ровно, руки у нее были теплые. Даже стала немного похрапывать.
Врач сказал Лео, что ей надо побыть немного под наблюдением и что операция прошла отлично.
— В воскресенье ее отпустят, вот увидите, — сказал Лео, отвозя нас домой.
Растянувшись в постели Альмы, вдыхаю аромат туберозы.