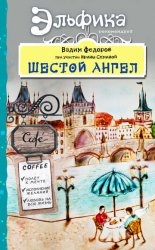Любовь надо заслужить Биньярди Дарья
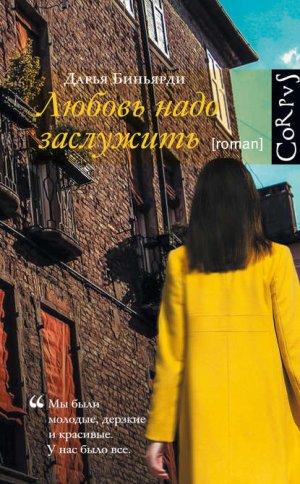
— Нет, ничего. Ты ужинал?
— Еще нет, а ты?
— Чипсы, фанта и мартини.
— Вечеринка! Ада повеселится. Что собираешься делать?
— Позвоню папе, он меня искал, чудеса! И маме, с понедельника ее не слышу, получила только одно сообщение.
— Я у нее сегодня обедал.
— Опять? Разве вы не встречались вчера?
— Она пригласила, я пошел.
— Что она тебе сказала?
— Так, ничего особенного, говорили о семьях. Расскажу, когда приеду.
— Не могу поверить, что ты два раза подряд встречался с Альмой!
— Мы почти подружились.
— Я только за, но боюсь…
— Что?
— Так, ничего.
— Ладно, говори, ты же знаешь, что можешь говорить мне все что угодно. Жировая прослойка надежно защищает.
— Ну… не думаю, что она приглашает тебя лишь потому, что меня нет… она делает это для собственного спокойствия, но потом, когда я вернусь, забудет о тебе, и ты станешь теряться в догадках. У Альмы нет друзей.
— Милая, я достаточно взрослый и хорошо знаю твою мать. Думаешь, буду горевать, если она перестанет звать меня в гости? Я же не подросток.
— Я люблю тебя.
— Я тоже, Тони.
— Спокойной ночи. Отправлю тебе перед сном эсэмэску.
— Ладно. Передавай привет профессору, если будешь звонить.
— Хорошо, пока.
Альма
Антония не звонит. Когда же она вернется из Феррары? Лео прав, запрещать ей бесполезно, но ждать просто невыносимо. У меня не хватает терпения, и раньше не хватало. Я провожу рукой по лицу и вспоминаю пасхальные каникулы, когда мы с Майо и Микелой собирались поехать с палатками на Эльбу, в наше первое совместное путешествие, а у меня началась ветрянка, и пришлось остаться дома. Они уехали вдвоем, не на поезде, а на белой «Веспе» Майо. Ни разу мне не позвонили, в те времена междугородние звонки вообще были редкостью.
Когда через неделю они вернулись, загорелые, промокшие до нитки под дождем, который накрыл их на Апеннинах, я вся была в расчесанной сыпи. У меня не хватало терпения ждать, пока подсохнут корочки. Следы от ветрянки так и остались, хоть и побледнели: один на подбородке, один на лбу, два на груди, три — на животе и очень много на ногах. Увидев их, Майо решил, что надо немедленно сделать на мне рисунок, как в детской игре «соедини по точкам». Помню, было очень весело, когда он бегал за мной, зажав в руке синий фломастер, а Микела хохотала. И вместе с тем я чувствовала острые уколы ревности — наверное, без меня им было бы веселей.
Антония, как и Микела, всегда поступает так, как считает нужным, характер у нее легкий и решительный одновременно. После окончания лицея она не пошла в университет, а стала писать детективы. Я пробовала ее уговаривать, считала неправильным, что дочь университетских преподавателей, способная девушка, не получит высшего образования.
Мы не ссорились, с ней невозможно поругаться, как и с Франко. В этом они похожи: обходят острые углы, не ввязываются в конфликт. После того, как я в очередной раз попыталась ее убедить, она совершенно невозмутимо заявила, что хочет пожить одна. Что будет работать по вечерам три раза в неделю в гей–баре, известном в Болонье своими одиозными концертами, а в остальное время будет писать.
Сняла жилье на другом конце города: две комнаты в старом особняке стиля модерн, с садом. Чудесная квартирка за небольшие деньги.
Я знала, что она возвращается домой в пять утра, но ничего не могла поделать. Девочка выросла. Она работала, писала, делала то, что считала нужным, естественно и непринужденно.
Действие ее первого криминального романа происходило в мире ночных баров; после его публикации Антония сменила работу и стала продавать одежду одной из марок в Реджо Эмилии. Проработав год торговым представителем, она стала зарабатывать больше, чем мы с Франко. А через год закончила второй детектив — об убийстве текстильного магната, — роман имел еще больший успех; и тогда Антония уволилась с работы и стала собирать материал для следующей книги, сюжетом которой послужило убийство, действительно произошедшее в Болонье. Выезжая на место преступления, она познакомилась с Лео — комиссаром Леонардо Капассо.
Теперь, когда я ближе познакомилась с Лео, начинаю понимать Антонию. Лео очень умный. И, в отличие от меня и Франко, конкретный, но особенно привлекает в нем контраст спокойствия и непредсказуемости. Мне хотелось бы что–то сделать для него, чем–то удивить. После нашей встречи я об этом не перестаю думать и, кажется, кое–что придумала. Винсент писал, что живет в Болонье, и предлагал встретиться.
Тогда я ему не ответила, но сейчас решила позвонить. Они с братом — калабрийцы, не исключено, что у них есть информация, которая могла бы помочь Лео в расследовании преступлений в Пиластро. Теперь все мои мысли только об этом.
Антония
— Папа, это Антония, ты звонил мне?
В гостиной Бонапарта, ставшей моим феррарским домом, нет ни одного электронного устройства, только мой сотовый телефон. Даже как–то неловко использовать его здесь. Я сижу на диване, положив ноги на столик, под пристальным взором Наполеона и Жозефины. Коктейль подействовал: мне удалось расслабиться. Отправила Лео свою фотографию в новом наряде, в полной гармонии с интерьером.
— Как ты?
— Все хорошо, а ты? Что ты хотел?
— Хотел спросить, как дела, как Феррара. Что в этом такого?
— Непривычно, мне кажется, за всю жизнь ты ни разу мне не звонил.
Я действительно не припомню, чтобы Франко звонил мне спросить, как дела. Он и при встрече меня об этом не спрашивает.
— Ты все утрируешь, как твоя мать. Я сто раз тебе звонил, и не далее, как на прошлой неделе.
— По правде говоря, это я позвонила тебе, чтобы узнать, во сколько мы встречаемся, ну да ладно… Что ты хотел?
Вообще–то я не жалуюсь на отца. Наши отношения построены на взаимной привязанности, дружбе и уважении. Он научил меня быть независимой. И это правильно.
— Обожемой! Ничего, просто спросить, как ты там, в Ферраре, чем занимаешься, что узнала. Ты же моя Пентесилея, — ворчит он, будто рассержен. Но ято знаю, он никогда не сердится.
— Твоя Пентесилея плохо кончила. Можно, я буду, например, Брадамантой? Кажется, это от нее ведут родословную те самые Д’Эсте, которых чтят здесь, в Ферраре?
— По–моему, у тебя мания величия. При чем тут Брадаманта? Мне кажется, мы не препятствовали тебе выходить замуж за твоего Руджеро… — шутит он.
— Во–первых, я не замужем, а во–вторых, ты и мама и так не слишком бурно радовались моему Руджеро… если о нем речь…
Не знаю, почему я воспринимаю все это всерьез. Какой–то странный вечер. И эта комната странная.
Она как бы зависла во времени и пространстве.
— Подумать только! Сегодня что, день упреков? На тебя так подействовал воздух Феррары? Хорошо, ты будешь моей Брадамантой. А что до твоего Руджеро… потерпи… для таких родителей, как мы, было немного… неожиданно породниться с полицейским. В молодости мы против них выступали. Но Лео мне нравится, и, думаю, ты это заметила.
— В некотором роде… а знаешь, что теперь он и маме понравился? Они встречались уже два раза, она сказала тебе?
— Мы мало с ней говорили, виделись только утром, а ты же знаешь, что утром я…
— Молчишь, да, знаю. Они встречались в обед вчера и сегодня.
— Вот видишь, мы готовы подружиться с Руджеро!
— Папа…
— Что?
— Мне только что сказали… не могу поверить… неужели мама ничего не знает, а если знает, почему скрывает от нас?
— Это касается ее брата?
— Нет, о Майо пока удалось узнать немного. Здесь другое, давняя история…
— Что ж, выкладывай.
Вздыхаю. Единственный недостаток этого великолепного салона — слышен шум машин за окном.
— Ты знал… что бабушка и дедушка Альмы со стороны отца… погибли в нацистских лагерях?
— Что?!
Обычно Франко невозмутим, но сейчас в его голосе смятение.
— Ты не знал?
— Конечно нет. Кто тебе сказал? И Альма ничего не знает, я уверен.
Мой отец всегда сомневается, и сейчас меня удивляет его уверенность.
— Мне рассказала сегодня их соседка. Старушка, что живет напротив, она ходила в школу вместе с дедушкой Джакомо. Тоже еврейка, как и он.
— Альма говорила, что ее отец был атеист, ну, праздновал Рождество ради жены, что–то в этом роде. А если это какая–то ошибка, заведомая ложь, фантазия?..
— Не думаю. Ты ее не знаешь, у нее совершенно ясный рассудок, и, мне кажется, ей незачем врать. Я уверена, что это правда. Она сказала, что Джакомо крестился, чтобы жениться на бабушке по церковному обряду. И добавила, что нельзя оправдать такой выбор, если твои родители погибли в концентрационном лагере.
Франко молчит. Мне жаль, что пришлось рассказать ему это по телефону, но он единственный, с кем я могу сегодня погворить. С мамой лучше обсудить при встрече. Понять, почему она все эти годы ничего нам не рассказывала.
— Невозможно, чтобы она ничего не знала, папа. Если твои дедушка и бабушка были замучены нацистами, ты не можешь не знать, тем более в таком городе, как Феррара. Даже если ее отец это скрывал. Сколько феррарских евреев никогда не вернулось домой? Пятьдесят? Сто? Ну, пусть двести, думаешь, если твой дед погиб в лагере смерти, ты не узнаешь об этом? Есть же дни памяти, торжественные мероприятия, исследования, в конце концов…
— Ты права, очень странно. Разве что…
— Что?
— Альма была подростком в шестидесятые. Такое было время — политическое, революционное, не до воспоминаний… Она уехала из Феррары совсем юной, уехала навсегда. По–моему, даже очень возможно, что она ничего не знает и не знала, а родители решили ничего не говорить ей об этом.
— Завтра буду искать доказательства.
— Сходи в библиотеку, там все найдешь: количество депортированных, погибших. В Ферраре есть даже еврейский музей, когда–то я там был. И читал, что недавно открыли национальный музей Холокоста или что–то в этом роде, можешь и туда сходить…
— Хорошо, профессор, будет сделано. Впрочем, я все найду в интернете.
— Не думаю, что все, дорогая.
— Может, и не все, но определенно быстрее. Папа…
— Да, Антония.
Я не привыкла откровенничать с отцом, но вообще, все это так странно.
— Почему в нашей семье столько трагических смертей? Дедушка с бабушкой… теперь еще и прадедушка с прабабушкой. Знаешь… впечатляет.
Грустно, если сказать точнее. Просто не хочу признаваться, что мне грустно.
— Я понимаю, ни о чем не подозреваешь, и вдруг такое… могу себе представить, как ты расстроена. Трагические смерти — это полотно истории. Вспомни «Энеиду»…
Нет, только не «Энеиду»! Не сейчас!
— Не хочу ничего слышать ни про «Энеиду», ни про «Неистового Роланда». Ни у кого из моих знакомых нет такой ужасной семейной драмы. Да и ты тоже как…
— Как кто?
— Как эмигрант, не знаю… как беженец. Я никогда не видела никого из твоей семьи, разве что двоюродных братьев из Турина.
— Уверяю тебя, все прозаично, все умерли от болезней, если тебя это успокоит. Твой далеко не молодой отец был единственным сыном своих родителей: все, родословное дерево засыхает.
— Папа…
— Да?
— Ты действительно думаешь, что это нормально — в тридцать лет узнать, что твой дед покончил с собой, дядя исчез, а прадед и прабабка с дочерью, сестрой деда, погибли в концлагере?
— Разве я сказал, что это нормально? Я такого не говорил.
— Их звали Амос и Анна. И Ракеле. Нужно придумать другое имя для Ады. Хватит уже этих «А».
— Ты права. Назови ее Брадамантой…
— И ты туда же!
— Что?
— Один знакомый, он предложил имя Ариосто, если родится мальчик…
— Прелестно! А кто это?
— Комиссар полиции, неаполитанец.
— Еще один комиссар? У тебя какая–то мания… И снова ему удалось свести диалог к шутке.
— Как у тебя получается не принимать все всерьез?
— Я тридцать лет живу с персонифицированной драмой, научился.
Ну уж нет! Этого я ему не прощу.
— Вообще–то мне кажется, она действительно пережила в своей жизни тяжелые моменты, и потом, рядом с таким, как ты, любой начнет драматизировать, просто в пику тебе, извини, что я это говорю. Знаешь, я тоже стараюсь, как ты, не сгущать краски, но это уж слишком…
— Я же сказал, сегодня — день упреков. Знаешь, надо отметить в календаре…
— Вот видишь? Ты или шутишь, или умничаешь, или показываешь свой рационализм. По–другому ты не умеешь.
В трубке тишина. Должно быть, я его уязвила.
— Как по–другому? О чем ты, Антония?
— Порыв… эмоциональность… сопереживание… Мне кажется, мама чувствует себя очень одиноко.
На этот раз молчание затянулось.
Затем он продолжает прежним тоном:
— Я делаю все, что могу, Антония. Стараюсь быть рядом, когда это нужно. Понимаю, что ты очень расстроена и даже напугана сегодня. Но какой смысл в том, что я скажу тебе «Бедняжка!» или попытаюсь тебя утешить? Я думаю, что шутить или рационально объяснять — единственный способ поддержать тебя… Что бы ты хотела от меня услышать? Чего тебе не хватает?
— Не знаю, папа. Наверное, хотела бы поплакать. Обнять тебя. Как нам теперь быть с мамой? Я не могу рассказать ей по телефону про эту историю. Не говоря уж о том, что я вообще ничего не понимаю… Я хотела лишь узнать, жив ли Майо, а если умер, то как, но вдруг узнаю такое… это я еще не все рассказала!
— Есть еще что–то?
— Да, и ты скажешь, что это — мелодрама.
— Выкладывай.
— Получается, что Майо — сын не дедушки Джакомо, а любовника, который был когда–то давно у бабушки Франчески. Их отношения закончились еще до рождения Майо. Он был префектом и жил по соседству. Это брат синьоры, с которой я сегодня встречалась.
Франко молчит.
— Почему ты ничего не говоришь?
— Я боюсь, ты неправильно поймешь мои слова. И вообще… у меня нет слов, да. Ты… в этом уверена?
— Предоставить источники? Вот три разных.
— Какие?
— Первый — соседка, второй — тетя маминой подруги, третий — комиссар–неаполитанец. А ему сказал старый комиссар, которому префект сообщил лично.
— Префект тоже еврей?
… Да.
— Когда это было, в какие годы?
— Я не знаю, папа! Завтра сделаю свой урок и принесу тебе на проверку, хорошо?
Знал бы он, как меня раздражает этот допрос!
— Вот видишь, что бы я ни сказал, все не так. Поэтому я тебе и не звоню: ничего не могу с собой поделать, по телефону у меня менторский тон. Могу себе представить, ситуация действительно непростая. И ты выбита из колеи, бедняжка…
«Бедняжка»… все–таки он меня рассмешил! Никогда не видела, чтобы отец потерял над собой контроль, кричал. Что бы ни случилось, он всегда спокоен, шутит. Это потрясающе, только если ты не его дочь или жена. Особенно жена, потому что я очень люблю отца, за исключением разве что сегодняшнего вечера. Действительно, странный вечер, папа прав. Или мартини был лишним на голодный желудок.
— Как ты думаешь, мама могла знать об этой истории с Майо и о своих корнях?
— Не думаю, мне кажется, она не задавалась вопросами о далеком прошлом. Ей было достаточно настоящего, и без того трагичного. Все ее вопросы, все страхи крутятся вокруг случившегося в тот год, когда Майо исчез. Все произошло так быстро, боль была такой невыносимой… то, что случилось раньше, для нее не имеет значения. Прошлого не существует. По крайней мере, мне всегда так казалось.
— Потрясающе! В тебе есть человечность.
Какое–то время отец молчит, а потом продолжает низким глухим голосом. Если б я его не знала, я бы решила, что он взволнован.
— Антония, моя студентка забеременела от меня через три месяца после нашего знакомства. Девушка была совершенно потерянна. Все эти трагедии… Я остался с ней. Ты считаешь, это разумный выбор?
— По правде говоря, нет.
— Ты можешь себе представить, как я был к ней привязан?
Меня очень трогает его откровенность. И мне, как и ему, хочется пошутить, разрядить обстановку, сдерживая свои чувства.
— По правде говоря, да. То есть нет, не могу представить. Но я понимаю, о чем ты. Я никогда об этом не думала. Просто я ничего не знала о том, что случилось. Папа… мы же с тобой говорим о любви, о чувствах! Представляешь? Это же возмутительно!
— Негодница, шутить в такой момент… и кто тебя научил?
Он гордится мной, я это чувствую. Гордится, что я на него похожа.
— И еще, папа…
— Да, Антония.
— Ты ее по–прежнему любишь?
Никогда бы не подумала, что смогу задать такой вопрос. С улицы доносится сирена — полиция или «скорая помощь». Но папин голос, глубокий и ясный, перекрывает этот звук:
— Я всегда буду любить ее.
Альма
На море мы ездили в августе, снимали белый двухэтажный домик с садом, где на лужайке, усыпанной шишками и сосновыми иглами, стояло барбекю.
Родители говорили, что это недорого, потому что далеко от магазинов, и еще потому, что рядом небольшой пруд, полно комаров, как раз за дюнами бесплатного пляжа, но именно такое место их устраивало, и они выбрали бы его, даже если б пришлось платить больше. Многие феррарцы избегали жить в этом районе, удаленном от побережья, рядом с пиниевой рощей, но только не мои родители, привычные к уединению в своем доме у плотины.
Мы с Майо могли свободно гулять где хотели, однако наш ежедневный маршрут был неизменным: пляж, бесконечное купание в море, возведение вместе с другими ребятами песчаных замков, волейбол, бильярд, мороженое. К обеду мы возвращались домой, проводили долгие сиесты в комнате с закрытыми ставнями, листая журналы, а потом снова на море, до самого захода солнца.
Однажды в субботу мама приготовила рис с овощами, вареные яйца, десерт из персиков и предложила устроить пикник в пиниевой роще. Папа положил в корзину два пледа, скатерть, три бутылки воды и большой нож для арбуза. Майо было поручено везти арбуз, а мне — тарелки и бумажные салфетки.
Мы поехали на велосипедах, друг за другом, стараясь избегать корней и выбоин на дороге, чтобы не уронить подвешенные на руле пакеты и корзины, и дальше по тропинке, через пиниевую рощу, настоящий густой лес, который тянулся от нашего дома до самой Равенны. Лес был совершенно безлюдным.
Проехав пруд, мы бросили велосипеды у сосны и пошли пешком через заросли можжевельника в поисках места для пикника. Было слышно лишь пение зяблика да кваканье лягушек в пруду. И запах лета: запах сосен, нагретых солнцем, запах смолы. Выбрать место для пикника оказалось непросто, и мы с папой отчаянно спорили, где лучше.
Маму и Майо все устраивало, но я хотела найти местечко в тени, без муравейников, не слишком замусоренное ветками и сосновыми шишками, недалеко от дюн и моря, и от пруда тоже.
После обеда мы прилегли отдохнуть — каждый положил голову на живот соседа так, что получился квадрат. Отец начал рассказывать сюжет детектива, который он читал, мама пыталась отгадать убийцу, а он, заглушаемый нашим смехом, кричал: «Не говори, не говори мне ничего».
Потом мы с Майо оставили их болтать, а сами пошли искать орешки пиний. От грязноватой коричневой скорлупы темнели руки и лицо, некоторые орешки мы складывали в пакет, а другие разбивали камнем и съедали сразу. Вкуснятина.
Мы дошли почти до пруда, как вдруг увидели бегущего по тропинке мальчика в плавках и резиновых тапочках. Мальчик был выше нас ростом, полный, даже толстый, со складками на животе. По лицу его текли струйки пота. Запыхавшись, он спросил, не видели ли мы ежика. Говорил он смешно, с римским акцентом, и был не такой, как другие ребята с пляжа. Он сказал, что отдыхает с родителями и их друзьями в кемпинге неподалеку. Мы слышали об этом кемпинге, но никогда там не были и не знали никого оттуда. Мальчика звали Валерио, ему было тринадцать, как мне, на год меньше, чем Майо.
Он сказал, что вечером ребята из кемпинга устраивают футбольный матч на бесплатном пляже, и спросил, не хотим ли мы присоединиться. Майо загорелся — он любил играть в футбол, посмотрел на меня, и я сказала, да, придем. Ежика мы так и не нашли, но Валерио все равно был счастлив, потому что я показала ему белую цаплю на берегу пруда и большую сойку, вцепившуюся в ветку старой сосны.
Вернувшись на поляну, мы нашли спящих в обнимку родителей. Когда они проснулись, мы не стали рассказывать им о встрече с Валерио. Скрывать нам было нечего, просто хотелось иметь свою тайну.
В условленное время мы с Майо отправились к дюнам. В этой части побережья мы оказались впервые, хотя дюны совсем недалеко от нас. Говорили, туда ходят нудисты и гомосексуалисты, но мы просто привыкли к своему пляжу с бильярдом, сеткой для волейбола, музыкальным автоматом, который так нравился Майо, к знакомым ребятам.
На пляже собралось человек двенадцать: мальчишки разного возраста — младшим было лет семь–восемь, и две девочки. Я видела, как Майо непринужденно общается с ребятами, и, растянувшись на песке, наблюдала за игрой. Майо без устали бегал, а ребята, подбадривая его, кричали: «Эй, Ma!» В тот день он забил три гола. Неожиданно ко мне подошли две девочки, и старшая — с большой грудью, больше, чем моя, — указала на Майо и спросила, не мой ли это парень, выговаривая слова смешно, как Валерио. Я механически ответила, да.
Потом она заговорщицки посмотрела на подругу, и, обменявшись улыбками, девочки присели рядом и принялись что–то рисовать пальцами на песке. Но вскоре поднялись, попрощались со мной и убежали.
После матча Майо вместе с ребятами из своей команды пошел окунуться, потом прибежал и, мокрый, растянулся рядом со мной. Он тяжело дышал, лицо у него раскраснелось. Он выглядел довольным, счастливым.
— Тебе было скучно?
Я ответила, что нет, и он, весь в песке, перевернулся на спину.
— Ну и шары!
— Ты про мяч? — отозвалась я недоуменно. Он повернулся на бок и уставился на меня, подперев голову рукой.
— Ты идиотка? Девчонка, которая говорила с тобой. Что она спрашивала?
Эта фраза почему–то не рассмешила меня, а вызвала странное беспокойство. Впервые он проявил интерес к девушке.
— Так, ничего, — ответила я. — Хочу есть, пойдем домой.
Антония
Нужно забрать у Лии пакет. Сейчас полдень, неурочное время, хоть я и не видела, чтобы она готовила обед: попробую!
Утром, открыв окно, я не могла разглядеть каменный фасад Театинской церкви — такой был сильный туман, но сейчас выглянуло тусклое солнце. Теперь я понимаю, как соседствуют солнце и туман. Странно, в Болонье, всего в шестидесяти километрах отсюда, не бывает такого тумана. Может, из–за близости холмов?
Виа Виньятальята пустынна и в этот час. Окно у Лии закрыто, и оттуда не доносится никаких звуков — ни музыки, ни лая. Позвонив, я жду, рассматривая входную дверь дома, в котором выросла моя мама. Пытаюсь представить себе: вот они с Майо выходят на улицу, бегут в школу. Думаю, в детстве Альма была удивительной, несносной девчонкой.
Мимо проезжает пожилая дама на велосипеде, оборачивается, смотрит на меня и, как мне кажется, хочет что–то сказать, но едет дальше. В этом городе все ездят на велосипедах — в любом возрасте и при любой погоде.
Никто не открывает. Снова нажимаю кнопку звонка, долго держу. Или Лии нет дома, или не хочет открывать. Зайду позже. Сегодня у меня нет никаких планов, и это прекрасно.
Я не люблю планировать заранее, гораздо лучше импровизировать, следовать своим чувствам, порывам: именно так случается что–то интересное. Вот сейчас, например, села бы писать книгу. После того как я сдала своему издателю четвертый роман о приключениях инспектора Эммы Альберичи, возникла пауза между завершенным детективом и новым проектом. Возможно, Феррара станет следующим местом действия для моей героини, но сейчас я слишком втянута в живую историю. Не могу же я и проживать, и описывать ее одновременно. Или жить, или писать — что–то одно.
Пройдя несколько шагов по направлению к площади, на перекрестке с виа Контр ар и вижу их — Лию и Мину. Они идут мне навстречу, элегантные и стройные. Лия в великолепном пальто из верблюжьей шерсти, на шее — лиловый шелковый платок, Мина в красной попонке — яркое пятно на белой шерсти. Увидев меня, Лия улыбается, а Мина виляет хвостом: кажется, обе рады нашей встрече.
— Ты приходила за пакетом? Мы бы сами тебе принесли, только не знаем, где ты остановилась…
Забавно, что она говорит о себе во множественном числе, но я тоже думаю о них так: Лия и Мина.
— Здесь рядом, на проспекте Джовекка. Не хотелось вас беспокоить… Вы идете обедать?
Лия машет рукой, будто говоря, что еда для нее далеко не главное, и вдруг предлагает:
— Возьмем что–нибудь в той кондитерской? — указывая кафе на углу.
— С удовольствием, — соглашаюсь я.
Мы садимся за столик на улице, где прямо на булыжной мостовой сделан деревянный помост. Эта улица чуть шире, чем виа Виньятальята, и выглядит более оживленной. Тот тут, то там проезжают велосипедисты, и у многих, особенно у женщин, из корзинки торчат рогалики в бумажном пакете. Лия, заметив мой взгляд, поясняет:
— Это коппья, феррарский хлеб.
Сегодня не холодно, просто я слишком легко одета для ранней весны. Кроме платья на мне колготки и тренч, но он согревает плохо, даже палантин не помогает. От Лии это не ускользнуло, и она предлагает:
— Если тебе холодно, пойдем внутрь.
— Мне нравится здесь. Я закажу горячий чай.
— Я тоже, — кивает она.
Мина сидит рядом, под столом. Лия, привязывая поводок к ножке стула, замечает:
— Хоть в этом и нет необходимости.
К нам подходит официант — лысый, с черными усами.
— Что желает синьорина? — обращается он к Лие, склонив голову и указывая на Мину. Они знакомы, ну конечно, ведь Лия всю жизнь живет здесь.
— Миску с водой, спасибо, Apec!
Apec? Ну и имя!
— А вам, синьора? — Apec обращается ко мне. Теперь, с животом, я часто слышу это непривычное «синьора».