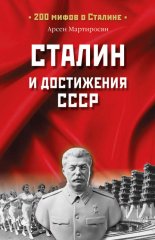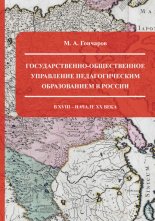Петух в аквариуме – 2, или Как я провел XX век. Новеллы и воспоминания Аринштейн Леонид

– Ты чё? Хошь отыграться – ставь по новой!
– Я те дам по новой, жила такая-то! Думаешь, не видел, как ты передернул! Положь, говорю, деньги, где взял, а то руки повыдергаю, жилить нечем будет!
– Ты не духовись, парень, – вступился веснушчатый, один из тех, кто играл вроде бы против. – Честно он играет. Я видел. Вон и Люцый подтвердит. Забожись, Люцый.
– Дешевым буду, – шепелявя на одесский лад, проговорил тот, кого назвали Люцым.
Верзила с картами, тем временем собрал свой ящичек и стал незаметно сваливать. Ларька ринулся за ним. Парни – их уже оказалось трое – тоже. Верзила завернул за ларечки, потом нырнул в какой-то двор.
– Отдавай, падло, деньги!
– Держи! – Он сильно ударил Ларьку под вздох, так что того скрючило: он потерял дыхание и чуть не свалился.
Ребята, не слишком пока обозленные, добавлять не стали и собирались уже смыться, когда Ларька почувствовал, что дыхание вернулось. Прикидываясь, что его все еще крючит, он подобрался к верзиле и резким ударом головой в живот свалил его с ног. Быстро развернувшись, подскочил к веснушчатому: долбанул его ногой в пах, одновременно изготовив руку, чтобы ребром ладони рубануть в переносицу Люцему, но не успел. Люцый увернулся и влепил ему в глаз. Четвертый – вроде бы маленький и хрупкий – в ту же секунду повис на нем сзади, цепко обхватив руками Ларькино горло. Пока Ларька пытался разжать его хватку, Люцый успел еще три раза врезать: в ухо, в глаз, в челюсть. Ларька упал. Подскочивший верзила добавил сапогом в затылок, да так, что у Ларьки заплясали перед глазами зеленые звезды и он потерял сознание.
Когда Ларька пришел в себя, никого уже не было. Он отыскал туалет, смыл кровь, убедился, что семьсот пятьдесят рэ, заначенные им во внутренний карман, при нем, и, страшно довольный торжеством принципа «подальше положишь – поближе возьмешь», потащился к дому.
С марта Ларька жил у сестры отца, тети Марии, на Таврической. У тети было две просторные комнаты в коммуналке. Муж ее – кадровый морской офицер – всю жизнь прослужил на Балтике. Вместе с такими же, как он – в черных бушлатах, – преградил немцам путь к Ленинграду. «Покуда живы мы, балтийцы, и кровь стучит у нас в сердцах, мы не дадим врагу пробиться и не отступим ни на шаг!» В отличие от многих других песенных обещаний – «Любимый город может спать спокойно», «Мы врага разгромим малой кровью, могучим ударом», – эта клятва была выполнена. За ценой, как говорится, не постояли…
Незадолго до окончания войны Сергея Степановича откомандировали на Тихоокеанский флот: готовилась война с Японией. Но Японская война прошла, а Сергей Степанович не возвращался. «Врага мы разбили, – писал он тете Марии, – но союзников у нас еще много…» Проницательная тетя поняла, что муж вернется не скоро, и пустила в его комнату «дорогого племянничка».
Всё это было как нельзя более кстати. Отношения Ларьки с Катей развивались тягостно. Всё, что касалось университета, литературы, очень их сближало. Но в личном, так сказать, плане Ларька ощущал себя заложником Катиной душевной щедрости, доброты, гостеприимства и прочих добродетелей, которые, поскольку он ее не любил, вызывали в нем только глухое раздражение. Вот уж поистине: не по-хорошему мил, а по милу хорош. Переезд несколько разрядил обстановку: он часто заходил к Кате, она к нему. Но в мае Ларька вдруг понял, что влюбился.
Весною Ларька подрабатывал на разгрузке вагонов. Принимала грузы средних лет приемщица Антонина Тихоновна. Ларька сперва и не заметил, что помогает ей, сидя в уголке за столиком и что-то записывая, худышка лет семнадцати, всегда завернутая в ужасного вида платок, из-под которого выбивались светлые волосы да торчал курносый нос. Вот уж чего Ларька никак не мог ожидать: заглянул ей как-то в глаза – и как околдовала! Месяца два прошло, а он с ней ни разу не заговорил. Даже не знал, как зовут.
Так обстояли дела, когда Ларька с фонарем под глазом и шишкой на затылке, тихохонько, чтобы не увидали соседи, проскользнул к себе в комнату. Тетя, как всегда, была в своем ГИПХе: кем она там работала, гардеробщицей или замдиректора, – она тщательно скрывала[16], но пропадала там часов по десять, включая воскресенья.
Голова у Ларьки раскалывалась. Он пробрался в ванную, сунул голову под кран, обмотал полотенцем и лег. Он думал, что вот, продал пистолет – и сразу же возмездие… Воспитанный в ура-атеистические тридцатые, он не был религиозен, но успел убедиться, что если он делал что-нибудь не то, с ним тоже происходило не то, если же он поступал… х-рр, х-рр. Дремоту прервал звонок в дверь: два коротких – к ним. Эх, надо было предупредить! Но услужливая соседка Раиса Марковна уже открывала… Ах ты ж! Кого там еще черт несет!
Черт принес Катиньку: по-июньски свеженькую, веселую и нарядную.
– Ты ч-чего не открываешь? – Она впорхнула как мотылек, оценила ситуацию и – нет чтобы помолчать – пошла-поехала: ах, тю-тю-тю, да-как-же-это-получилось! А что он мог ответить? Правду не скажешь, соврать – голова не варит. Она наклонилась приласкать его, бедного-покалеченного (тьфу ты), хотела шею обвить, да так зацепила не замеченную ею на затылке шишку, что у Ларьки снова потемнело в глазах…
– Да ты… – Он хотел ее отстранить, но она не поняла, продолжала к нему прижиматься, и тогда он резко ее оттолкнул. Катинька отскочила, на глазах ее выступили слезы. Она сделала ему больно? Как ей хотелось объяснить это тем, что она причинила ему нечаянную внезапную боль! Но в Ларькиных глазах она прочла другое: ненависть. За то, что он ее не любит, за то, что не она у него, а он у нее в долгу за тепло, ласку, помощь в трудную минуту. Благодеяния не прощаются. Она закрыла лицо руками – только бы не видеть этого ненавидящего, сверлящего взгляда!
– Мне размозжили затылок, – услышала она глуховатый голос Ларьки, – а ты туда рукой… Извини, очень было больно. – Он лгал. Она видела, что он лжет. Но как она была благодарна за эту ложь!
– Ларик, милый, п-прости м-меня, балясину, р-руки-крюки, прости! – Она кинулась к нему, боясь теперь до него дотронуться, но он сам притянул ее к себе, стянул платье – она судорожными движениями помогала ему, – стал целовать мокрое, заплаканное лицо… Она была расслаблена, как никогда прежде, и, как никогда остро, он чувствовал в ней женщину, а она в нем – мужчину…
Но примирения не произошло. Когда постельный дурман угас и Катя вновь оказалась в платье, Ларька взял ее за руку и сказал:
– Болит у меня всё. Ты лучше сейчас уходи. И, знаешь что, давай какое-то время не будем видеться…
Через несколько дней Катя уехала на дачу…
Последний экзамен. По римской литературе. Тетя Мария перебинтовала Ларькину голову так, чтобы разукрашенные в драке места оказались задрапированными. Получилось очень впечатляюще. Ларька так здорово рассказывал об античных формах общественной жизни, когда личность еще не мыслила себя в отрыве от коллектива, и какие беды случились, когда личность, наконец, осмыслила себя как индивида и противопоставила себя коллективу, и так удачно иллюстрировал этот тезис, сопоставляя оду Горация «Сладостно и пристойно умереть за Отечество» с индивидуалистической лирикой Катулла, с привлечением свежих примеров из недавней Отечественной войны, что профессор Тронский даже привстал со стула, наподобие Державина на лицейском экзамене, и, растроганный, поставил ему четверку.
Прямо с экзамена Ларька поехал на Московскую-товарную.
– Давненько мы вас… – поприветствовала его Антонина Тихоновна.
– Да вот я теперь… – ответствовал Ларька.
– А с башкой чего? Фронтовые осколки выходют?
– Обострилось малость…
– Так ты работать пришел, или чего?
– Или чего: экзамены сдал, вот гуляю…
– Гуляешь… чтой-то не видать. Трезвый. А коли так прохаживаешь, ты бы Таську прогулял (оказывается, она Тася!), а то она у меня в темноте совсем закисла… Тась? Ты чего там как квашня неживая? Вона твой ухажер пришодше, давно на тебя глаза лупит…
– Вы полегче, Антонина Тихоновна, ничего я…
– Че-его? Неправду, что ль, говорю? Коли неправду, так ступай своей дорогой…
Ларька шагнул было к выходу, но тут же решительно повернул назад:
– Пойдем, Тася. Раз отпускают – чего здесь сидеть?
Катя жила на даче в Келомяках с мамой, бабушкой и котом Кампанеллой. Кот с виду был свиреп, но в действительности изнежен и трусоват. Когда в ночную пору на даче начинали возиться крысы, кот в испуге запрыгивал к Кате в постель, забирался под одеяло, лизал Катину руку, блаженно мурлыкал и засыпал, уверенный, что Катя его защитит от ненавистных чудовищ. А Катя сама боялась крыс; она лежала с открытыми глазами, и в голову ей лезли всякие кошмары:
- Слышно, как стену их лапки скребут;
- Слышно, как камень их зубы грызут…
Присутствие кота Кампанеллы несколько ее успокаивало: в случае крысиного нашествия он сумеет ее защитить.
Первые дни на даче Катя вообще не спала, не ела – не из-за крыс, конечно… Она осунулась, стала раздражительной. Мама пригласила врача. Врач прижимал ей шпателем язык, оттягивал веки, понимающе покрякивал и сказал, что это ничего – акклиматизация: «После тяжелого учебного года в городе, чистый воздух… знаете, организм должен привыкнуть…»
Катя привыкала. К чистому воздуху. К одиночеству. К тому, что ее не любят.
Утром она заставляла себя выйти из дома и шла по какой-то бесконечной дороге с успокоительной надписью у переезда: «Проверено. Мин нет».
Вдоль дороги лес густой с бабами-ягами… И табличками: «Не входить! Опасно для жизни! Мины!»
…А в конце дороги той – плаха с топорами… Запущенное сельское кладбище с разрушенной церквушкой.
…И ни церковь, ни кабак – ничего не свято! Нет, ребята, все не так! Все не так, ребята!
Катя не обращала внимания на запретительные надписи и то и дело сворачивала с дороги в лес: «Убьет, и пусть, и пусть», – говорила она себе. Но все обходилось, она доходила до кладбища вполне живая. Здесь она останавливалась у незатейливых холмиков с покосившимися крестами, вспоминала «Гимны ночи» Новалиса – мы уже знаем, что Катя была чрезвычайно начитана, – греевскую «Элегию на сельском кладбище» в переводе Жуковского и шепотом читала стихи Ахматовой:
- И мнится – голос человека
- Здесь никогда не прозвучит,
- Лишь ветер каменного века
- В ворота черные стучит…
Она стояла на том самом месте, где ровно через двадцать лет будет предан земле прах Анны Андреевны, и кладбище, уже готовившееся принять бесценную дань, благосклонно внимало шелесту стихов:
- Я улыбаться перестала,
- Морозный ветер губы студит…
На обратном пути ее окликнул какой-то тип:
– Что, Красная Шапочка, не страшно одной в лесу? – Говоривший был интеллигентного вида, прилично одет, в роговых очках, лет тридцати пяти. «Видно, кто-то из дачников, может быть, даже мамин знакомый», – подумала Катя и потому ответила в тон:
– Бояться здесь некого. Все волки на минах поподорвались…
Человек в роговых очках, обрадованный, что разговор завязался, зашагал рядом с Катей. (Вроде бы шел навстречу?)
– Так уж и все? И четвероногие и двуногие?
Катя покосилась на спутника: что-то неприятное в его помятом лице, но опасности не внушает. Папиосик какой-то! Папиосик между тем развивал мысль об опасностях, грозящих молодой девушке, если она бродит по лесу в одиночестве…
– Ну, это з-зло еще не т-так большой руки, – прервала его Катя. – Лишь стоит завести… очки.
Папиосик на секунду смолк.
– Э-э, спутника в очках? – уточнил он, сглотнув слюну.
«Таких, как ты, "спутников", – зло подумала Катя, – я бы себе с полдюжины достала. И вертела бы ими и так и сяк! – Она вдруг внутренне рассмеялась. – Вот уж в самом деле кем не грех повертеть!» Вслух же она сказала:
– Конечно, к-конечно. Мне Вас сам Бог п-послал: хотела немного ягод насобирать, да одной в чащу к-как-то боязно…
С этими словами она шагнула через кювет – как раз у таблички «Не ходить! Опасно для жизни! Мины!» – и стала углубляться в лес.
Папиосик без энтузиазма посмотрел на табличку, как бы прикидывая степень ее достоверности и ясно понимая, что если он останется на дороге, то унизит себя и навсегда упустит столь многообещающее знакомство. Самоуважение взяло верх, и он поплелся за Катей, стараясь все же ступать след в след.
Катя шла быстро. Пришлось ускорить шаг и ему. Он почти догнал ее, когда под ногой треснуло. «Детонатор», – в ужасе подумал он, сжавшись в ожидании неминуемого взрыва. Взрыва, однако, не последовало. То ли он наступил на сухую ветку, то ли на мину, заряд которой отсырел, – выяснять некогда. Надо как-то прекратить эту безумную затею.
– Здесь же… здесь же совершенно нет ягод, давайте вернемся на дорогу и пройдем…
– П-почему же нет? Здесь отличный ч-черничник. – Катя нагнулась и в подтверждение своих слов показала на ладошке три сухонькие черниченки. – Д-да Вы не бойтесь: здесь мин п-почти нет. – Вроде бы ничего не значащая фраза, но она твердо устанавливала Катино превосходство: «Вы трусите, а мне не страшно; мне здесь все знакомо – я хозяйка, а Вы – чужак». – К т-тому же, – невозмутимо продолжала Катя, – если м-мы увидим м-мину, ее очень легко обезвредить: вытащить д-детонатор…
– Послушайте (ага, Папиосик, кажется, начинает заводиться!), ну что Вы такое говорите? Как Вы ее увидите? И что Вы вообще понимаете в минах?
– Увижу, н-не волнуйтесь. Я всю в-войну мины обезвреживала, – не моргнув, соврала Катя. – В-месте с собакой. У меня ов-овчарка была т–такая, специально натренированная м-мины находить. А я б-была при ней в-вожатой (о существовании таких собак Катя недавно прочитала в журнале «Работница»).
– Вы…? С собакой…? Обезвреживали мины?
– А что Вас, с-собственно, удивляет? Это в-ведь очень п-просто: вывинчиваешь д-детонатор, осторожно, но б-бояться не надо, – Катя почувствовала, что впадает в Ларькины интонации, – а п-потом мина аб-абсолютно безопасна, м-можно на ней хоть т-танцевать.
– Танцевать на минах… Это именно то, что мы сейчас делаем. Отличное занятие, однако не слишком приятно!
– Напротив, очень п-приятно, н-на грани смертельной опасности в-возникает, к-как известно, особо острое ощущение радости ж-жизни. В-вы, к-конечно, помните, к-как об этом п-прекрасно сказано у Г-габриеля д'Аннунцио? – Знакомство Кати с творчеством Аннунцио ограничивалось тем, что в пятнадцатилетнем возрасте, болея ветрянкой, она рассматривала картинки в его книге, стоявшей у дедушки на полке. Конечно, для иллюстрации своей мысли она могла назвать более знакомого автора, скажем, Хемингуэя, но Хемингуэя Папиосик мог случайно читать, Аннунцио же бил наверняка.
– Вы имеете в виду его «Город мертвых?»
Фюить! Кажется, она влипла! Неужели очкарик читал д'Аннунцио? Здесь чудеса, здесь леший бродит! Может быть, он профессор итальянской литературы? Нет, не похоже. Верно, краем уха что-то слышал и теперь блефует. Главное – не поддаваться. Как же эта книга с картинками называлась-то?… Ла-ла… там еще… а!
– Нет, я имела в виду д-другое… «Ла ф-филья ди Йорьо» – «Д-дочь Йорио» – п-помните? Но это вообще один из д-довольно распространенных в м-мировой поэзии мотивов, – Катинька уверенно выбиралась на твердую почву. – «Всё, всё, что г-гибелью г-грозит, для сердца смертного т-таит неизъяснимы н-наслажденья – б-бесмертья, может быть, з-залог! И счастлив т-тот…»
– Убедили! убедили! Я уже начинаю чувствовать «неизъяснимо наслажденье». Только… неужели вы читали д'Аннунцио?
– А что? Это в-входит в м-минимум эстетического воспитания для в-вожатых служебных с-собак. – «Понял, наконец, что его разыгрывают, – подумала Катя, – пора кончать комедию». – Ну вот моя п-просека, – сказала она, – с-спасибо Вам з-за охрану, д-до свиданья!
И она легко побежала по просеке.
– Погодите! Скажите хоть, как Вас зовут?
– Всё! Всё! – прокричала Катинька, махнула рукой и исчезла в зелени леса.
Тася родилась в деревушке, где было всего двенадцать изб, километрах в ста от славного городка Великие Луки. Деревушка притулилась на косогоре, спускавшемся к ручью; за ручьем – узкое поле ржи, луг, а дальше бескрайние леса и болота. Грамоте и счету Тасю обучили в школе, что стояла в большом селе на тридцать изб, в шести верстах от их деревушки. Она уже отучилась четыре зимы, и мать подумывала, не пора ли это баловство кончить, как началась война, и все решилось само собой.
Отца и старшего брата Антипку взяли в армию. На Антипку вскоре пришла похоронка. А на отца и похоронки не было, и – пять лет уже – вести никакой.
Иногда в их деревню наведывались немцы на мотоциклах – сразу человек по двадцать: ходили по избам, смотрели что да как. В другое время появлялись наши: оборванные, страшные, всегда голодные. Говорили, что это партизаны. И те и другие забирали скот, птицу, хлеб, картофель, но с остатком: так чтобы деревенские с голоду не перемерли и к следующему разу им чего-нибудь еще наработали.
Так бы, может, и перебились, да бедою стал их косогор, с которого все дали как на ладони. Летом сорок четвертого изрыли его немцы траншеями, поставили на нем сразу четыре здоровенные пушки. Скоро начало ухать да грохать. Кольку и Зинку мать спрятала в погреб к тете Вере – у нее погреб каменный, надежный. Сама с Тасей было в избе осталась, да тут такое пошло, что пришлось в подполье лезть.
…Когда дня через три откопали их, на месте избы торчала только обгорелая печь с трубою. От других изб и труб не осталось. Тяжелым снарядом разворотило избу тети Веры, вместе с ее каменным погребом… Остались они с матерью вдвоем. Пошли по миру, пока не попали в Великие Луки: там тогда железную дорогу восстанавливали; стали работать, их за то кормили. А когда дорогу ту восстановили, доехали по ней до Ленинграда. Тут мать устроилась на станции…
– Так Антонина Тихоновна тебе мать, не тетка?
– Ну!
– А живете где же?
– На железке. В вагонках.
– Ах, вот что! – Ларька вспомнил вереницу подпертых бревнами теплушек на запасных путях, где жили железнодорожники по две, а то и по три семьи в вагоне.
Они встречались теперь почти каждый день: бродили по городу или выезжали на паровичке в пригороды. Ларька не мог нарадоваться на свою спутницу… «И то сказать: в Полтаве нет…» Невысокая, стройная, с гордо посаженной головой, светло-золотистыми волосами, темными выразительными глазами, она являла собой тип скорее западнославянский, чем чисто русский, встречающийся на Москве и Владимирщине. Обаяние юности дополнялось в ней обаянием простоты и естественности: ни тени рисовки; она делала только то, что было ей органично. И потому с ней было легко и свободно.
Впрочем, первые дни Ларька был несколько обескуражен, не обнаружив в ней качеств, которые до той поры считал для девушки неотъемлемыми. Она не умела говорить… То есть умела, в том смысле, что язык ее произносил какие-то слова… Но речь изобиловала ошибками, словоупотребление – неточностями, фразы плохо согласовывались по смыслу и синтаксически… А произношение… Словом, едва она открывала рот, как половина ее обаяния исчезала. По счастью, она почти всегда молчала.
Знала она поразительно мало… что Ленинград назывался прежде Петербургом… Что в нем жили цари, и был он столицей Российской империи… Что построен он много позже Москвы… Она ничего не читала, имена Гоголя или Толстого были ей неведомы… Она была глуха к архитектуре… А живопись… В один из первых дней они пошли в Эрмитаж. Тася смотрела на портреты в галерее двенадцатого года, на полотна великих мастеров, явно не воспринимая их культурно-исторического и эстетического содержания. Так рассматривают фотографии на витрине фотоателье или красочные иллюстрации в детской книжке.
К чести Ларика, он интуитивно понимал, что невключенность его спутницы в традиционные для него формы культуры отнюдь не означала отсутствия культуры вообще; что она приобщена к иной, по-своему не менее высокой культуре, проявляющей себя главным образом в поведении, в строгой и сдержанной внутренней сосредоточенности, в полной и безраздельной открытости всему естественному, чистому и прекрасному – собственно самой природе, неотъемлемой частью которой она была. Когда она смотрела на озеро или прикасалась к цветку, казалось, вновь и вновь вспыхивала мелодия «Благословляю вас, леса, пустыни, реки, горы, воды…».
…Пройдет немного времени, и мощная массовая городская культура приучит Тасю к кинотеатрам и танцзалам, захлестнет эстрадной музыкой и неестественных цветов помадой (дискотек и видеоклипов тогда еще не было, а «нюхать» и «колоться» еще не научились). Но всего этого Ларька провидеть не мог, и пока их отношения определялись именно ее, а не его поведенческими нормами… За два месяца знакомства Ларька ни разу не рискнул завести Тасю к себе домой… Хотя уже несколько раз порывался. В решительности у него как будто недостатка не было. А вот поди ж ты!
Сегодня он был настроен довольно жестко и шел на встречу с Тасей с намерением привести ее к себе на Таврическую. На месте их обычных встреч Таси не оказалось. Ларик постоял с полчаса – Тасе было несвойственно опаздывать – и отправился на товарный двор. Рабочий день кончился, и большинство складов было под пломбами, однако знакомая дверь приоткрыта. Ларька вошел. На месте Антонины Тихоновны сидел седоватый старичок в старомодных очках и в картузе; Ларька видел его как-то на разгрузке.
– А хозяйки нет? – спросил он старичка.
– Нет.
– А где она?
– Не будет ее. Тебе чего надо-то?
– Да мне Антонина Тихоновна нужна.
– Ну, коли Тихоновна, то и ищи ее. Не работает она тут больше.
– Как не работает? – Ларька даже растерялся от неожиданности. – Совсем, что ли, со станции уволилась?
– Совсем.
– А девушка тут с нею работала… такая… Не знаете где?
– С нею работала – с нею и ушла.
Похоже, от этого старикана толку не добьешься. Он вышел на товарный двор. Пусто. Только бабка какая-то метет двор. Ларька подошел: бабка оказалась тетей Паней, трудившейся на Товарной разом за весовщицу, дворника и пожарную охрану.
– Вы не знаете, тут работала на девятом складе Антонина Тихоновна? Куда она перешла? Или где живет – не знаете?
– Как не знать, – она внимательно оглядела Ларьку, – забрали ее намедни.
– Куда забрали? – Ларька ничего не понимал, но уже чуял неладное.
– Куда, куда. На кудыкину гору. Куда таких забирают? Приехал черный воронок – и кранты!
– Черный воронок? Что, у нее недостача какая?
– Да что ты, парень, ко мне пристал-то? Я почем знаю?
Ларька медленно отошел прочь, сосредоточенно обдумывая услышанное. Неужели Антонину Тихоновну арестовали? За что? А куда денется Тася? Почему не пришла ему сказать? Как он теперь ее разыщет? Он же даже не знает, где они живут, – этих теплушек на путях сотни, как узнать…
– Ты чего, парень, загрустил? – Он и не заметил, как остановился и как тетя Паня поравнялась с ним, выметая сор. – Ты, может, кем ей приходишься?
Ларька кивнул.
– Иди потихоньку за ворота, я скоро справлюсь, чего скажу.
– Спасибо, тетя Паня.
– И-и, тетя!.. Дядя! Да мы с тобой только что не погодки: ты, чай, третий десяток размениваешь, а я еще до конца не разменяла. Ну, иди.
Через несколько минут она догнала Ларьку за воротами. Причесанная, в платье, она выглядела лет на двадцать моложе, чем в своем не то дворницком, не то пожарном балахоне. Ларька удивленно поглядел на нее.
– Чего глядишь? Ну, с восемнадцатого я. На Космодемьяна двадцать восемь стукнет… Кабы не война, может, еще в молодках ходила… Так кем ты Антонине-то приходишься?
– С Тасей мы дружили. Где она?
– С Тасей. Племянницей, что ли? Как Антонину увезли, сбегла она куда-то.
– Почему племянница? Она ей дочь.
– Может, и дочь. Только Антонина-то ее племянницей записала. Видать, чуяла, что заберут, не хотела ей жизнь портить…
– Да что она такое сделала?
– В оккупации была, может, с немцем сотрудничала. Муж у ней без вести – может, в плену, может, супротив нас воевал, может, и таперича в Германии живет…
Вот оно дела-то какие! Как говорится, надо бы хуже, да некуда. Как же Тася теперь, где ее найти?
– Ну, я гляжу, ты совсем нос повесил. Найдется твоя Тася, не горюй! А то пошли до меня… Утешу…
Папиосик оказался доцентом университета Валерием Ивановичем.
С начала учебного года прошел месяц. Она стояла в коридоре в перерыве между лекциями, вдруг он подходит:
– А-а! Так Вы, оказывается, наша студентка! Рад Вас приветствовать в наших стенах! – Здесь хозяин он: добротный синий костюм, модный галстук, портфель, уверенный блеск очков… Нет уж, дудки!
Он уже побывал у нее в нокдауне, пусть там и остается: не даст она ему разговаривать сверху вниз…
– Простите, Вы м-мне?
– Да Вы что, не узнаете меня? Летом, в Келомяках?
– Ах, в К-келомяках… летом… Извините… д-действительно. На п-пляже без костюма Вы выглядели к-как-то моложе. – Вот так! Получай!
– На каком пляже? Мы с Вами встретились в лесу. Танцевали на минах… Неужели не помните?
– Помню-помню… В лесу… У Вас еще с-собака была.
– Собака была у Вас. Обученная вынюхивать мины. – Насчет собаки она зря: дала ему удачный ход. Ну ничего: он уже сбавил тон.
– Моей с-собаки, к сожалению, б-больше нет. В живых. И мне т-тяжело, к-когда о ней вспоминают… Т-тем более те, к-кто ее н-не знал… Простите, п-пожалуйста, з-звонок, я опаздываю в аудиторию…
– Да подождите секунду… На каком Вы курсе? Как Вас зовут? – Он легонько взял ее за рукав выше локтя. Катя намеренно резко рванулась, рукав затрещал. Катя выразительно посмотрела на обидчика и, не удостоив его ответом, быстро зашагала в аудиторию.
Она не ошиблась: Валерий Иванович проследил, куда она пошла, выяснил по расписанию курс и несколько дней спустя, вроде бы случайно, оказался к концу занятий у аудитории, из которой она должна была выйти. Через открытую дверь Катя заметила его в коридоре. Она нарочно задержалась, потом взяла об руку Ингочку и другую свою подружку Валю Голубеву и в таком вот составе вышла, оживленно беседуя и в упор не замечая Папиосика. Всё сработало безотказно.
– Здравствуйте, Катя. – Другой тон. Уже успел где-то узнать ее имя. – Простите, пожалуйста, Вас можно на секунду оторвать от Ваших спутниц? – Он обворожительно улыбнулся Ингочке и Вале.
Катинька кивнула подружкам – дескать, до завтра, и отошла с Валерием Ивановичем:
– Насколько я п-помню, я Вам своего имени н-не называла… Что Вы еще п-преуспели обо мне в-выяснить? Н-номер обуви? Тридцать п-пятый: это я Вам м-могу и сама сказать…
– О чем Вы, Катя, я слышал, как Вас называла Ваша подруга… Мы же взрослые люди…
– И значит, н-нормы вежливости нам с-соблюдать необязательно…
– Перестаньте, Катя, Вы же отлично понимаете, что возводите на меня напраслину. Может быть, я нечаянно был в чем-то неловок, так дайте мне возможность замолить мой грех… – «Вот так-то лучше. А то "оказывается, Вы наша студентка!"» – Я хочу попросить Вас… Вы, наверное, любите музыку?.. Я хотел бы пригласить Вас в филармонию, на открытие сезона… шестнадцатого… будет дирижировать Мравинский…
– Спасибо, я очень люблю оркестр М-мравинского, но м-мне уже обещали билет н-на открытие…
– Я прошу Вас, откажитесь от билета или отдайте его Вашей подруге и… и примите мое предложение.
– Подумаю…
Ларька подошел к Катиньке первый. Впервые после перерыва в три с половиной месяца.
– Как ты?
– Спасибо, а т-ты?
– Я? Сдал тогда римскую Тронскому… на нормальную четверку… Перевели на дневное…
– Доволен?
– В общем, да.
Они помолчали, как бывает, когда обмен поверхностной информацией исчерпан, а переход на более глубокий уровень чем-то затруднен.
– Послушай, Катя, я тут был на докладе Жданова. О журналах «Звезда» и «Ленинград». Ну, в газетах было… видела?
– Видела… Как т-тебя туда з-занесло?
– Занесло. Много там непонятного… Может, посидим вечерок, покалякаем?
– О журналах?
– Ну, много о чем. Хочешь, я зайду завтра?
– Завтра? – Завтра открытие филармонии, и она уже пообещала Валерию Ивановичу… Но если она скажет Ларьке, что занята… он может легко согласиться на послезавтра, а может еще три месяца к ней не подойти. И вообще: лишь жертва полная угодна небесам…
– Конечно, Ларик, т-ты же знаешь. Я в-вечерами всегда свободна.
– Значит, заметано. Часов в шесть?
– Тебя накормить? – Катинька говорила так, будто он только утром вышел от нее и не было ни той жуткой сцены, ни мучительных трех с половиной месяцев…
– Потом…
– Потом – с-суп с котом. – Катинькины речевые центры, похоже, еще не отвыкли от пикировок с Папиосиком.
– С котом так с котом. – Ларька поднял за лапки кота Кампанеллу, мирно дремавшего на диване. – Ух и тяжел ты стал, разгильдяй! В суп тебя! Его теперь надо звать не монашеским именем, а Гарун-аль-Рашидом или д'Аннунцием – папским нунцием.
Катинька метнула на Ларьку тревожный взгляд: откуда он мог узнать? Чепуха какая-то… Случайное совпадение? Такого не бывает, потому что такого не может быть.
– Так т-ты т-теперь на втором?
– Угу… Не царапайся… Калистрат Калиострович.
– И легко т-тебя перевели?
– Побегал малость с бумагами…
– И н-никто тебе не п-помогал? («Может, он все-таки случайно знаком с Валерием Ивановичем?») – В голосе Катиньки послышались интонации оперуполномоченного майора Державца.
– Ты что? Кто мне мог помогать?
– У нас тут одна д-девочка знакомая т-тоже п-пробовала с заочного п-перевестись. Что-то у нее не очень-то п-получилось. («Темнит, или правда случайность?»)
– То девочка, а то герой войны! – Он отпустил кота обратно на диван. – Ладно, давай свою кулинарную программу!
Катя быстро собрала ужин, ясно показывавший, что война уже полтора года как закончилась и что восстановление народного хозяйства идет вполне успешно.
– И на доклад Жданова т-ты попал т-тоже как г-герой войны?
– В общем да. Как героя, меня выбрали в комитет, а как член комитета, я представлял университет… Такой вот винегрет… А ты-то читала доклад?
– Начала, да бросила… п-противно было ч-читать.
– По-твоему, он не дело говорил?
– Видишь… он лепит ярлыки: т-тот п-пошляк, этот дурак, третий – реакционер. А п-потом доказывает, что п-пошляк – это п-плохо, дурак ужасно, а реакционер – н-никуда не г-годится. Какое же т-тут дело?
– Насчет обложить кого, он действительно… Мне тоже не понравилось. Ну а положим, он толковал бы нормально, без ругани?
– Без ругани… П-по-моему, т-там одна ругань и была. Убери ее – ничего н-не останется.
– Это ты, Катинька, загибаешь. Он проводил определенную линию, определенную идею. Ты с ней согласна в принципе?
– В принципе литература с-существует и развивается в литературной б-борьбе. Вот и ведите эту б-борьбу литературными с-средствами. А тут? Поймали п-птичку голосисту и ну сжимать ее рукой… д-дубиной да г-гильотиной можно заткнуть рот одному, десяти… п-пусть тысяче п-писателей! Но дать т-таким образом импульс к п-позитивному развитию литературы… – сильно с-сомневаюсь…
– Получается, что Жданов глупее тебя? Так, что ли?
– Наверное, не глупее. П-просто я не знаю, чего он д-действительно хочет. Может, ему и не нужно, чтобы была литература…
– Не нужно, чтобы была литература?
– Настоящая литература: Блок, Ахматова, П-пастернак, Булгаков, Платонов.
– Ты упрощаешь. Ахматова… Да. Остальных он и не называл.
– Не называл, так п-подразумевал… Д-другие назовут. В-вот сегодня «Комсомолку» видел? Уже и Леонов в ретрограды попал…
– Ты не уходи от вопроса. Вот Жданов конкретно ругал Зощенку. Зощенко – это настоящая литература?
– Я не люблю Зощенко. Н-но называть его п-пошляком… Пусть юмор у него не высокой пробы. Но есть люди – д-думаю, и немало, – к-которым такой юмор нравится. Жданов считает, что у этих людей слабо развит л-литературный вкус. 3-зачем же на них кричать? Их вкус от этого лучше н-не станет. А хуже – м-может быть. Если уж з-заботиться о людях, то надо п-печатать настоящие п-произведения. Того же Булгакова. Думаю, что многие из т-тех, кто п-прочитали бы «Собачье сердце» или «М-мастера и Маргариту», сами п-перестанут ценить юмор Зощенко. Н-наконец, существует литературная к-критика, которая должна воспитывать читательский вкус, разъясняя, что к чему, а не з-запрещать или разрешать.
– Да… Тебя послушать… Слушай, а Ахматову ты читала?
– Нет. Ахматову я н-никогда не читала. – Катю стал злить этот разговор. «Если даже Ларька… если все они такие… Пусть, пусть создают свою кастрированную литературу на один манер, на один мотив: "Заводы, вставайте, шеренги смыкайте! Та-ра-ра-ра!"» – Дрянная п-поэтесса… Убогая, взбесившаяся б-барынька – п-правильно говорит твой Жданов… – Она вдруг почувствовала, что по щекам у нее текут слезы. «О Боже, лучше бы уж пошла с Папиосиком в филармонию!»
– Ну, успокойся, Катя. – Он взял ее за плечи. – Я не спорю с тобой. Я пытаюсь уяснить, мне многое непонятно… А ты выросла в литературной среде, лучше все понимаешь… И старше меня на курс! Ну, не реви! Ахматова чудесная поэтесса, «Божьей милостью» – ты же сама говорила, помнишь? Когда читала ее стихи…
– Так к-какого же дьявола т-ты издеваешься? – закричала вдруг на всю комнату Катинька. – Знаешь ведь, что она Божьей м-милостью, что я ее ч-читала, з-зачем спрашиваешь?
– Прекрати сейчас же! – Он тряхнул ее за плечи так, что у нее оторвалась голова… Или ей показалось? Вот он осторожно взял ее голову обеими руками, поставил на место… прикоснулся губами… Наверное, чтобы приросла обратно…
– Ты т-только Кампанеллу в-выставь за дверь… А то он всё п-понимает…
Смерть уже отмерила свой срок: оставалось два года. Даже меньше. Поэтому Жданов торопился, суетился, напряженно работал. Хотел всё успеть. Обогнать время, обогнать Берию… Или наоборот? Он хотел всё успеть: напряженно работал, суетился, торопился, и потому ему осталось два года? Даже меньше. Где конец? Где начало? Разобраться невозможно, и, уходя от ответа, люди темнят: причинно-следственные отношения…