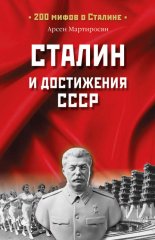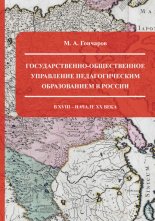Петух в аквариуме – 2, или Как я провел XX век. Новеллы и воспоминания Аринштейн Леонид

– Сожгла? – Час от часу не легче, Ларька внутренне матюгнулся: тетка уже пошла книги жечь! – Да ты что?
– Да, сожгла. Ты что, ничего не знаешь? У нас тут политсеминар был по идеологическим вопросам. У-у! Оказывается, он – подонок, сотрудничал с немцами. Понимаешь?
– Что-то ты путаешь. Как он мог с немцами сотрудничать? Он же всю войну в Алма-Ате был.
– Ну и что, – нисколько не смутилась тетя, – в Алма-Ате и сотрудничал.
– Но немцев-то в Алма-Ате не было! – Ларьке сегодня немного надо было, чтобы завестись. – Алма-Ата, это знаешь где? Наша доблестная Красная армия немцев туда не пустила. Понимаешь? Не пус-ти-ла. Грудью отстояла славную столицу Киргиз-Кайсацкия орды…
– Конечно, ты всегда всё за всех лучше всех знаешь! А у нас политсеминар проводил, между прочим, инструктор Петроградского райкома товарищ Зюканный! Вот. Наверное, получше тебя проинформирован!
– Инструктор райкома?
– Райкома партии.
– И прямо так вот и сказал: сотрудничал с немцами?
– Прямо так и сказал.
– А в Постановлении ЦК партии – органа куда более авторитетного, чем какой-то там райком, – сказано: Зощенко был в Алма-Ате и ничем не помог советскому народу в борьбе с немецкими захватчиками. Разницу улавливаешь? «Ничем не помог», а не «сотрудничал с немцами». – Ларька оперировал фразой из доклада Жданова, а не из Постановления ЦК, но в смысле воздействия на тетю авторитет Постановления был выше, и ради этого можно было допустить маленькую неточность. Ан не тут-то было!
– В газетах Постановление ЦК было опубликовано не полностью. Там есть еще секретные пункты, которые доводятся только до работников обкомов, горкомов и райкомов. Раз товарищ Зюканный сказал, значит, там был такой пункт: сотрудничал с немцами.
Да, уж если тетя Мария что-то втемяшет себе в голову… «Вот, говорит, портрет известного Марата, работы, ежели припомню, Мирабо…» Он подумал, что вот так же Антонина Тихоновна отчаянно молила своих судей понять, что не сотрудничала она с немцами, что и немцев-то у них в деревне не было. И, как сегодня выяснилось, с тем же успехом… А ведь тетя Мария добрый человек. Правда, глупа. Отец пошутил как-то, что ее доброта уступает только ее глупости… Глупости – это он мягко сказал. Тупости. А тупость подминает доброту. Уничтожает ее. Такие вот «добренькие» тупицы, которые и рыбок подкармливают, и голубей, половину населения загробят по идейным соображениям. И будут блаженно улыбаться: «Мы добренькие, мы праведные, мы справедливцы».
– Ну ладно, сожгла так сожгла, что уж теперь говорить. – Он вышел из тетиной комнаты, прошел к себе, плюхнулся на постель. Боль, обида, тупость тети, которая искренне верила, что Зощенко, находясь в Алма-Ате, сотрудничал с немцами; тупость Таси, которая за койку в общежитии ежедневно перетаскивала ведрами полторы тонны какого-то таинственного «состава»; собственная непроходимая тупость, из-за которой он потерял Тасю, – всё это сплелось в какой-то давящий ком, распиравший теперь изнутри его голову. Да, так можно сойти с ума! И вообще, пора кончать с этим комплексом Дон Кихота: всех защищать, всех жалеть…
Что-то жесткое лежало на кровати: кулек с пряниками, подаренными Тасей. Он взял один. Машинально сжевал. Потом другой, третий. Заставил себя встать, пошел умылся. Сейчас вернулся бы кто из ребят, пойти бы выпить как следует… Но ребята что-то не торопились возвращаться из армии, а новых друзей пока не было. Не надираться же, в самом деле, в одиночку! Однако и перспектива сидеть дома, выслушивая тетины глупости, была не лучше. Он оделся и вышел на улицу. Дворовый пес по кличке Сержант радостно завилял хвостом. И не зря: Ларька отдал ему оставшийся пряник, за что Сержант проводил его через Таврический сад до Потемкинской.
Ларька шел, не очень-то задумываясь, куда он направляется, когда вдруг обнаружил, что ноги привели его на Московскую-Товарную. Он подошел к двери, за которой некогда находилась Тася и на которой теперь висел большой амбарный замок, пнул ногой кусок сколотого льда, отлетевшего вследствие этого метров на двадцать, и пошел прочь.
– Эй, приятель! – Он оглянулся. Паня в своем дворницком балахоне скалывала лед у соседнего склада; он ее сразу и не заметил. – Ну что, все ищешь вчерашний день?
Ларька остановился. Тогда, осенью, когда Паня откровенно позвала его к себе, он под каким-то предлогом отказался, и встреча с нею была ему не так чтобы приятна.
– Слушай, Паня, – сказал он вдруг неожиданно для себя. – Хватит тебе тут в воскресенье лед долбать. Пошли посидим где-нибудь в кабаке.
– В кабаке, в кабаке, – передразнила Паня. – Давай вон лом возьми да помоги лед обколоть с рампы. Возьми рукавицы… А там, может, и пойдем.
– Не. Неохота мне сегодня вкалывать. Не хочешь – сам пойду.
– Ну и катись к… в свой кабак… Сам. Уж больно гордый. Ну да ладно, – сменила вдруг она тон, – пойдем.
Ларька нарезался до предела. Вдребадан. Подробности этого мероприятия почти полностью испарились из его памяти, и лишь отдельные детали вспыхивали в мозгу с ясностью необычайной. Начали они вроде бы прилично: взяли бутылку розового и по двести граммов. Потом, потом… Позвякивали миги… Звенела влага в сердце. Играл какой-то маленький оркестрик… Дразнил, значит, зеленый зайчик в догоревшем хрустале. Трезвонил трамвай, расшвыривая его на поворотах в разные стороны. В конце концов он оказался в Паниной комнате. Во всяком случае, к такому выводу он пришел, проанализировав обстановочку, после того как проснулся на следующий день в чьей-то незнакомой постели. Явно не своей.
«Вытрезвитель», – была его первая мысль. Но, взглянув на аккуратные занавески на окне, приличного вида одеяло, шкаф, печь, стол, тумбочку с пудрой «Белая ночь» и духами «Кармен», он сообразил, что находится во вполне жилом помещении. Продолжая ознакомительный обзор, он обнаружил, что на фотографиях, щедро развешенных по стенам, многократно повторялась физиономия Пани – неизменно улыбающаяся. Следующим открытием был будильник. Вернее, обозначенное им время – половина второго, то есть тринадцать тридцать. «Что-то я должен был сделать в тринадцать тридцать, – напряг память Ларька. – Ах да, поезд!»
Действительно: именно в это время с Витебского вокзала отходил поезд № 31, на котором Ларька, согласно приобретенному билету, должен был сегодня отправиться в Киев. Дело в том, что еще летом госпиталь, где служил Ларькин отец, снялся с насиженного места в Лигнице и после долгих странствий осел, наконец, в Киеве. Отец съездил в Казахстан за мамой и бабушкой, семья понемногу обустроилась, и теперь ждали в гости Ларьку.
«Вот уж не повезет, так… – Он схватил будильник, поднес к уху: тикает. – Неужели в самом деле половина второго?» Он поднялся, натянул брюки, вышел в коридор.
Комната Пани, как он убедился, находилась в дощатом бараке. В коридор выходило еще несколько дверей; одна из них вела в кухню, где стояли три стола – по числу семей в отсеке, – на которых возвышались керосинки, электроплитки, примуса, кастрюли и прочие реалии кухонного быта. На лавке у окна стояли полупустые ведра с водой, из чего следовало, что водопровода в бараке нет и туалет надо искать во дворе. Ни Пани, ни соседей не было видно, хотя из-за одной двери доносился стук швейной машинки, а из-за другой – приглушенный плач ребенка.
Необследованными оставались две двери: одна оказалась входной, другая вела в кладовочку, где висели три рукомойника и гирлянда тряпок и полотенец. Ларька вышел во двор и по натоптанной дорожке легко определил местоположение туалета. На обратном пути его внимание привлекла ветхая старушка в огромных валенках и в синей фуфайке. Старушка рубила дрова – вернее, ударяла колуном по колобяке, отчего последняя нисколько не раскалывалась.
Жалобная эта картина взбодрила в Ларьке пресловутый комплекс Дон Кихота. Он отобрал у старушки колун и стал пристраивать под удар колобяку. Старушка отрешенно следила за молодцеватыми Ларькиными приготовлениями, ожидая, судя по ее виду, что непонятный этот человек сейчас отрубит ей голову. Всё то время, пока Ларька превращал кругляк в поленья, старушка продолжала пребывать в недоуменном оцепенении с полуоткрытым ртом и скорбными глазами. Когда же Ларька принялся за второй кругляк, она куда-то засеменила, но вскоре появилась, перекатывая впереди себя еще один кругляк.
Когда Ларька разделался со всеми тремя кругляками, старушка вытащила из карманчика смятую рублевку, подержала в руке, порылась в другом карманчике, извлекла из него копеек двадцать медью и протянула всё это Ларьке. Ларька стал пояснять, что денег он не берет, и хотел уже зайти в дом, как перед ним невесть откуда возник щупленький старик:
– Ты бы и мне дров нащепал, а, солдатик? Рука у меня сухая… Ты по скольку берешь за куб? А, солдатик?
Ларька огляделся. Старушка всё еще стояла, вытянув руку с рублевкой и медью. Он вздохнул:
– Ладно, дорого не возьму. Где дрова-то?
Старик засуетился, схватил Ларьку за рукав и потащил к сараю в глубине двора.
Ларька выбрал несколько кругляков покруче, подкатил к колоде, взял стоявший в сарае колун – тяжелее старушкиного и лучше заточенный – и за полчаса наколол груду дров.
– Всё, папаша. Остальные в следующий раз. Сейчас времени нет. – Старик протянул ему треху, от которой Ларька отказываться не стал, посчитав, что если в бараках увидят, что он колет дрова бесплатно, его вообще отсюда не отпустят.
Пока он умывался, вернулась Паня:
– Ну, ожил? А я думала, до вечера не проспишься! И тяжел ты, брат: что твой куль с мукой. Сейчас что-нибудь перекусим. Я тут и на опохмелку принесла. – Она выгрузила из сумки две поллитровки и изрядное количество разной снеди, приобретенной явно в коммерческом магазине[21].
Ларька подумал, что вообще-то ему пора бы идти, но обижать Паню… Однако тут же поймал себя на мысли, что он с собой лукавит, и уходить ему в действительности не хочется.
– А ты что, не работаешь сегодня?
– Почему? Я пораньше вышла, всё там чин чина-рем, марафет навела… Ушла на часок пораньше, так в другой раз я до ночи убираюсь.
Он помолчал, пытаясь восстановить события минувшей ночи: было между ними что-нибудь или он просто проспал подле нее, как она выразилась, «как куль муки»?
– Это твой муж? – Он показал на фотографию молодого человека с мужественным открытым лицом.
– Это отец. Был машинистом. Погиб молодым, еще до войны. Попал в крушение. Вредители подстроили. А муж вот. – Она показала на фотографию человека с простецким и гораздо менее привлекательным, чем у отца, лицом. – Мы поженились в тридцать девятом… Трех месяцев не прошло. В Финскую его. Вот похоронка… Читай: «Геройски погиб при прорыве линии Маннергейма в районе нас. пункта Ранталла». А это мать, она в блокаду… Это младшая сестра – на Урале живет. То брат: он жив остался. Сейчас в военном училище в Тамбове. То – я. Красивая?
– Ничего…
– Ничего-ничего. Ничего – пустое место. Да и то врешь. Ночью-то ко мне и не повернулся… Я к нему передом, а он ко мне задом. – Ларька удивленно смотрел на Паню: такой резкий скачок от глубокого человеческого горя к откровенному цинизму был для него неожиданностью. «Заодно и на мой вопрос ответила», – усмехнулся он про себя.
– Ладно, ты тут музыкой побалуйся, а я на кухню. – Она вытащила откуда-то из-под стола старый патефон, достала пластинки и исчезла.
Он посмотрел пластинки: Кэто Джапаридзе, Вадим Козин, Эдди Рознер, Утесов, «Рио-Рита», «О, Джовена». Выбрал «Китайские фонарики» и, слушая, стал снова разглядывать фотографии. Паня заскочила в комнату, пританцовывая в ритме патефонного фокстрота:
– Ладно, пока там варится, давай по маленькой…
Развеселилась, потащила Ларьку танцевать на микроскопическом пятачке между столом, нарами, шкафом и тумбочкой. После второй стопки поставила пластинку с частушками и стала подпевать:
- И-эх, дайте лодочку-моторочку,
- Мотор-мотор-мотор!
- Ды перееду на ту сторону,
- Игде мой милай-ухажер!
Дальнейший текст Паня выдала уже в полном отрыве от того, что напевал патефон: в ее варианте, – надо сказать, крайне нецензурном, – основной упор делался на подробностях того, что происходило между «милым-ухажером» и, так сказать, лирической героиней частушки… С последней Паня себя явно отождествляла: распевая, она уселась к Ларьке на колени и в качестве заключительного аккорда крепко поцеловала в губы. Впрочем, тут же спохватилась: «Картошка!» Выскочила на кухню и вернулась с дымящей кастрюлей, весело напевая непристойную частушку насчет разбитного зятька, который, проходя мимо тещиного дома, каждый раз демонстрировал ей свое всяческое неуважение.
Картошку Паня поставила на стол, затем нашарила под нарами банку соленых грибков и маринованных огурцов с помидорами.
– И-эх, огурчики ды помидорчики, – запела она при этом, – ды Сталин Кирова убил, ды в коридорчике!
– Да заткнись ты, – возмутился Ларька. – У вас же здесь стены бумажные, всё слышно.
– А чего мне? Пускай слушают. Все и так знают…
– Знают, да молчат.
– Кто молчит, а кто и кричит… Это вас, фейдеров да бар, просто засадить. А мы нар-род: нам всё можно! – Она хватанула полстакана водки, закусила картофелиной с огурцом и, явно Ларьке назло, загорланила политические частушки, да такие, что каждой хватило бы схлопотать десять лет…
– Ну и чего мы сидим, как на именинах? – Ларька решил, что это единственный способ заткнуть ей рот. – Айда в постель! А то опять споишь так, что засну, как колода!
– Это дело! Это дело! – пританцовывая, проскандировала Паня. Она выключила свет, мигом разделась и, не удосужившись запереть дверь или задёрнуть занавески, взяла Ларьку за руку и потянула за собой на нары.
В половине шестого утра Паня была уже на ногах. После такой-то ночи… Ларька проснулся и теперь силился оторвать голову от подушки, так как понимал, что если он сейчас не встанет и не уйдет вместе с Паней, то в Киев он так и не попадет. А ведь отец и мать сегодня вечером придут встречать 31-й поезд… Дела-а!
– Послушай, Паня… Да зажги ты свет, я больше спать не буду… Понимаешь, как неладно вышло, я вчера поезд проспал. Мне тут суток на несколько надо в Киев.
– А что ты забыл в Киеве?
– Родители. Я их после войны не видел еще. Отец только из Германии, мать из эвакуации.
– Так что пожить со мною не хочешь… Не боись, не оженю…
– Да не в том дело. Думаешь, обманываю? Вот смотри, билет. – Он порылся в вещах, протянул билет Пане.
Паня внимательно билет разглядела и, кажется, начала входить в его положение:
– Ну вставай, собирайся, раз так…
– Я как вернусь – прямо к тебе.
– Поглядим… Ладно, тебе еды в дорогу собрать? – Она смахнула слезинку с ресницы.
– Не надо. Не в голодный же край. К родителям.
– Смотри…
Они вышли вдвоем в черную ночь. Соединявшее их тепло быстро растворилось в промозглом воздухе, и к трамвайной остановке они подошли уже совершенно чужими, одолеваемые каждый своею собственной заботой.
Ларька начал с того, что поехал на Витебский вокзал, где попытался обменять вчерашний билет на сегодня. Из затеи этой ничего не получилось, и он решил лететь самолетом: ведь ждут его сегодня, значит, надо сегодня и прибыть! Он съездил на Таврическую, быстро собрался и отправился в аэропорт, на Ржевку. Самолет на Киев вылетал через два часа, но билетов на него не было. Впрочем, как выяснилось, денег на билет у Ларьки все равно не набиралось.
Сделав это открытие, он пригорюнился, но, вспомнив доброе фронтовое правило, что нет такой ситуации, из которой нельзя найти выхода, стал мыслить именно в этом направлении. Первой светлой мыслью было найти пилота и уговорить взять его, Ларьку, в кабину. Первую часть замысла (найти пилота) он осуществил довольно легко и, вдохновленный этим обстоятельством, приступил ко второй:
– Простите, пожалуйста. У меня тут неприятность вышла: у меня билет на скорый киевский поезд, мягкий вагон, – он протянул летчику билет, – но я на него опоздал. А в Киеве меня очень ждут… Не мог ли бы Вы взять меня на самолет? Мягкий вагон стоит дороже самолетного билета, и государство внакладе не будет…
Пилот даже не дослушал Ларьку:
– Без билета не имею права. Если после регистрации останутся места, Вы сможете купить билет. В порядке очереди… А так – исключено.
«У, гад, – пробурчал себе под нос Ларька: он терпеть не мог «законников», которые за общими принципами не хотели видеть отдельных людей и разбираться в конкретных ситуациях. – А в общем, виноват я, конечно, сам: поезд проспал, деньги пропил… Но лететь-то надо! Попробовать, что ли, проканать в самолет мимо контролера? А там уж найдется местечко…» Ободренный этой идеей, он решил изучить, как происходит посадка в самолет.
Очень скоро он убедился, что процесс этот нелеп до чрезвычайности. Пассажиры, еще в зале, предъявляли билеты для регистрации миловидной девушке, которая отрезала от билетов какой-то талон и вручала его владельцу бирку. Чтобы пройти в самолет, требовалось сдать бирку контролеру: ничего другого пассажиры не предъявляли. Таким образом, проблема перемещения по воздуху в Киев однозначно сводилась к добыче бирки. Последнее совсем уж не представляло труда: девушки то и дело уходили к самолетам контролировать посадку, оставляя бирки на своих столах без всякого присмотра.
Ларька дождался, пока обе девушки вышли на летное поле, и спокойно взял со стола несколько бирок: синюю, красную, желтую, зеленую… Особых угрызений совести он не испытывал: в конце концов, у него был билет, бесплатно выданный по орденской книжке, на что он имел право раз в год. Вот он и пользуется этим правом: самолет прилетит в Киев в то же самое время, когда придет поезд, на который ему выписан билет. Разве он кого-нибудь обманывает? Нет, конечно!
Миловидная девушка-регистратор вернулась к стойке, бросила на стол возвращенные при посадке бирки и устало опустилась на стул. Ларька заметил, что она сняла при этом свои туфельки-«лодочки» и несколько раз попеременно подвигала то левой, то правой стопой. Да. Сколь ни безупречны его рассуждения, а эту-то конкретную девушку в «лодочках» он все же надул… упер у нее бирки… Не у дежурного на Витебском вокзале, не у бюрократа-пилота, а именно у нее – самой наивной и незащищенной. Оттого-то она и бирки оставляет без присмотра… Вот тебе и комплекс Дон Кихота! Но лететь-то надо! «И-эх, дайте лодочку-моторочку, мотор-мотор-мотор!» Он почувствовал себя крайне неуютно.
– Извините. – Он подошел к стойке. – На Киев Вы будете билеты регистрировать?
– Да, только чуть позже.
Ларька посмотрел на кучку бирок на столике. «Чего это я раскис? Увидал смазливое личико и только что не раскололся: ах, простите, ах, извините, я у вас четыре бирочки увел! Да черта лысого ей в этих бирочках, копейки не стоят. Овеществленное, зал бы Маркс, право на полет… А право это у меня есть». – Он отошел к креслообразной скамейке для ожидания, сел и почти сразу задремал.
Сквозь сон ему чудилось, что он вернул бирки девушке в «лодочках». Девушка отчаянно завизжала: «Кот Васька – плут! Кот Васька – вор!» Откуда-то выскочил рыжий кот, стал за стойку, как за трибуну, причем оказалось, что будто это и не кот вовсе, а пилот-бюрократ, и заорал: «Подонок! Подонок! Зощенко – подонок!» – и стал швырять в Ларьку туфли-«лодочки». «Довольно, – громовым голосом сказал Ларька, и по обе стороны от него выросли невесть откуда пес Сержант и кот Кампанелла. – Стыдно мне пред гордою полячкой… Есть у меня билет! – Он вытащил из кармана пачку билетов и швырнул их девушке. – Вот! Эти летят со мной. – Он показал на Сержанта и Кампанеллу. – И эти тоже». – Королевский жест в сторону очереди. – «Не имею права! Не имею права! – заверещал пилот. – Самолет не выдержит! Не выдержит! Рейс на Алма-Ату отменяется!..»
– Рейс на Алма-Ату отменяется в связи с неприбытием самолета, – разбудил его голос в репродукторе. – Регистрация билетов на рейс номер… Ленинград – Киев закончена. Граждан просят пройти налетное поле для посадки в самолет.
Ларька стряхнул с себя остаток сна и, затесавшись в косяк киевских пассажиров, прошел на летное поле. У трапа он достал зеленую бирку – такого же цвета, что и у других пассажиров, – отдал ее девушке в «лодочках» и беспрепятственно прошел в самолет.
– Садитесь на свободные места, – объявил бортпроводник. Ларька подождал, пока основная масса пассажиров рассядется, и сел на свободное место в хвостовой части самолета. – «Ладно, – решил он, – вернусь, начну новую жизнь!»
Прошел год. Может быть, с небольшим. За это время случилось множество самых разных событий. Катинька, например, перешла на четвертый курс. В ЦК ВКП(б) состоялась философская дискуссия, а потом еще и совещание деятелей советской музыки. В тёти-Марииной коммуналке соседская болонка Феня родила щенят: трех болонок и фокстерьера. Ларькин отец приезжал из Киева: ему был обещан ордер на площадь в Ленинграде. Газета «Культура и жизнь», выходившая уже более полутора лет, изобретательно и исправно громила всех, кто сочинял приличные романы, ставил хорошие спектакли, создавал современную музыку, писал нормальные труды по истории, философии, литературе…
К этим событиям мы со временем вернемся. А сейчас мы находимся в начале апреля сорок восьмого. Что там? Вечереет. Ларька сидит в своей комнатушке. На коленях у него чудо современных мутаций – щенок-фокстерьер. Одной рукой Ларька щекочет щенку брюхо и одновременно окунает палец другой руки в банку со шпротами; затем он протягивает палец фокстерьеру, и пока тот слизывает масло, елозя по пальцу теплым шершавым язычком, Ларькина мысль воспаряет ввысь: «Все-таки, – размышляет он, – мир устроен довольно-таки гармонично, и доминирует в нем, в сущности, справедливость, добро и любовь…»
Впрочем, Ларька нас пока не интересует. Просто мы не совсем точно сфокусировали магический кристалл, и он скользнул по оси романного времени на два часа вперед. Подправим. Вот: Малый зал филологического факультета. Подходит к концу Ученый совет, на котором страдает Катинька и которым открывалась первая часть нашего повествования. Уже выступили с покаянными речами («ошибались», «недодумали», «исправимся») членкоры, академики и просто профессора, и уже подводит итоги сидящий в президиуме не-то-аспирант-не-то-ассистент с грубым мясистым лицом (прямо Калигула какой-то, думает Катинька), и пудовыми гирями сыплется на головы сидящих в зале членкоров, академиков и т. д. его речь:
– Редакционная статья в газете «Культура и жизнь» от 11 марта «Против буржуазного либерализма в литературоведении», – читает он по бумажке хорошо поставленным баритоном, – важнейший политический документ, определяющий программу действий советского литературоведения на многие годы… э-э… вперед… В статье дана принципиальная партийная оценка тому псевдонаучному направлению, у истоков которого стоял буржуазный либерал, непримиримый враг революционно-демократических традиций Александр Веселовский… К сожалению, нашлись горе-ученые и на нашем факультете, которые выступили в роли активных апологетов Веселовского. Академик Шишмарев, члены-корреспонденты Алексеев, Жирмунский, профессора Томашевский, Эйхенбаум, Пропп, Смирнов и некоторые другие пропагандировали в своих работах чуждые советскому народу взгляды, находились в плену враждебной нам идеологии. «Деятельность школы Веселовского, – устанавливает редакционная статья газеты «Культура и жизнь» от одиннадцатого, как я уже сказал, марта, – является проявлением того низкопоклонства перед иностранщиной…»
Калигула переместил лист, откашлялся и продолжал:
– «До сведения правительства дошло, что проживающий в Петербурге надворный советник Мухин читал в одном из здешних трактиров изданные заграницей сочинения преступного содержания. Произведенным исследованием и собственным сознанием Мухина сведение это подтвердилось, а потому он выдержан под стражей и выслан из Петербурга в одну из отдаленных губерний под строгий полицейский надзор…» Э-э… почему полицейский? Извините, товарищи, это сюда по ошибке вкрался лист из моей диссертации… Да, выписка… выписка из «Ведомостей Санкт-петербургской полиции» от 28 января 1858 года, извините, ради Бога, я продолжаю… Мы должны безжалостно разоблачать… выкорчевывать из наших рядов… таких… сяких…
Далее Катинька уже ничего не слышала. У нее звенело в ушах, и всё слилось в сплошной звон и гул: разоблачать – выкорчевывать… выкорчевывать – разоблачать… «Дурдом какой-то, фантастика», – подумала Катя, глядя, как Калигула широко открывает рот, не издавая при этом ни звука…
Наконец, Совет кончился, все стали выходить. Катинька, с трудом поднявшись со стула, тоже вышла в коридор и остановилась, прислонившись к стене, не чувствуя в себе сил двигаться дальше.
– Что с Вами? Отчего Вы такая бледная? – услышала она рядом голос Папиосика. Он бережно взял ее об руку, провел по коридору, усадил в кресло.
– Сейчас принесу воды. – Он куда-то исчез, вернулся с полным стаканом и поднес его к Катиным губам. Катя попыталась сделать глоток, но вода была несвежая, из какого-то застоявшегося графина, и она плотно сжала губы, а в голове ее вспыхнула озорная студенческая песенка: «А ты не пей! А ты не пей из унитаза!»
– Сидите здесь. Я пойду в буфет, может быть, у них еще есть чай. – Он суетливо ринулся выполнять свое намерение, но в дверях столкнулся с Калигулой.
– А, Валерий Иванович! Ты здесь. Забеги ко мне на секунду.
Калигула отпер дверь в перегородке, разделявшей помещение на две неравные части: меньшую, где сидела Катя, именовавшуюся почему-то «предбанником», и большую – партбюро, куда последовал за Калигулой Папиосик.
– Ну как тебе показалось, – услышала Катя за перегородкой торжествующий баритон Калигулы, – ничего прошло, а?
– Да вроде всё в порядке, – ответствовал голос Папиосика.
– Порядок… Порядок в танковых частях… Но это всё полдела. Даже четверть. Мы все эти их выступления заставили сдать нам в письменном виде. Видишь? С подписями… Хорошо придумано, а? Вот Жирмунец… Что он тут накалякал? – Калигула что-то забормотал, чего Катя не услышала, но затем стал читать громко:
– «…Я и некоторые мои товарищи совершили ошибку, когда ориентировали советское литературоведение на наследие Веселовского…» Та-ак. «Либеральный буржуазный космополитизм… абстрактная ученость… обернувшаяся в демагогическом использовании американских империалистов реальной угрозой свободе и национальной независимости народов всего мира… Свою позицию в дискуссии о Веселовском я должен признать неправильной в политическом, а следовательно – и в научном отношении». – Порядок! Что тут у нас еще? Алексеев, Шишмарь, та-ак, Смирнов, Проппик, Томашевич, Ерёма, Эйхенбашка… Ты смотри, смотри, что он пишет! «Статья в газете "Культура и жизнь" выяснила политическую сущность… Ориентация на Запад, где наука будто бы существует… Такова природа многих наших заблуждений – того, что теперь справедливо называют нашим "формализмом", "либерализмом", "космополитизмом", "низкопоклонничеством перед Западом"… Таково происхождение и моих ошибок в работах о Лермонтове и Толстом…» Так вот. Мы с тобой все эти их «признательные показания» отправим куда следует, понимаешь? Ну, как отклики на статью 11 марта. Вместе с решением партсобрания о мерах… Думаю, это нам зачтется где надо. И сильно зачтется! Статья-то сверху, о-хохо с какого верху! Понятно?
– Понятно… Только я думаю, может, лучше послать не сами письма, а решение Совета и краткую информацию, что на Совете выступили такие-то, так-то и так-то. Можно с цитатами…
– Ну что ты! Неужели не петришь? Это же золотой материал! Знаешь, чего стоило выудить у них эти грамотки? «Культура и жизнь» – это же не просто так! Там не реляции наши нужны, а подлинные покаянные признания тех, кого они лягнули в статье!
Оба замолчали. Потом вновь затрубил баритон Калигулы:
– Давай так. Пошлем. Сопроводиловку напишу я сам. А потом проинформирую партбюро. Ты меня, надеюсь, поддержишь?
Папиосик промямлил чтото невнятное, но при последних словах Катя неслышно выскользнула из «предбанника» и направилась к раздевалке. Минут через пять в вестибюле показался встревоженный Папиосик.
– Куда же Вы исчезли?
– Мне л-лучше. Я п-пойду потихоньку.
– Нет-нет. Я Вас так не отпущу. Идемте выпьем чаю… – Он почти силой увлек ее в буфет, напоил чаем, попутно выяснив, слышала ли она его разговор с Калигулой: получалось, что она вроде бы сразу ушла из «предбанника» и ничего слышать не могла…
Они вышли на улицу. Папиосик увязался ее провожать, но, дойдя до Румянцевского скверика, Катя стала прощаться: «Мне недалеко, пройдусь одна, спасибо». Однако домой Катя не пошла. Как только Папиосик скрылся, она села на трамвай и поехала к Ларьке.
Когда Катя пришла, Ларька сидел в своей комнатушке и занимался… Собственно, мы уже знаем, чем он занимался: совал щенку намасленный палец, чтобы тот слизывал с него шпротное масло. Приход Кати не был неожиданностью. Еще утром в университете она сказала Ларьке, что Папиосик пригласил ее на разгромный Ученый совет по поводу статьи в «Культуре и жизни» о Веселовском и его последователях. Условились, что если Совет не слишком затянется и она не очень устанет, то они встретятся.
Дело в том, что Совет этот был не первым звеном в цепи мероприятий, стимулированных пресловутой статьей. За неделю до Совета прошло факультетское партсобрание с той же повесткой дня, на котором Ларька, естественно, присутствовал. На собрании сразу же обозначилась тенденция «громить маститых», что необычайно взбодрило мелкую шушеру, из числа любителей половить рыбку в мутной воде. Поэтому одни выступавшие попросту сводили счеты с нелюбезными их сердцу или чем-то когда-то не угодившими им шефами; другие расчищали места, которые рассчитывали занять сами.
Все мало-мальски порядочные отмалчивались, а некоторые даже позволяли себе высказывать неодобрение происходящим. Так, «коммунистка О. Шведе-Васильева, – мы цитируем отчет о партийном собрании по газете «Ленинградский университет» № 13 (635) от 7 апреля 1948 г., – которой указали на недостойность ее "молчальничества", заявила (о В. Ф. Шишмареве. – Л. А.): «Это же мой учитель, и неудобно было его обижать резкой критикой»».
«Всеобщий отпор вызвало выступление аспиранта И. Лапицкого, который, лавируя и осторожно критикуя ученых не нашего университета, абсолютно ничего не сказал о недостатках научной и производственно-воспитательной работы своей кафедры (древнерусской литературы. – Л. А.)… Туманно и витиевато говорили аспиранты Б. Раскин и Ю. Левин…» (Там же).
Туманно и витиевато… Это значит – не позволила людям совесть напраслину возводить… Так, наверное?
После столь неудачного партсобрания было срочно созвано расширенное заседание партбюро (попал на него и комсомольский лидер Ларька), и строжайшим образом расписано, кто и как должен выступить на предстоящем Ученом совете. Так что ничего хорошего от Совета Ларька не ждал.
Сбивчивый рассказ Катиньки подтвердил самые худшие опасения: профессуру смешали с грязью. Выступления власть предержащих откровенно готовили к тому, что, по крайней мере, некоторых профессоров уберут из университета, а может быть, и посадят как антисоветчиков и пособников американского империализма. Неясно только, кто будет преподавать. Не шавки же, которые ярились громче других. Впрочем, незаменимых у нас нет…
Катя была вся красная, волновалась, заикалась сильнее обычного, и Ларька, пытаясь ее успокоить, сказал:
– Ладно. Всё. Поговорили – и хватит об этом.
– Я н-не сказала с-самого г-главного. Н-не перебивай меня. Т-ты п-понимаешь, что они задумали? Они заставили всех п-профессоров написать п-покаянные письма, в которых они от-трекаются от Веселовского и только что н-не признаются в антисоветской деятельности, и хотят п-послать эти п-письма то ли в газету «Культура и жизнь», то ли прямо в КГБ. Т-ты п-представляешь, какой ужас!
– Откуда ты знаешь? Папиосик сказал? – Ларька вспомнил, что на партбюро такой уж слишком скверный поворот событий не предусматривался. Чья-то самодеятельность.
– Н-нет. Он н-ничего не сказал. Я слышала его разговор с К-калигулой, п-после Совета. Калигула х-хвастал, к-как он з-здорово придумал, Папиосик его сначала отговаривал, а п-потом согласился.
– И Папиосик тебе ничего не сказал?
– Н-ни слова. Он же н-не знает, что я все слышала. Я сидела в п-предбаннике, а они разговаривали в п-партбюро и м-меня не видели. П-потом я ушла. – Катя замолчала и испытующе смотрела на Ларьку. Тот тоже молчал.
– Ларька, милый, – прервала вдруг затянувшуюся паузу Катинька, – н-надо что-то сделать, чтобы эти п-письма исчезли. В-ведь их всех арестуют… Если м-мы это допустим, мы п-потом всю жизнь не отмоемся. Мы будем стыдиться смотреть д-друг другу в глаза, б-будем стыдиться, что учились в этом п-проклятом университете…
– А что же можно сделать?
– Ну как что. Т-ты же воевал, т-ты же все можешь! Д-давай похитим у них эти п-письма!
– Похитим? Ну, ты… – Ларька вдруг рассмеялся. – Ты же недавно доказывала, что нравственность абсолютна, что заповеди «не убий», «не укради» безусловны в любой мыслимой ситуации.
– А эта ситуация – н-немыслимая. Т-ты ведь убивал на войне? И п-правильно убивал. П-потому что война была священная: те, кто напал на нас, попрали в-все з-законы – Божеские и человеческие. А сегодня эти законы попрали К-калигула и т-те, кто за ним стоит. И, если нам удастся от-тобрать у них эти письма и с-спасти ни в чем не повинных л-людей, – пусть ценой к-кражи, – это будет священная к-кража.
– Священная… Между прочим, и книга насчет «не убий» и «не укради» тоже священная. А уж война, на которой угробили десять миллионов… уж куда священнее. Всё это, Катинька, слова, слова, слова. – Ларька всю прошлую неделю слушал лекции профессора Александра Александровича Смирнова о Шекспире, и гуманистическая рефлексия Гамлета изрядно потеснила в его голове комплекс Дон Кихота. Всё же Дон Кихот оказался сильнее. – Ладно, в общем, не в том сейчас дело. Ты мне лучше толком скажи, что там конкретно в этих их письмах?
– К-как ч-что? Я же тебе с-сказала: т-то, ч-что они говорили в своих выступлениях – что они пособники американских империалистов, ч-что они в-всю свою жизнь п-писали антинаучные, антинародные труды…
– Какого же хрена они катят на себя всю эту напраслину?! – Ларька вспомнил оперуполномоченного Державца, который положил перед ним лист бумаги и предложил написать «признательные показания» как он избивал начальника курса… Ларька тогда отвертелся, а эти?
– К-как… их же з-заставили…
«Ох уж эта наша интеллигенция…» – возмутился Ларька, но вслух ничего не сказал, а только со злостью ткнул палец в банку со шпротами и дал его облизнуть щенку.
Впутываться в эту историю ему ох как не хотелось. Малейшее подозрение – и он загремит лет на десять. Плюс пять, обещанные Державцем. С КГБ шутки плохи, а то, что Калигула действует в контакте с органами, сомневаться не приходилось. Но с другой стороны, представить, как эти… будут допрашивать Александра Александровича Смирнова, Михаила Павловича Алексеева…
– Послушай, а твой Папиосик не может как-то разрядить ситуацию? Ведь на партбюро о таком повороте событий… – он не договорил, понимая, что Калигуле наплевать и на партбюро, и на Папиосика, и уж если он сумел заставить профессоров написать всю эту чушь, то заставить членов партбюро одобрить его, Калигулы, действия большого труда ему не составит.
– 3-значит, ты н-ничего сделать н-не хочешь? – услышал он глухой голос Катиньки.
– Может, и хочу… – Ларька никак не мог отогнать от себя мысль о возможном аресте Смирнова и Алексеева. Других профессоров он знал меньше. – Может, и хочу, – повторил он, – хотя наша профессура могла повести себя более достойно. Но, честно говоря, я плохо себе представляю, что можно сделать.
– П-поехали в университет. Там на м-месте что-нибудь п-придумаем.
Ларька задумался. Он представил себе комнатку партбюро: небольшой письменный столик, за которым принимали партвзносы, другой стол, стоявший перпендикулярно к нему; видавший виды простецкий книжный шкаф, небольшой сейф. Всё. Письма, если то, что говорит Катинька – правда, Калигула, конечно, положил в сейф. Это хорошо. Ларька как-то видел, как Калигула доставал ключ от сейфа не из кармана, а из ящика письменного стола. Если ключ и сейчас там… Ящик, понятно, заперт, но открыть его несложно, достаточно стамески и куска замши, чтобы его отжать, а вот как зайти незамеченным в предбанник, а оттуда в запертую на ключ комнату партбюро…
– Ладно, поехали.
Он сунул в сумку к Катиньке стамеску, положил в карман кусок замши и тонкие тётины перчатки (пахнут каким-то дрянным одеколоном, но это даже к лучшему), подошел к тайничку, где хранился его трофейный браунинг, но доставать его не стал и, махнув в сторону двери рукой, повторил уже более решительным тоном:
– Поехали!
В университете никто не обратил на них внимания. Шел седьмой час, занятия еще не кончились, одни студенты выходили, другие заходили. Обычная вечерняя суета. В предбаннике какая-то группа – пять или шесть человек – занималась испанским языком. «Эшта эшт уна мешша», – шепелявил один из них. «Первокурсники», – определил про себя Ларька, и хотя это открытие ничего ему не давало, он почему-то почувствовал в себе радостную уверенность. «Запирают они предбанник на ночь или нет?» Ключа в двери не было видно. Само по себе это ничего не значило – ключ мог быть в кармане у преподавателя, у уборщицы, где угодно. Тем не менее, Ларька еще больше проникся уверенностью в грядущем успехе.
– Пошли отсюда, – повернулся он к Кате. – Не будем мозолить здесь глаза.
Они поднялись на второй этаж.
– П-пойдем пока в ч-читалку, – предложила Катинька.
– Не стоит. Если письма исчезнут, завтра же в читалке переворошат все формуляры: кто был вечером на факультете, что делал…
– Н-ну и ч-что? – изумилась Катя. – Т-тут ведь п-проходит уйма н-народу.
– Верно. Но одно дело народ, у которого сейчас по расписанию занятия, и совсем другое, если какие-то психи шляются по факультету, когда занятия у них давно кончились. Да еще зачем-то отсиживаются в читалке. Всё это, Катинька, нетрудно соотнести. Советские следователи, как известно, самые догадливые в мире.
Они уселись на подоконник и стали терпеливо ждать звонка.
– Ты вот что: подойди-ка к расписанию и взгляни, будут ли в предбаннике занятия после этих испанцев. А я потом к тебе спущусь.
Катинька неохотно сползла с подоконника, всем своим видом давая понять, что в поручении этом она не видит никакого смысла.
– К-какая разница, б-будут ли в п-предбаннике еще занятия или н-нет? Т-туда все время кто-нибудь з-заходит. – Тем не менее, она послушно отправилась на первый этаж к расписанию.
Прозвенел звонок, Ларька отправился вниз. В сутолоке массового перемещения студентов самое время было присмотреться к обстановке в предбаннике. Первокурсников там уже не было, и подошедшая Катя сообщила, что занятий там больше не будет – по крайней мере, по расписанию.
Ларик разглядывал предбанник. Вроде он был здесь десятки раз, но сейчас он замечал то, на что раньше не обращал внимания. Удивительно, как можно один и тот же предмет видеть по-разному! Оказывается, одна из перегородок, отделяющих комнатку партбюро от предбанника, не доходила до потолка, и между этой перегородкой и потолком зияла огромная дыра.
«Для вентиляции, что ли? Но вообще-то это сильно упрощает дело. Интересно, как это раньше я этой скважины не замечал… Так. Значит, ключ от партбюро не понадобится… Но тогда и ждать нечего».
– Катюша, быстро закрывай дверь. Сиди здесь, разложи какие-нибудь конспекты и никого сюда не пускай. Если кто захочет зайти – гони. Скажи, что у тебя консультация с профессором Жирмунским или что-нибудь такое. Если кто зайдет с ключом от партбюро, громко заговори с ним. Словом, напрягись и соображай. Я быстро!
Он надел перчатки, перебросил через перегородку стамеску, с разбегу ухватился за верх перегородки, быстро подтянулся и через секунду был уже в комнатке партбюро. Лампы в предбаннике, хотя и не очень яркие, освещали через щель и комнатку партбюро.
«Отлично! Свет можно не зажигать». Ларька поднял с пола стамеску, приладил к острой части замшевый лоскуток и стал осторожно отжимать вниз ящик письменного стола. Ящик заскрипел и легко открылся. В нем оказалось довольно много каких-то бумаг, и Ларька, стараясь не нарушить их расположение, стал осторожно шарить по дну ящика в поисках ключа от сейфа. Однако нащупать ключ никак не удавалось.
«Неужели же Калигула забрал ключ с собой. Тогда все сорвется. Вот это непруха!» Он стал шарить под и между бумагами с удвоенной энергией, уже не слишком заботясь о том, чтобы сохранить порядок их первоначального расположения. Но безуспешно.
«Придется зажечь свет, в этой полутьме ничего не найти». Он прислушался к тому, что происходит за перегородкой. Катя сидела тихо, шелестела бумагой, и вроде никто ее не беспокоит. Он зажег свет и вернулся к ящику, надеясь, что вот сейчас он наконец-то увидит ключ… но ключа не было. «Пора уходить. Долго здесь оставаться нельзя. Не получилось – значит, не получилось. Придется придумать что-то другое».
Он с тоской взглянул на проклятый сейф и чуть не упал со стула… «Что это? Мираж? Галлюцинация?» В замке сейфа торчал ключ! «Такого не может быть! Калигула – он же опытный, осторожный и крайне аккуратный… Неужели он мог допустить такой ляп? От удачи, что ли? Только бы мне сейчас не наделать от удачи таких же глупостей!»
Он подошел к сейфу, убедился, что перчатки надежно натянуты, и стал осторожно поворачивать ключ. В замке что-то щелкнуло. Он повернул рукоятку, потянул на себя, сейф открылся. На верхней полке лежала ведомость для уплаты партвзносов, печать, конверт с деньгами. На нижней – какие-то бумаги и папки. Быстро пролистав бумаги, Ларька убедился, что того, что он ищет, среди них нет. Он стал просматривать содержимое папок. В одной из них мелькнул знакомый бисерный почерк Михаила Павловича Алексеева. Ларька почувствовал, как застучало сердце. «Кажется, даже перед штурмом Кенигсберга я чувствовал себя спокойнее. Ни в коем случае нельзя давать волю нервам». Он нарочито медленно взял из папки бумажку и стал ее читать… Да, это то, что он ищет. Рядом с этой бумажкой должны быть и другие. Вот они: Томашевский, Еремин, Пропп, Долинин, Жирмунский…
Всё еще не веря своей удаче, Ларька аккуратно собрал письма, навел порядок в сейфе, не торопясь, запер его. На минуту задумался: что лучше, оставить ключ в замке, как было, или положить его в ящик? И решил, что лучше в ящик. Погасил свет, еще отжал ящик вниз, так чтобы закрылся замок, и устало откинулся на спинку стула. «Только бы не натворить теперь глупостей. Ведь удача притупляет бдительность». Он осмотрелся. «Кажется, всё в порядке».
Он сунул за пазуху письма, предварительно завернув их в одну из лежавших на столе старых газет, тихо подозвал к перегородке Катиньку и попросил ее покрепче держать дверь, чтобы, не дай Бог, никто не вошел, и, ловко преодолев перегородку в обратном направлении, соскочил на пол.
– Н-ну?
– Порядок. Быстро собирайся и выходи во двор, если еще открыто. Если нет, иди на второй этаж, я тебя догоню.
Дверь во двор филфака оказалась открытой, и, обойдя угрюмое кирпичное здание, из которого профессор Попов полвека назад посылал первые радиограммы, они попали во двор главного здания университета.
– У тебя есть какая-нибудь папка или что-нибудь в этом роде? – Катинька порылась в портфеле.
– Вот…
Они стояли под одним из темных сводов галереи, вытянувшейся вдоль главного здания университета. Ларька вынул из-за пазухи слегка измявшиеся письма, разгладил их, положил в папку… Взглянул на Катиньку. По ее лицу текли слезы. Даже в темноте было видно, что она неестественно бледна.
– Теперь-то что плакать? Успокойся. Давай я тебя провожу, или, если хочешь, поедем ко мне.
– А это к-куда? – она коснулась рукой папки.
– Не знаю. Утро, как известно, вечера мудренее. Тогда я придумаю, что делать…
1968–1988
Расследования по поводу пропажи профессорских писем не последовало. Калигула прекрасно понимал, что за исчезновение документов из сейфа партийного бюро спросят прежде всего с него. И тогда прощай карьера, а может быть, и свобода… Поэтому он не стал поднимать шум. Большинство членов партбюро вообще не знали, что Калигула вынудил профессоров писать самообличительные письма и что эти письма он намеревался послать «куда следует». А те, кто знали – Папиосик, например, и еще два-три человека, – согласно промолчали.
Покаянные письма профессоров, которые Ларька вытащил из сейфа, он оставил у себя. Он никогда больше не говорил о них с Катей, никогда никому о них не рассказывал. Когда прошло сорок лет, он передал копии этих писем в некоторые архивы.
Отношения Ларьки и Кати, в общем-то всегда оставлявшие желать лучшего, еще какое-то время оставались на уровне любовной дружбы, но после окончания университета они постепенно потеряли друг друга из вида.
Перегородку между предбанником и комнатушкой партбюро надстроили до потолка. Впрочем, уже в следующем месяце для партбюро отвели другое помещение, понадежнее.
«Покаянное письмо» (автограф) профессора А. А. Смирнова во время гонений на последователей А. Н. Веселовского
Петух в аквариуме
– Ты всё там же? Работаешь белой вороной в Краснознаменной академии?
– Работаю. Петухом в аквариуме.
Из разговора с приятелем
Петух в аквариуме – пожалуй, это наиболее подходящая метафора для того, чтобы передать мои ощущения от нелепостей, в которые я окунулся в конце 50-х годов.
Я попал тогда в Военную академию противовоздушной обороны, где провел почти двенадцать лет (1958–1969).
Первая нелепость, собственно, в том и заключалась, что я – филолог, можно сказать, по призванию, преподававший в вузах зарубежную литературу, вообще оказался в Военной академии.
Второй нелепостью было то, как я там оказался.
Летом 1958 года я уволился из надоевшего мне захолустного пединститута и пытался устроиться на кафедру литературы в какой-нибудь более приличный вуз. Затея эта была с самого начала бесперспективна. На мне висел строгий выговор от парткомиссии ЦК КПСС, заменивший (в порядке партийного «помилования») решение Свердловского обкома об исключении меня из партии – за то, что я привел своих студентов в Ипатьевский дом, где была расстреляна Царская семья, и дал кое-какие пояснения на этот счет[22].
С таким «хвостом» ни один вуз не решался взять меня на работу. Ректор одного института, откуда-то знавший, за что я схлопотал выговор, так прямо мне и сказал: «Такой преподаватель, как Вы, украсил бы наш вуз, но… сами понимаете…»
Как-то в конце лета я забрел к своей близкой знакомой с экзотическим именем Рашель. Она была в курсе моего незавидного положения.
– Ты поехал бы работать в Калинин? – спросила она. – Отец говорит, что там в какой-то военной академии ищут кандидата наук на заведование кафедрой иностранных языков.
– Прекрасное место! Меня там только и ждут!
– Не скажи: всё не так просто.
Рашель позвала отца, и тот добавил, что кандидат им нужен срочно – до начала учебного года остается меньше недели – и их кадровик обзванивал по этому поводу военные академии Ленинграда.
– Хочешь, я завтра им позвоню? – предложил он.