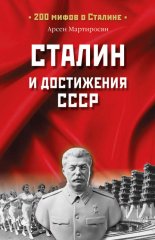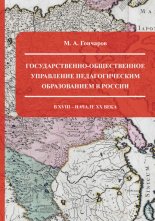Петух в аквариуме – 2, или Как я провел XX век. Новеллы и воспоминания Аринштейн Леонид

Год тысяча девятьсот сорок шестой.
Август, четырнадцатое: Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах "Звезда" и "Ленинград"».
Август, двадцать шестое: Постановление ЦК ВКП(б) «О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению».
Сентябрь, четвертое: Постановление ЦК ВКП(б) «О кинофильме "Большая жизнь"».
Сентябрь, двадцатое: трехчасовой доклад «О журналах "Звезда" и "Ленинград"» на собрании партийного актива и писателей Ленинграда.
Сколько труда, нервов, времени наконец вложено во все это! Сколько раз Сталин смотрел на него так, будто взвешивал, а не отправить ли его, Жданова, со всеми его прожектами… Но он сумел убедить, сумел доказать свою правоту. Сталин даже согласился лично принять участие в подготовительном мероприятии по кино… Жданов ухмыльнулся и покачал головой: да, умеет Старик производить впечатление.
…В ЦК обсуждали тогда фильмы «Большая жизнь» (вторая серия), «Адмирал Нахимов», «Простые люди», «Иван Грозный» (вторая серия). Пригласили массу народа – всех ведущих киношников, писателей, композиторов. Сталин незадолго до того просмотрел фильмы, внимательно прочитал подготовленный его, Жданова, аппаратом материал и выступил на обсуждении, поражая присутствующих осведомленностью в профессиональных вопросах.
Говорил он прямо по тексту никому еще тогда не известного проекта постановления о кинофильме «Большая жизнь», так что впоследствии пришлось даже кое-какие места подредактировать. Дал понять кинематографистам, которые забыли, какая огромная государственная ответственность на них возложена, чтобы они не забывались. Напомнил, что в таком деле, как искусство, – тем более искусство массовое, народное, каким является кино, – совершенно нетерпимо безответственное, торопливое отношение к жизненному материалу. Затем прошелся по фильму «Большая жизнь»: с неодобрением отметил фрагментарность, отрывочность сценария, отсутствие последовательной связи между эпизодами картины.
«В фильме, – говорил он, – показан незначительный эпизод первого приступа к восстановлению Донбасса. Этот эпизод не дает правильного представления о действительном размахе и значении восстановительных работ в Донецком бассейне. Что образов кинофильма «Большая жизнь», то они не отображают людей славного советского Донбасса. Советские люди изображены в картине ложно, фальшиво».
Досталось тогда и Эйзенштейну за его трагедийную трактовку темы единовластия во второй серии «Ивана Грозного»… Старику, понятно, пришлось не по вкусу, что режиссер подвел своего единовластного героя к психологическому краху… Но говорил сдержанно. А вот сценариста и режиссера фильма «Адмирал Нахимов» выпорол, как малых детишек: и истории они не знают, и значения Синопского сражения не поняли.
Жданов тогда попросил разрешения опубликовать это замечательное выступление, но Сталин почему-то отказался: «Внесите всё необходимое в Постановление Центрального Комитета. Не нужно, чтобы мнение о фильмах было высказано от имени товарища Сталина. Нужно, чтобы мнение о фильмах было высказано от имени Центрального Комитета…» Скромность!
Но всё это – мероприятия и постановления по литературе, театру, кино – уже позади. А сколько еще надо успеть!
Что же еще успел Жданов в оставшийся срок?
Год тысяча девятьсот сорок седьмой.
Июнь, двадцать четвертое: выступление на дискуссии по книге Г. Ф. Александрова «История западноевропейской философии».
Год тысяча девятьсот сорок восьмой (и последний).
Январь: выступление на совещании деятелей советской музыки.
Февраль, десятое (111 лет со дня смерти Пушкина): Постановление ЦК ВКП(б) «Об опере 3. Мурадели "Великая дружба"».
Март, одиннадцатое: редакционная статья в газете «Культура и жизнь» «Против буржуазного либерализма в литературоведении».
Всё. Постановление ЦК ВКП(б) «Об ошибках журнала "Знамя"» и редакционная статья «Об одной антипатриотической группе театральных критиков» («Правда», 28 января 1949 г.), совещание критиков и литературоведов в Союзе писателей в сентябре 1949 года, редакционная статья «Неудачная опера: о постановке оперы "От всего сердца" в Большом театре» («Правда», 19 апреля 1951 г.) были уже без него. Может быть, по накатанной им колее, но без него.
Однако мы сильно забежали вперед. По отношению к нашему – повествовательному – времени всё это случилось много позже. А сейчас подходит к концу октябрь сорок шестого, и Жданов в своем рабочем кабинете в здании ЦК ВКП(б) на Старой площади, где мы его уже застали однажды… Страшно не хочется повторяться, но ничего не поделаешь! По странному стечению обстоятельств его мысли и сейчас заняты Геббельсом и его газетой «Фёлькишер беобахтер», и вот в какой связи. Постановления по идеологическим вопросам приняты, а вот как добиться, чтобы они «работали»? Само собой ничего не делается – Жданов был опытный партийный работник, и гигантская пропасть, вечно зиявшая между постановлениями и их реализацией, была ему хорошо знакома, – необходим механизм оперативного управления и контроля за проведением в жизнь. И в этом немалую роль должна сыграть газета…
Сложившийся у нас громоздкий тип газеты, размышлял Жданов, для этого не подходит. Нужно другое. Например, вроде этой геббельсовской газетенки «Фёлькишер-там-чего-то»: гибкая, легкая, держала в поле зрения все аспекты культуры, оперативно и хлестко расправлялась со всем, что фашистскую пропаганду не устраивало… А делали ее, судя по материалу, пять-шесть человек из геббельсовского аппарата. Да-а, не то что наши «Правда» и «Известия» со штатами, которых хватило бы укомплектовать дивизию!
Надо бы, надо бы такой вот директивный печатный орган… Жданов так реально представил себе выгоды такой газеты, что тут же стал прикидывать, кому можно поручить ее организацию, да как ее назвать («Народ и культура»… «Социалистическая культура»… «Культура и жизнь»?), да где разместить ее редакцию (лучше где-нибудь рядом). Он быстро встал, прошел по кабинету, вышел в приемную, бросил секретарю: «Я в отделы», вышел в коридор. Молодой солдат с голубыми погонами особого имени Дзержинского батальона охраны Кремля вытянулся по стойке «смирно» с винтовкой к ноге. Жданов пошел вдоль коридора по мягкой, заглушавшей шаги ковровой дорожке, натянутой на ослепительно натертый паркет. Вереница дверей. У одной он остановился, приоткрыл: сидевшие за столами инструктора, увидев Жданова, поднялись. Он поздоровался, спросил о чем-то. Выходя, еще раз оглянулся на номер комнаты: 258. Ну что же, подходит. Здесь будет город заложен…
И еще… С кадрами для печати ох как худо… У нас почему-то считается, что профессиональная подготовка нужна врачам, инженерам, музыкантам, а вот газетчик, журналист – это, понимаешь, от рождения. Два-три десятка, может, и от рождения, а с остальными как быть? И не от рождения, и неучи… Газеты читать тошно… (Удивительно, как много общего во взгляде на газеты у Жданова с Катинькой.) Нет, надо решать вопрос с подготовкой квалифицированных газетчиков. Учредить, что ли, институт журналистики или факультеты при столичных университетах…
Он вернулся в кабинет.
– Звонки были? – спросил он, проходя приемную.
– Нет, Андрей Александрович. (Под «звонками» разумелись таковые, исходящие от Сталина, Молотова или Берии.) Только вертушка, внутренние и из обкомов. Ничего значимого. – Звонки докладывались Жданову немедленно в исключительных случаях: скажем, если звонок был по предварительной договоренности, или кто-то в ранге секретаря обкома, министра, известного деятеля культуры уж очень настаивал на срочности дела. В остальных случаях секретарь либо сам принимал решение: переадресовывал просителя соответствующему работнику аппарата, обещал согласовать день и время приема и т. п., либо записывал суть дела и докладывал списком в конце рабочего дня.
– Материалы, которые Вы заказали, готовы, Андрей Александрович.
– По Сталинским премиям?
– Да. Личные дела в сейфе. Книги, ноты, фотографии – у Вас на столе, фильмы и музыкальные произведения – назначьте время.
– Спасибо, давайте личные дела в кабинет. Фильмы… Сегодня после девятнадцати можно? А музыку… согласуйте с исполнителями на завтра в удобное для них время… после четырнадцати.
Пока секретарь вносил и раскладывал в нужном порядке пухлые папки с личными делами представленных к Сталинской премии писателей, композиторов, режиссеров (на каждое произведение краткие отзывы; на каждого претендента представление Комитета, объективка, анкета), Жданов рассматривал разложенные на длинном столе, наподобие гигантского пасьянса, фотографии произведений архитектуры. Качество фотографий было невысокое, и он, брезгливо морщась, отложил их в сторону. Взял со стола книгу потоньше. В. Соловьев «Великий государь»… Ну да, опять об Иване Грозном. Мало им скандала с Эйзенштейном. Кого-нибудь чему-нибудь научить… Листнул наугад: что-то они ему тут отчеркнули?
«Годунов (Шуйскому): …Я родом из татар, а ты хоть родом русский, Однако мной сильна, а не тобою Русь!»
Верно отчеркнули. Такие намеки Старику нравятся… Стал просматривать пьесу с начала. – Много чепухи… заговор какой-то… А вот опять отчеркнуто:
- …Казался мне порою
- Жестоким нрав царя, но прав был государь!
- Когда окрест него кишат такие змеи,
- Так и ужа, принявши за змею,
- Убить не грех!..
Ну что же… Снова чепуха… А здесь отчеркнута целая сцена: чернец, как бы от имени народа, порицает царя за жестокость («Царством правит плаха»), за ошибки в политике. А Иван сажает чернеца на трон и ловко подводит слушателей к тому, что иного пути нет:
- …Ты хотел,
- Как праведный судья, сойти в могилу с честью
- И превратить меня из твоего судьи
- Лишь в палача кровавого?
…
- Что ж совершил ты, инок? Ты, нашедший
- Столь много слов, чтоб попрекнуть меня
- В бессмысленности всех моих деяний,
- В себе единой мысли не обрел,
- Чтоб совершить деяние разумней…
- Ты часа на челе венца сдержать не мог!
- А я уж тридцать лет держу его…
Искусственно немного. Но то, что надо. Нужно будет Старику показать. А автору… Как его? Соловьев, Соловьев… Так: 1907 года, русский… не состоял… не был… не был… нет… нет… нет… не имею… не переписываюсь… А, уже имеет одну Сталинскую премию: в 1941 году, за пьесу «Фельдмаршал Кутузов»… Не помню что-то. Но тем лучше. Дадим ему еще одну. Что тут предлагают мудрецы? Второй степени. Второй так второй.
Он завизировал представление и открыл следующую книгу.
Сталин возвратился из Пицунды в последних числах октября. На подмосковной даче возобновились долгие обеды, за которыми решались многие вопросы государственной политики. Поинтересовался Сталин и идеологией. Жданов рассказал о первых, хотя еще очень скромных успехах: «Русский вопрос» Симонова, «Счастье» Павленко, «Ветер с юга» Э. Грина. Идет пересъемка ряда эпизодов кинофильма «Адмирал Нахимов», появились критические статьи, разоблачающие вредоносное влияние произведений Зощенко, Ахматовой и многих из тех, кто следует в фарватере их идеологии, – Садофьева, Комиссаровой, Спасского, Слонимского, Флита…
Сталин одобрительно кивал, сказал наставительно:
– Это хорошо. Не ослабляйте внимания к идеологии. Сейчас, когда мы вступаем в новый ответственный этап строительства коммунизма, идеология приобретает для нас первостепенное политическое значение. – Даже в узком кругу он старался не выпадать из образа Вождя и Учителя…
Берия словно только того и ждал:
– Следовательно, наши идеологические враги превращаются теперь во врагов политических…
Что означало в устах Берии «политические враги», в разъяснениях не нуждалось. Жданов тревожно посмотрел на Сталина: неужели это от него? На Старика смотри не смотри, ничем себя не выдаст… И все-таки: неужели же он хотя бы намеком не дал бы ему, Жданову, понять, что намерен подключить Берию? Не похоже. Да и зачем это сейчас.
Взвешивая каждое слово, он сказал:
– Постановления Центрального Комитета с предельной ясностью раскрыли как политическое лицо наших идейных противников («Вот так пусть будет сформулировано: не «политический враг», а «политическое лицо идейного противника»), так и политический смысл их произведений («Это важно, пока Берияне успел приклеить им ярлык "антисоветские произведения"»). Писательская общественность осудила их произведения, сама пресекла их деятельность. Теперь, когда они разоблачены и находятся в полной политической изоляции, возвращаться к ним не имеет смысла.
Сталин, в продолжение этой тирады сосредоточенно счищавший ореховый соус с куска сациви, лежавшего в его тарелке, поднял глаза на Молотова. Тот понял это как приглашение высказаться:
– Я думаю, мы добились определенных результатов и торопиться с дальнейшими шагами не следует. У нас сейчас возникает немало трудностей. (Молотов имел в виду вверенное ему Министерство иностранных дел.) Союзники крайне нервозно и подозрительно относятся ко всему, что у нас происходит. Какая нужда давать им материал без серьезных на то причин?
– А каково мнение молодежи? – Сталин посмотрел на Маленкова и Хрущева.
Маленков понимал, что возражений двух китов – Молотова и Жданова – в данном случае вполне достаточно, чтобы провалить предложение третьего. Но третьим был Берия, и оставить его в полной изоляции значило вызвать на себя его гнев: то, что он простит Молотову и Жданову, он не простит их подголоску. Если же его поддержать – ему, Маленкову, это несомненно зачтется, а торжествующие победу «киты» на него не обидятся.
– Мне думается, – он честными глазами посмотрел на Сталина, – что одно не противоречит другому. Предложение Лаврентия Павловича выявить политические связи тех, кто поддерживает Зощенко и Ахматову, очень своевременно. Тем более что мы не можем исключить попыток этих отщепенцев установить связь с антисоветскими заговорщиками на Западе, в свете того, что нам сообщил Вячеслав Михайлович о царящей там атмосфере, – это особенно актуально…
– Если мы сейчас предпримем в отношении уже поверженных постановлением ЦК литераторов какие-либо новые шаги, – возразил Хрущев, – мы рискуем получить обратный политический результат. Мы посеем тревогу в среде деятелей культуры, которые, как доложил сейчас Андрей Александрович, в массе своей идут по правильному пути. К тому же в органах сейчас непочатый край работы с пленными, перемещенными, остававшимися в оккупации.
Все ждали, что скажет Сталин.
– Я вижу, мы пришли к единому мнению. Это хорошо. Не нужно превращать своих идеологических противников в мучеников. Дадим товарищу Жданову возможность довести дело до конца теми средствами, которые он считает наилучшими.
"Не превращать идеологических противников в мучеников", – повторил про себя Берия, – это что-то новенькое! Хорош ты был бы с такими принципами в тридцатые!» Вслух же он сказал:
– Прошу всех наполнить бокалы. Я хочу произнести тост. Сейчас наш дорогой Иосиф Виссарионович еще раз преподал нам всем – его верным ученикам – урок высокой государственной мудрости…
Он говорил долго, так что каждый из присутствовавших имел возможность поразмыслить, насколько мудро поступил только что он сам, высказавшись так, а не иначе…
На следующий день у Сталина в Кремле было назначено совещание по весьма щекотливому вопросу: Балканы. Мало того, что именно здесь, в Югославии и Болгарии выдвинулись два наиболее авторитетных лидера борьбы с нацизмом. Мало того, что слава Иосифа Броз Тито и Георгия Димитрова непомерно разрастается день ото дня. Мало того, что Тито проявляет совершенно недопустимую независимость. Эти неблагодарные свиньи, оказывается, вынашивают еще и планы объединения балканских государств!.. Балканскую федерацию им подавай! Вишь чего захотели!
На прошлой неделе, когда возник этот вопрос, выяснилось, что по линии Жданова (межпартийные связи и идеология) ничего не делается; по линии Молотова – его бездарные дипломаты заняли позицию сторонних наблюдателей; по линии Берии – не существует даже плана тайных операций, направленных на предотвращение этого, прямо скажем, политического провала в столь чувствительном для СССР регионе.
На совещание приглашены лишь особо доверенные старшие: Жданов, Молотов, Берия. Сегодня им надлежит доложить о принятых мерах: кого сняли, кого предлагают, какие директивы наметили, какие планы разработали, лишние уши здесь ни к чему. Микоян уже звонил Поскребышеву, явно желая выведать, кто и что у Сталина. Но Поскребышев дело знает: никто лучше его не умеет напустить тумана в ответ на все эти бесконечные «кто?», «что?», «где? «, «как?».
Прошло уже более трех часов. Наконец, послышался легкий шум, и из кабинета вышли все три «кита». Наметанный глаз Поскребышева сразу определил, что сегодня им пришлось туго: у Молотова сквозь желтизну лица пробивается едва заметный лихорадочный румянец; у Жданова под глазами мешки отёчнее обычного; улыбочка Берии фальшивее, чем всегда…
Обменявшись любезностями и рукопожатиями друг с другом и с Поскребышевым, все трое вышли из приемной. Поскребышев отлично знал, что у каждого из них было дело к Сталину, но оставаться после заседания наедине со Сталиным, в то время как другие, равные по рангу члены Политбюро выходят из кабинета, было не принято. Во всяком случае, Сталин этого не любит.
Через несколько минут все трое уже сидели в своих машинах: «кремлевские» дела на этот день были закончены. Берия отъехал первым, однако не прежде, чем убедился, что Жданов и Молотов тоже вот-вот двинутся. Доехав до площади Дзержинского, он велел шоферу завернуть налево и через Охотный ряд и Моховую возвратился в Кремль, к тому самому подъезду, от которого всего десять минут назад отъехал. Быстро поднявшись, он вошел к Поскребышеву.
– У Иосифа Виссарионовича сейчас небольшая пауза, – сообщил Поскребышев, – я зайду к нему минут через десять…
– Я подожду…
Через десять минут Поскребышев зашел в кабинет и, выйдя оттуда с небольшим подносом, на котором стоял стакан недопитого чая с лимоном и тарелка с апельсиновыми корками, пригласил Берию зайти.
– Что ты забыл, Лаврентий? – У Сталина был усталый и не слишком довольный вид.
– Прости, Coco. – Берия заговорил по-грузински, что было признаком крайней интимности того, о чем он собирался сообщить: он избегал грузинского языка, так как говорил с сильным мингрельским акцентом. – Понимаешь, я ведь вчера не случайно начал разговор о политическом аспекте нашей идеологической работы. Например, о связях антисоветски настроенных литераторов с западными кругами. Мне не хотелось тебя тревожить… показывать тебе… Но лучше показать, – с этими словами он достал из папки несколько фотографий и протянул их Сталину. – Это фотокопии политических карикатур из фашистских и профашистских газет последнего года войны – немецких, польских и хорватских…
Сталин взглянул на первую карикатуру. На ней были изображены обескураженные Черчилль и Трумэн, перед которыми стояли шестнадцать хитро улыбающихся Сталиных, одетых в национальные костюмы союзных республик. Русский перевод подписи гласил: «Послы "независимых" республик». Карикатура относилась к решению Советского правительства образовать в каждой союзной республике Министерство иностранных дел. Ничего особенного.
Он посмотрел другую, третью. На каждой он – маленький, грузный, с хитровато ухмыляющимся кавказским лицом, прищуренными глазами, свирепыми тараканьими усами, толстыми короткими пальцами и кривыми ногами, обутыми в щегольские хромовые сапоги…
Тьфу ты! Зачем Лаврентий сует ему эту дрянь? Занимает разведку какими-то глупостями.
– Государственный деятель – всегда мишень для злопыхательства врагов. Если на это обращать внимание, некогда делами заниматься…
– Но если источник злопыхательства внутри страны? Не лучше ли его перекрыть?
– На, забери свои фотографии. Что ты говоришь? Внутри страны? Какие у тебя доказательства?
– Доказательства? Давай сравним. Вот, прочти:
- …Припомнят кремлевского горца.
- Его толстые пальцы, как черви, жирны,
- А слова, как пудовые гири, верны.
- Тараканьи смеются усища,
- И сияют его голенища…
Как видишь, карикатуры сделаны по прямой подсказке до мелочей: усы, голенища, даже пальцы. А по содержанию? – Берия быстро перебрал фотографии и протянул одну из них: Сталин был изображен склонившимся над огромной толпой людей; головы, которые возвышались над толпой, он срезал ножичком. – Видишь:
- Как подковы кует за указом указ —
- Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
- Что ни казнь у него, – то малина.
- И широкая грудь осетина…
– Слушай, Лаврентий, стихотворение-то про тебя: осетины и мингрелы – это же почти одно и то же!..
– Ай, Coco, ты вечно шутишь… Знаешь ведь, что мингрелы с осетинами не имеют ничего общего. Скорее…
– Ладно, ладно. Не хотел тебя обидеть. Напомни, кто написал эту гадость?
– Это давняя история… Кстати, его тоже защищали… Те, кого вчера защищал Жданов: Ахматова, Пастернак.
– А-а, припоминаю… Как его?..
– Мандельштам.
– Да-да. Где он сейчас?
– Сейчас его уже нет в живых. В 1938-м был осужден Особым совещанием по 58-й. По болезни застрял на пересылке под Владивостоком… Где и скончался в том же году.
– Ну что ж, надо повнимательнее присмотреться ко всем этим грамотеям, чтобы исключить циркуляцию антисоветских пасквилей внутри страны, а тем более их пересылку за границу… Лучше вообще исключить связь этих людей с заграницей. Только осторожно. Ты меня понимаешь. Сейчас не такое время… Так что без спешки…
Поскребышев отметил, что на сей раз на губах Берии играла отнюдь не наигранная довольная ухмылка.
На Рождество приехала мамина подруга двадцатых годов Надежда Яковлевна. Она гостила у них четыре дня, сегодня ночью уезжала, и только сейчас мама впервые спросила у нее об Осипе Мандельштаме.
– Последнее, что мы от него имели… Катюша, подай, пожалуйста, вон ту сумочку…
– Эту? – Катя подала сумочку и вновь забралась на диван, подобрав под себя обе ноги и ухватив на руки Кампанеллу.
– Последнее, что мы получили, была вот эта записка: «Я нахожусь – Владивосток, СВИТЛ[17], 11 барак. Получил 5 лет за к.р.д.[18], по решению ОСО[19]. Из Москвы из Бутырок этап выехал 9 сентября, приехал 12 октября. Здоровье очень слабое. Истощен до крайности…» Ну вот… там дальше… да, вот еще: «Очень мерзну без вещей… Здесь транзитный пункт. В Колыму меня не взяли. Возможна зимовка…» Спрашивает брата, жива ли я. И всё…
Надежда Яковлевна опустила голову, но Катя видела, что глаза ее были сухими. Мама сидела оцепенев, очень прямо, со сжатыми кулаками. Катя, сама того не замечая, так крепко сдавила Кампанеллу, что тот отчаянно мяукнул и рванулся из рук. Надежда Яковлевна подняла голову, посмотрела на Катю:
– Вот так, девочка. Не дай Бог тебе когда-нибудь это узнать.
– А… где он… похоронен, – произнесла Катина мама, чтобы что-то сказать, потому что молчать было тягостно, а сказать было нечего, – ты так и не смогла узнать?
– Вероника, милая, ты же понимаешь… – Всё понимала Вероника Владимировна, но все равно молчать было невозможно…
– А… всё из-за этого стихотворения?
– Наверное, оно сыграло свою роль. Но тогда брали и без этого: тех, кто арестовывался раньше, тех, на кого были доносы, тех, чья деятельность выглядела недостаточно конформно; кто мыслил не так…
– Да, – сказала Вероника Владимировна, – верно он писал: «Мы живем, под собою не чуя страны…»
– Не надо, Вероника. Если у тебя это стихотворение переписано, сожги его. Не подвергай опасности себя и семью.
– Вот и я говорю: под собою не чуя страны… Мне незачем его переписывать. Я его и так не забуду. И Катя не забудет… И если у нее будут дети…
– Но я д-для этого д-должна сначала…
– Завести детей? – улыбнулась Надежда Яковлевна. – Ну, с твоей внешностью за этим дело не станет!
– Да нет же, – Катя не хотела переходить на шутливый тон, – я д-должна сначала в-видеть это стихотворение, чтобы з-запомнить.
– Ну, раз мама хочет, чтобы ты его не забыла, значит, она даст тебе возможность его запомнить. А я подарю тебе несколько его стихотворений… – Она порылась в сумочке. – Вот тут есть старые, – Вероника, это я тебе говорю, – которых ты наверное не знаешь… Вот это в совершенно неожиданной для него манере:
- Куда как тетушка моя была богата!
- Фарфора, серебра изрядная палата,
- Безделки разные и мебель акажу,
- Людовик, рококо – всего не расскажу.
- Среди других вещей стоял в гостином зале
- Бетховен гипсовый на бронзовом рояле.
- У тетушки он был в особенной чести.
- Однажды довелось мне в гости к ней придти,
- И гордая собой упрямая старуха
- Перед Бетховеном проговорила глухо:
- – Вот, душечка, Марат, работы Мирабо!
- – Да что Вы, тетенька, не может быть того!
- Но старость черствая к поправкам глуховата:
- – Вот, – говорит, – портрет известного Марата,
- Работы, ежели припомню, Мирабо.
- Читатель, согласись, не может быть того!
«В этом вся Надя, – подумала Вероника Владимировна, – на душе кошки скребут, а старается нас развеселить!»
– Замечательно, – сказала она вслух, – и действительно неожиданно…
– Это 26-й год. Он тогда начал несколько иронических стихотворений. А эти ты должна знать: «Я не читал рассказов Оссиана» и «За гремучую доблесть грядущих веков», «Дикая кошка – армянская речь»… Еще несколько… Вот, Катюша, возьми… на радость.
Из Катиного альбома:
«Выходит, я Мандельштама почти не знала. Только то, что вошло в «Стихотворения» 1928 г. А ведь после этого целый мир! Хватило бы на трех гениальных поэтов, чего стоит «Я вернулся в мой город, знакомый до слез»!!! А эта очаровательная сказка:
- Я с дымящей лучиной вхожу
- К шестипалой неправде в избу:
- Дай-ка я на тебя погляжу —
- Ведь лежать нам в сосновом гробу!
- А она мне соленых грибков
- Вынимает в горшке из-под нар,
- А она из ребячьих пупков
- Подает мне горячий отвар…
Всего Катя переписала в альбом восемь стихотворений.
Из Ларъкиного дневника:
«Нов. 1947 г.! Каким он будет? Н. г. встреч, вдвоем с К. Она читала удивит, стих.: «Я с дымящей лучиной вхожу», «За гремучую доблесть грядущих веков», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез» и еще в том же духе, но я не запомнил. Автора она не знает. Нав., Ахм. или Паст.»
Между прочим: студент 2-го курса филологического факультета Ленинградского университета не знал тогда имени автора этих стихов, как, впрочем, и многих других выдающихся имен: Марины Цветаевой, например, Максимилиана Волошина или Андрея Платонова. Так что университет не без оснований получит полтора года спустя имя А. А. Жданова.
«6 янв. сдал экз. по русск. лит-ре: отл.!»
…Ну, конечно же «отлично»\ И еще: оценим благоразумие Катиньки: стихотворение «Мы живем, под собою не чуя страны» она не прочитала… Хотя не прочитала почему-то еще и вот это:
- Возьми на радость из моих ладоней
- Немного солнца и немного меда,
- Как нам велели пчелы Персефоны…
…
- Нам остаются только поцелуи,
- Мохнатые, как маленькие пчелы…
Может быть, если бы Ларька знал, что Катя утаила от него такое стихотворение, ему было бы над чем задуматься. Но он этого не знал. К тому же он был занят сдачей экзаменов.
«11 янв. – сдал ист. парт. – хор.
15 янв. – сдал зарубежн. лит. Ср. век. и Возрожд. – отл.
19 янв. – сдал англ. яз. – хор. Сесс. конч.! Завтра день на лыжах, и в Киев к родителям!!!»
Ларька встал рано и в предрассветных сумерках был уже на улице: день обещал быть ясным и не слишком морозным – для лыж самое то! Он быстро прошагал по Кирочной, на углу Знаменской (Восстания) вскочил в девятнадцатый трамвай и… как в дурном романе! На продольной скамейке, напротив двери, сидела Тася.
Сколько он тогда в сентябре исколесил, пытаясь ее найти! Как в воду канула. А теперь вот, извольте, пожалуйста: сидит в каком-то заблудившемся трамвае, будто сговорились… Тася постучала варежкой по скамейке рядом с собой – садись, дескать, – и подвинулась даже, хотя необходимости в том не было: вагон был почти пуст и на скамейке никто не сидел. Вид у нее, однако: ватник, стеганые брюки, прохудившиеся валенки, на голове тот самый платок, в котором он тогда впервые ее увидел.
Ларька подошел. В руках у Таси кошелка со свертками, из чего Ларька сделал вывод, сопоставив кошелку с маршрутом трамвая, что Тася везет матери передачу. В «Кресты».
– Туда? – спросил он, кивнув головой в направлении, где, по его представлениям, должна была находиться Арсенальная набережная. Тася медленно наклонила голову.
– А ты где? – Тася мотнула головой, что могло означать «нигде», «сама не знаю», «не скажу», «потом» и многое другое, но, во всяком случае, делалось ясно, что в трамвае она рта не раскроет и не факт, что за говорит позже.
Трамвай прогрохотал по Литейному мосту, повернул к Финляндскому – Ларька и виду не подал, что ехал именно сюда, – на Тихвинской они сошли.
– Так что с Антониной Тихоновной? – Голосом и интонацией Ларька дал понять, что молчанием она от него больше не отделается.
– Засудили…
– На сколько?
Тася стащила варежку, показала три пальца и добавила:
– И пять ссылки.
«Засудили», «ссылка» – странно это было слышать от Таси. И говорить она стала вроде побойчее… Ларька внимательно на нее посмотрел. Здесь, на свету, видно было, как она побледнела, осунулась, круги под глазами… Восемнадцать лет, а можно дать все тридцать.
– А суд давно был?
– Пятого. Скоро увезут их.
– Ты была на суде?
Тася отрицательно покачала головой. Этого он мог и не спрашивать. Знает ведь, что по таким делам в суд не пускают.
– Послушай, Тася. – Они уже подходили к «Крестам», и он остановился. – Скажи мне толком, что она такое сделала? Может, немцам помогла, рассказала что-нибудь?
Тася склонила голову набок, к плечу: Ларька увидел, что она плачет.
– У нас и немцев в деревне не было, – произнесла она, всхлипывая. – А как приезжали скотину забирать, то все одно говорили: «шнель, шнель…»
«Вот незадача-то», – подумал Ларька. Он вытащил платок, стал промокать Тасе слезы. Она подняла голову. Утерла лицо рукавом ватника.
– Ты не иди со мною…
– Ладно, – Ларька и сам не очень-то хотел толкаться у тюрьмы. – Я посижу на Финляндском в зале ожидания. Как справишься – приходи.
Он подождал, пока она не присоединилась к темным фигуркам людей в очереди у красной тюремной стены, затем вышел по Тихвинской на Арсенальную и медленно зашагал к вокзалу.
Ларька не знал тогда, что и стена, и люди в очереди, и всё то, что выражала своим видом и слезами Тася, уже было явлено словами «Реквиема» той самой Анны Ахматовой, о которой так много говорилось в докладе Жданова:
- …Как трехсотая с передачею
- Под «Крестами» станешь стоять
- И своею слезою горячею
- Новогодний лед прожигать.
…
- Узнала я, как опадают лица,
- Как из-под век выглядывает страх,
- Как клинописи желтые страницы
- Страдание выводит на щеках…
…
- И я молюсь не о себе одной,
- А обо всех, кто там стоял со мною
- И в лютый холод, и в июльский зной
- Под красною, ослепшею стеною…
Арест Антонины Тихоновны никак не укладывался в его голове. Ларька не был наивен: когда в тридцатые аресты пошли густой полосой, он немало всего наслушался и дома, и в школе, и на улице. Ленинградцы в общем не обманывались ярлыками «шпион», «вредитель», «враг народа», и разговоры вертелись главным образом вокруг двух вещей: знает ли Сталин и каковы все-таки истинные причины столь широких репрессий.
По первому вопросу большинство склонялось к тому, что Сталин не знает. Но немало было и таких – Ларькин отец принадлежал к их числу, – которые считали, что от Сталина все это и идет.
По второму вопросу была полнейшая разноголосица, муж тети Марии – «старый моряк» Сергей Степанович – считал, например, что всё дело в необходимости обновлять командный состав армии и флота.
– Во всех армиях и на всех флотах, – пояснял он, – существуют возрастные цензы для офицеров всех рангов, для генералов и адмиралов, а у нас – служи, пока ногами вперед не вынесут. Вот и приходится товарищу Сталину убирать изживших себя маршалов и командармов…
– Хорош метод! – вспыхивал Ларькин отец. – Отслужил – и пшел на расстрел! Да такого и во времена Римской империи и варварства… – Любовь к латыни и к Римской истории отец вынес из классической гимназии, которую окончил с золотой медалью.
– Взгляд типичного штатского интеллигента! А вот представь: завтра война, во главе армии оказываются Блюхер и Тухачевский, которые уже лет пятнадцать не знают, что такое воевать, а учиться в силу своих маршальских звезд ничему не хотят. Твой интеллигентский гуманизм обернулся бы гибелью тысяч – ты слышишь, тысяч ни в чем не повинных солдат. Нет, уж лучше вовремя снять головы трем маршалам и десятку командармов и комкоров. Правильно Сталин делает.
– Ты знаешь, наш Сергей не одинок, – рассказывал отец за обедом несколько дней спустя. – Сегодня я был у Диденко, и он мне плел примерно то же о партийном аппарате. У него выходит, что если аппаратчиков время от времени не отстреливать, они зажиреют, перестанут блюсти интересы народа, начнется стяжательство, кумовство, «ты мне – я тебе», привилегии для детей и родственников – словом, буржуазное перерождение. Я спросил: «Ну а какими-то другими методами, без арестов и расстрелов, разве бороться с перерождением невозможно?» Он смеется: «Нет, доктор, здесь в белых перчатках ни хрена не сделаешь: или так, или никак!»…
Ларькин отец в партии не состоял, к Советской власти относился сдержанно. Но это не помешало ему в начале тридцатых, когда он был сравнительно молодым, но уже известным врачом, согласиться работать в качестве консультанта в поликлинике санчасти ОГПУ, пока после четырех– или пятикратной смены начальства управления ОГПУ-НКВД, в том числе начальников АХО, которым подчинялась санчасть, он сумел найти себе заместителя и благополучно покинул этот пост.
Диденко, о котором он рассказывал маме, был постоянным его пациентом («постоянным», разумеется, относительно – от момента назначения до момента ареста). В то время он исполнял дела начальника политконтроля[20] (в результате чего Ларькина библиотека активно пополнялась роскошными изданиями вроде «Маугли» Киплинга, «Трех мушкетеров» в серии «Библиотека романов и повестей» и т. п.), носил два ромба и весьма откровенно делился со своим «доктором» своими политическими воззрениями.
Отец не разделял взглядов, подобных тем, что излагал Сергей Степанович или Диденко, и утверждал, что все дело в стремлении Сталина устранить всех, кто препятствует его верховной власти: от политических врагов до любых лиц, чья активность направлена на ограничение режима личной власти.
Близкий приятель отца профессор Евсей Константинович П** высказывался еще определеннее:
– Сталин по своему характеру не может быть лидером демократическим, – говорил он. – На пост генсека он попал случайно, именно потому, что менее всего для него подходил: в условиях борьбы в высшем эшелоне партийного руководства он оказался единственным для всех приемлемым кандидатом. Чтобы удержаться на этом посту – а покидать его он категорически не хотел, – он должен был изменить саму природу демократического государства, возникшего в результате революции. Это он и сделал. Почему-то думают, что государственные перевороты совершаются только «снизу» для того, чтобы захватить власть. Ничего подобного! Чаще их совершают «сверху» для того, чтобы удержаться у власти! Особенность нынешнего переворота, начавшегося убийством Кирова в декабре 1934 года, в том, что он осуществляется в несколько этапов, с сохранением демократических форм государственной власти, при полном выхолащивании их демократического содержания.
– Я не думаю, что Сталин изменил природу государства, – возражал отец, – оно с самых первых дней было авторитарным. А вот как объяснить, что народ боготворит его? Только воздействием печати и радио?
– Это разные вещи. Узурпация Сталиным власти – это одно, а его социально-экономическая программа – другое. В ней немало объективно необходимого для России: развитие индустрии, повышение обороноспособности, поднятие грамотности… Да мало ли. Старшее поколение помнит еще, например, помещиков, фабрикантов. Сейчас же привилегированный слой общества почти незаметен. Да он еще и не сформировался. Создается иллюзия всеобщего социального равенства. К тому же именно по этому привилегированному слою и наносятся сейчас основные удары. Народ это почти не задевает…
Вот эту-то мысль Ларька усвоил особенно ясно: репрессивная политика Сталина после коллективизации, то есть с 1934 года, была направлена на привилегированные слои общества: ее жертвами была партийная, государственная, военная верхушка, чекисты, дипломаты, творческая интеллигенция, инженеры. В меньшей степени врачи и учителя. Народ – рядовых тружеников – она почти не задела… И вот теперь Антонина Тихоновна… За то, по существу, что она находилась на оккупированной территории. Но ведь на оккупированной территории оставалось по меньшей мере миллионов сорок – почти четверть населения страны. И ведь не они же пошли к немцам в оккупацию, а немцы пришли сюда. Да и потому, что те, кто стоят во главе государства, не сумели предотвратить этого ни дипломатическим путем, ни военной силой, хотя в том был их прямой долг. Ну хорошо. Никто с них за это не спрашивает. В конце концов, немцев изгнали. Победителей не судят. Но почему же нужно судить тех, кто в этом совсем уж не виноват?
Ларька вдруг поймал себя на мысли, что не может одинаковой меркой оценивать репрессии в отношении привилегированных слоев и в отношении простого народа. Он не понимал, в чем здесь дело. Может быть, в том, что у первых всегда есть свобода выбора? И потому их можно заподозрить в любых взглядах, в любых намерениях? Тем самым всегда есть возможность оправдать репрессии, как это делали Сергей Степанович, Диденко, многие другие? Да. В отношении народа такой возможности нет. Ни у Антонины Тихоновны, ни у Таси, ни у сорока миллионов остававшихся под немцами свободы выбора не было… Они, как могли, сопротивлялись немецкому нашествию: теряли мужей, сыновей, отцов; кто мог, уходил в леса… Репрессии по отношению к ним особенно отвратительны. Это всё равно, что судить и расстреливать безответных кошек и морских свинок… Зачем? Кому это нужно?
«Всё перепуталось, – вспомнил Ларька задержавшийся в памяти стих, – и некому сказать, что, постепенно холодея, всё перепуталось… И сладко повторять: Россия, Лета, Лорелея…»
– Нет мамы… – Ларька угрелся, задремал и не заметил, как подошла Тася: плачущая, несчастная, в своем несуразном ватнике с неопорожненной кошелкой.
– Как нет?.. – Он почувствовал, что сердце у него оборвалось и стало проваливаться куда-то вниз и вглубь. «Неужто умерла в "Крестах", – подумал он, – о Боже, надо было натолкать полный чемодан гранат, а не всю ту чепуху, и пойти сейчас раздолбать им эту красную кирпичную стену…»
– Отправили ее. Эта-пировали, – всхлипнула Тася, с трудом произнеся недавно познанное ею слово.
Ларька перевел дыхание:
– Ты не убивайся так, Тася. Слезами не поможешь… Везде люди живут… («Удивительно, – подумал он, – когда по-настоящему плохо, ничего кроме тысячекратно повторенных поговорок сказать нельзя».) Пошли. Пойдем ко мне. Поедим, успокоишься немного.
– Не пойду я.
Что-то в ее интонации насторожило Ларьку: «Что это она? Да и я хорош: даже приблизительно не знаю, где она, как жила все это время».
– Пошли. У меня хорошо… Тетка сегодня дома, накормит.
Тася молча отрицательно покачала головой:
– Я пойду…
– Да погоди ты! – Ларька искренне возмутился: не хватает, чтобы она опять исчезла на полгода. – Ты где живешь сейчас? И вообще, что ты делаешь? Работаешь?
Тася кивнула.
– Ну что ты… Клещами из тебя каждое слово… Где?
– В заводе. Вёдры подношу с составом.
– Что за завод? Какие ведра?
– Не скажу… Вёдры тяжелые. За смену сто двадцать, а то больше перетаскиваю. Потом болит всё. – Она показала на низ живота.
– Что ж ты на такую работу пошла? Это же вообще не женское дело, ведра таскать по восемь часов… Что у них, механизации никакой, что ли…
– Зато общежитию дали…
– Общежитие… тоже приманка… – Он собрался с мыслями. – Послушай, Тася, плюнь ты на эти свои «вёдры» вместе с общежитием и переселяйся ко мне. А работу мы найдем. Более подходящую.
Она опять покачала головой:
– Нет, мне нельзя. У меня муж теперь.
– Муж?! – Если бы Тася встала вдруг на уши, он удивился бы меньше. – Да ты… Ты что, разыгрываешь меня?
– Муж, – упрямо повторила Тася. – Нам потом, может, комнату в общежитии выделют…
«Ну и дела, – подумал Ларька, медленно осознавая реальность того, что сказала Тася. – Я ее берег, подступиться боялся, а она…»
– Ну ладно, пусть муж, – проговорил он устало. – Сейчас-то ты можешь пойти ко мне. Пообедать?
– Нет. – Она взяла свою кошелку, вытащила из нее один из свертков, развернула, – в нем оказались медовые пряники, – выбрала два пряника, положила их обратно в кошелку, протянула сверток Ларьке.
– Это тебе. – И пошла к выходу.
Ларька отупело посмотрел на пряники и в пресквернейшем настроении отправился домой.
Тетя Мария, как и предполагалось, была дома.
– Уже накатался? Быстро ты…
– Я не катался. Лыжная база не работала…
– Не работала! – ахнула тетя. – Что за порядки такие? В воскресенье ей бы и работать. Дать людям отдохнуть, закалиться на снегу. Что ж им, в рабочие дни на лыжах ездить, что ли? А работать кто будет? Безобразие форменное… Головотяпство…
– Правильно, тётя. Форменное безобразие. Порядки ни к черту. Всех их, головотяпов таких, давно пора подальше… на свалку истории…
Тетя подозрительно посмотрела на Ларьку:
– Чего распетушился-то? Ну закрыта база. Может, заболел человек…
Безобидная теткина болтовня обычно забавляла Ларьку, но сегодня ему было не до смеха. История с Тасей не выходила из головы. Он потоптался у окна, подошел к полке, на которой пылились семь или восемь книг, – ни тетя Мария, ни ее достойный муж охотниками до чтения не были, – поискал глазами растрепанный томик Зощенко, замеченный им месяца два назад, который решил теперь почитать с горя. Книги на полке не было.
– А где тут книга была? Зощенко. Растрепанная такая, в темно-зеленом переплете.
– Зощенко? А я ее сожгла.