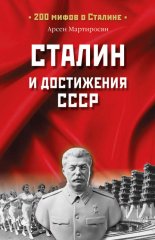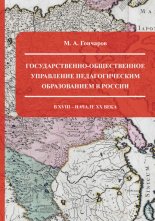Петух в аквариуме – 2, или Как я провел XX век. Новеллы и воспоминания Аринштейн Леонид

Скорняков очень серьезно относился к работе комиссии и ни о чем другом в то время не говорил. Как-то поздно вечером я увидел, что в его кабинете горит свет, и зашел, надеясь вытащить его с работы.
– Хорошо, что ты зашел. У меня уже голова не соображает. Включи свои лингвистические способности и придумай, как сформулировать такую вот мысль: система практически полностью полагается на автоматику, что при сегодняшнем уровне техники сопряжено с большим риском. Человеку же в этой системе места нет. Только надо короче и яснее.
– Что же тут еще придумывать, Николай Дмитриевич? По-моему, короче и яснее не скажешь.
Через несколько дней Скорняков как бы между прочим рассказал о развитии событий:
– Зарубили мы эту систему. Представляешь, какой будет кипеж! В ее разработке и реализации участвовали десятки научных институтов, предприятий, конструкторских бюро, тысячи людей. Там уже распределили будущие государственные премии, просто премии, повышения, ордена. У каждого из этих людей своя рука в ЦК или в Министерстве обороны…
Прошло еще какое-то время – недели три, наверное. Я всё собирался спросить Николая Дмитриевича, чем всё это кончилось, как вдруг он сам спустился ко мне на кафедру.
– Меня вызывают к министру насчет заключения комиссии по системе. Надо быть у него завтра к 11 утра. Сказали, что пришлют за мной вертолет – хотят, наверное, чтобы я гробанулся (хорошо помню именно это слово – «гробанулся»). От вертолета я, понятно, отказался, сказал, что мне надо уже сегодня быть в Москве, и я еду поездом. А вообще-то поеду утром, на машине. Тебе в Москву не надо?
Мне в Москву было совершенно не надо, но я видел, что Скорнякову хотелось, чтобы я поехал с ним, и я ответил:
– Да, Николай Дмитриевич, я как раз завтра собирался, спасибо.
– Ну, так я заеду за тобой. К половине седьмого. Успеешь собраться?
В конце 60-х годов Скорняков ушел из Академии.
С его уходом в Академии стало пусто.
Краски, которые по мере того, как Академию покидали Жеребин, Шафранов, Жигарев, постепенно теряли свою яркость, поблекли окончательно.
Я не стал долго раздумывать… Посмотрел на нового генерала, которого прислали на место Скорнякова, и подал рапорт об уходе.
Письмо Н. Д. Скорнякова
Московский университет
А я говорю, что в Москве два университета…
А. П. Чехов
За одиннадцать лет в Академии (1958–1969) вполне можно было разбаловаться: слишком вольготно там жилось и работалось. Летом я с женой и сыном отправлялся на два месяца в Прибалтику – в Ниду, на Черное море или на Кавказ. Остаток лета проходил на даче под Ленинградом.
В течение учебного года занятий у меня было немного, неделями их вообще не было, и нахожусь ли я в стенах Академии или нет, никого в сущности не интересовало. Зимой я с утра уходил в лес на лыжах, возвращался часов в шесть вечера. Весь день наедине с божественной тверской природой!
По вечерам мы собирались небольшой компанией – офицеры из Академии, жившие по соседству, их жены, другие знакомые. Пили, ели, горланили песни времен первых дней родной авиации:
- С левым я креном лечу…
- Болтается масло в стакане неровно,
- Авро перебои дает…
Крутили Высоцкого, Окуджаву, Армстронга. Танцевали рок'н-ролл, да так, что я однажды сгоряча швырнул свою партнершу на горку с хрусталем. Визг, звон – веселье хоть куда!
Всё это, повторяю, было привольно, даже слишком привольно. Живи и радуйся. Я жил и радовался. Но, как известно, чтобы жизнь не казалась медом, к радости всегда примешивается горечь. В моем случае это была неотвязная мысль, что я занимаюсь не своим делом и, хуже того, своим делом не занимаюсь.
Своим делом я считал преподавание западноевропейской литературы (желательно, на уровне М. П. Алексеева или А. А. Смирнова). Этому меня учили в университете, к этому мне привили интерес, этим, по моему глубокому убеждению, я прежде всего и должен был заниматься.
Получить работу на филологическом факультете Ленинградского или Московского университета – об этом не стоило даже мечтать. Точно так же, как и о работе в академических институтах – мировой литературы в Москве или Институте русской литературы в Ленинграде.
Но идти преподавать в какой-нибудь провинциальный пединститут, где пришлось бы читать лекции и вести семинары на самом примитивном уровне, где никакой научной работы не могло быть по определению, мне категорически не хотелось. Я уже хлебнул всех этих прелестей за три года в Свердловском пединституте иностранных языков и три года в Шахтинском пединституте. Хлебнул по полной: 900 учебных часов в год, постоянные придирки директоров, зам-директоров, проверяющих, которых не устраивала тональность моих лекций и которые, не сговариваясь, объявляли, что они носят «объективистско-буржуазный характер». «Такие лекции, – внушал мне в городе Шахты наш замдиректора, преподававший марксизм-ленинизм, – можно читать в каком-нибудь Кембридже. А у нас – советский вуз!»
В этих условиях я как мог стремился не порывать с Ленинградским университетом, и прежде всего, с руководителем моей дипломной работы, а потом и диссертации М. П. Алексеевым.
Маргарет Гаркнесс
Пристрастием Михаила Павловича были раритеты – редкие, никому не известные писатели. Одним из таких писателей, вернее, писательниц, была Маргарет Гаркнесс. Ее творчество Михаил Павлович посоветовал мне в качестве темы дипломной работы.
О Гаркнесс было известно, что когда-то и почему-то Фридрих Энгельс написал ей письмо с благодарностью за присылку ее повести «Городская девушка». В этом письме он высказал ряд соображений, составивших впоследствии чуть ли не половину марксистской эстетики. Что это за удивительная повесть и кто такая эта Гаркнесс, никто не знал. «Вот Вы во всем этом и разберитесь, – сказал Михаил Павлович. – У нас здесь, в Ленинграде, Вы ничего не найдете – не тратьте времени. Езжайте в Москву, может быть, что-нибудь удастся найти в библиотеке Иностранной литературы. Я дам Вам письмо к Маргарите Ивановне Рудомино.[30] А если и там ничего не окажется, попробуйте покопать в ИМЭЛ[31]».
В Иностранке, несмотря на активную помощь Маргариты Ивановны, ничего не нашлось, а в ИМЭЛ мне действительно удалось «накопать» довольно много любопытного материала, и несколько удивленный этим Михаил Павлович (он явно не ожидал от меня таких способностей) стал пристально следить за ходом моей дипломной работы – главным образом, за тем, чтобы я не сбивался на цитирование и комментирование гениальных мыслей Энгельса. «Держитесь своей темы, – одергивал он меня всякий раз, прочитав очередную порцию моего текста, – а комментирование основоположников марксизма – не наше с Вами дело».
Не могу не заметить, что в многочисленных работах Михаила Павловича действительно не было ни цитат, ни упоминаний Маркса и Энгельса, за единственным исключением: когда он сделал в узком кругу издевательский доклад о том, как Энгельс изучал русский язык, чтобы понять, в связи с чем в «Евгении Онегине» Пушкин упоминает Адама Смита[32]. Напомню это место у Пушкина:
- Бранил Гомера, Феокрита;
- Зато читал Адама Смита
- И был глубокий эконом,
- То есть умел судить о том,
- Как государство богатеет
- И чем живет, и почему
- Не нужно золота ему,
- Когда простой продукт имеет…
Ирония Михаила Павловича относилась к тому, как Энгельс при переводе перевирал смысл русских слов. Например, строки:
- Служив отлично-благородно,
- Долгами жил его отец —
Энгельс понял в том смысле, что отец Евгения был солдатом («служивый») и прожил долго. Слова «Онегин был… ученый малый, но педант» Энгельс принял за указание на то, что Онегин был мало образован. И т. п.[33]
Что касается моего диплома, то после того как Михаил Павлович сделал на полях моей рукописи более ста (!) замечаний и поправок, диплом получился довольно удачным.
Потом я еще не один год «доил» эту тему: писал статьи, отчитывался о так называемой научной работе в Свердловском и Шахтинском пединститутах. Перекроив текст и слегка почистив стиль, я пустил часть диплома в качестве главы своей кандидатской диссертации.
Потом мне удалось получить из Англии текст повести «Городская девушка» и добиться опубликования ее в русском переводе. Пояснительную статью я, разумеется, написал сам, застолбив за собой эту тему на ближайшие годы. Книга вышла в издательстве «Художественная литература» астрономическим (даже по тем временам) тиражом в 225 тысяч экземпляров.
По ходу поисков сведений о биографии Гаркнесс мне встретились несколько имен еще менее известных писателей, печатавших свои произведения в английских социалистических газетах и журналах конца XIX века, я и их пустил в ход.
Своими открытиями я поделился с Михаилом Павловичем и даже убедил его составить сборник на эту тему. Сборник вышел еще до книги Гаркнесс – в 1955 г. Мне там принадлежала статья о никому не ведомом писателе Брэмсбери, опубликовавшем никому не ведомый роман «Трагедия рабочего класса» в забытой социалистической газетке «Джастис». Когда я принес рукопись этой моей непомерно огромной статьи в четыре печатных листа, Михаил Павлович тяжело вздохнул и промолвил: «Я понимаю, статью такого объема можно было бы написать о "Дон-Кихоте" или "Войне и мире"…» Но сокращать статью не стал.
«Пираты пера»
И книга Гаркнесс, и статья в университетском сборнике были замечены московскими филологами из академического Института мировой литературы, что на Поварской. В то время там готовился заключительный том «Истории английской литературы». Обойтись без столь многообещающего материала, как вновь открытые социалистические авторы, было невозможно. Написать что-либо на эту тему самостоятельно было некому, и Анне Аркадьевне Елистратовой, которая отвечала за это издание, ничего другого не оставалось, как разыскать меня и предложить мне написать соответствующую главу.
Меня это предложение очень порадовало. Я знал, что работа над академической «Историей английский литературы» началась еще в довоенные годы, когда в редколлегию входили М. П. Алексеев и другие высоко ценимые мною филологи – В. М. Жирмунский, А. К. Дживелегов. Почти весь первый полутом – древний период английской литературы – написал Михаил Павлович, так что если в этом издании появится глава, написанная мною, я как бы продолжу начатое им дело.
Я, понятно, поспешил рассказать Михаилу Павловичу о сделанном мне предложении. К моему удивлению, он нахмурился и сказал:
– В этом Институте мировой литературы довольно странные нравы: Ваш материал могут присвоить, иначе говоря, попросту украсть, или так отредактировать, что Вы своего текста не узнаете. Я уже давно не имею дела с этими, с позволения сказать, пиратами пера.
В чем конкретно состоял его конфликт с «пиратами пера», Михаил Павлович не пояснил, и я так никогда этого и не узнал. Но желание напечататься в «Истории английской литературы» было настолько велико, что главу я все-таки написал и отослал в ИМЛИ.
К сожалению, через короткое время мне пришлось убедиться, что Михаил Павлович был, как всегда, прав. Мою главу «отредактировали» самым беспощадным образом: отрезали от нее добрую половину и использовали этот материал в переделанном виде в другом месте и под другим именем. Оставшуюся же часть ужали так, что в книге она заняла всего 13 страниц.
Всё это было очень обидно, но с Институтом мировой литературы я не порвал и продолжал ходить к ним на обсуждение глав для «Истории английской литературы», на многие другие научные заседания и обсуждения сборников сектора зарубежной литературы, а в каком-то из них даже принял участие.
P. M. Самарин
Заведующим сектором зарубежной литературы ИМЛИ был профессор Роман Михайлович Самарин. Одновременно он заведовал кафедрой зарубежных литератур в Московском университете. Мы уже довольно хорошо знали друг друга, когда однажды в столовой, стоя с подносом и выглядывая, куда бы это сесть, я увидел Романа Михайловича, который делал мне рукой знаки – присаживайтесь, мол, сюда. Слово за слово. Как Ленинград? Как Михаил Павлович?
– Да я теперь не в Ленинграде, а в Калинине, в Военной академии.
– Что так? Забросили зарубежную литературу?
– Стараюсь не забросить, но пока как-то не очень получается.
– А Вы не хотели бы прочесть несколько лекций у нас в МГУ? Я знаю Ваши работы. Пишите Вы интересно, толково. Вот и расскажете о Ваших неизвестных английских писателях. Может быть, еще о чем-то.
Я ушам своим не верил, тем более, что Роман Михайлович слыл изрядным антисемитом. Но размышлять над этим феноменом времени не было, и я согласился.
– Вот и славно, – сказал Роман Михайлович, – и меня немного разгрузите. Подходите завтра на кафедру – поговорим предметно.
Здание Московского университета на Моховой, где находился тогда филфак, нравилось мне чрезвычайно. Не знаю, что здесь было первично: то, что это был действительно архитектурный шедевр, или сознание, что в этом здании находится университет, где, как я тогда полагал, царит высочайший уровень науки и преподавания.
Так или иначе, но подымаясь по лестнице на третий этаж, где располагалась кафедра зарубежных литератур, я был преисполнен гордости и романтических надежд. А ведь мне уже было под сорок!
Роман Михайлович был человеком деловым и на редкость собранным, и все вопросы мы решили за несколько минут.
– И еще вот что, – сказал в заключение Самарин, – на следующей неделе я уезжаю в Венгрию и не хотел бы, чтобы у меня в лекциях был перерыв. На кафедре меня сейчас заменить некому. А Вы смогли бы меня заменить?
Я, естественно, согласился.
– Эти поездки вечно выбивают из колеи, – проворчал как бы в оправдание своей просьбы Самарин, – а толку от них никакого.
– Что Вы, Роман Михайлович, на такие поездки жаловаться грех. Съездить за границу всегда интересно.
– Помилуйте, мой друг, – Самарин любил старомодные обороты речи, – какая это заграница? Глубокая провинция, вроде наших союзных республик. Ничего своего, одни перепевы. С той только разницей, что у нас пока тихо, а там только и ждут удобного случая… Значит, договорись? Я скажу, чтобы Вас вставили в расписание.
Роман Михайлович вернулся недели через три.
– Студенты, кажется, довольны Вашими лекциями. Студентки особенно.
Я к тому времени успел прочитать две лекции, но Роман Михайлович говорил таким тоном, будто подводил итоги за семестр.
– Так что если у Вас нет других планов, можете вести этот курс и дальше.
Других планов у меня не было.
– Там полагаются еще какие-то семинары, курсовые работы, или и то и другое, – продолжал Самарин, – потом, кажется, экзамены… Я сейчас не помню, надо будет уточнить. Но тогда Вам придется всё это тоже взять на себя. Как, потяните?
– Приходилось тянуть и больше. Кстати, сейчас у меня время есть: в Академии почти нет занятий.
– Прекрасно. Вот программа по Вашему курсу. Смотрите: здесь разделы «Чешский романтизм», «Венгерский романтизм». Их можете не читать. Лучше подробнее расскажите об английском и немецком романтизме – Вордсворт, Кольридж, Тик, Новалис…
– Я интуитивно так и поступал, когда читал этот курс в Шахтинском пединституте.
– Вот и дальше поступайте интуитивно… Разве что о Мицкевиче надо будет сказать несколько слов.
То, что Роман Михайлович не питал большой симпатии к официальной идеологии, было понятно с первого взгляда. Его недавние откровения насчет социалистических стран и союзных республик подтверждали это. Но то, что он может выбросить из программы целый раздел литературы социалистических стран, я, честно говоря, от него не ожидал. «Похоже, поплевывать на идеологические устои становится модным, – раздумывал я, прогуливаясь по двору университета. – Ведь не провоцирует же он меня: и времена не те, и ему это ни к чему. Проще вообще не иметь со мной дела».
Я знал, что Михаил Павлович терпеть не мог Самарина, считал его хитрым и беспринципным. При одном упоминании его имени отпускал свои убийственные шуточки, которые вне неповторимой интонации Михаила Павловича и его манеры говорить воспроизвести невозможно.
Вопреки мнению Михаила Павловича я относился к Самарину вполне нормально. Думаю, не только потому, что он взял меня к себе на кафедру. Мне импонировали его самобытность, прямота, остроумие, весь его облик старого московского барина. А что касается хитрости и беспринципности, то я встречал таких людей постоянно, можно сказать, жил среди них. Людей другого типа – высоконравственных, таких, как сам Михаил Павлович, как Стеблин-Каменский, как генерал Скорняков, – я, к сожалению, встречал гораздо реже.
Наша кафедра
Кафедра зарубежных литератур Московского университета была слабой, даже очень слабой. Сравнивать ее с соответствующей кафедрой Ленинградского университета тех лет, когда я был студентом, – то есть когда ею руководил В. М. Жирмунский, а лекционные курсы вели Смирнов, Алексеев, Реизов и еще несколько достойнейших преподавателей, просто невозможно. Это был звездный час филфака ЛГУ. Но и позже, когда эти легендарные ученые покинули университет и кафедра заметно посерела, уровень ее оставался несравненно выше того, что я застал в МГУ.
Прекрасным лектором был сам Самарин и, пожалуй, еще два преподавателя – не буду их здесь называть. Еще о двух или трех можно сказать, что преподавали они хотя и без блеска, но и не плохо. Казалось бы, половина кафедры со знаком плюс. Но, к сожалению, отрицательный баланс перевешивал. На кафедре было несколько совершенно непригодных, я даже не побоялся бы сказать, полуграмотных преподавателей.
Не то чтобы этого никто не замечал. Самарин, что бы там ни говорил о нем Михаил Павлович, был человеком очень неглупым и хорошо знал им цену. Но то ли он их побаивался (так мне по крайней мере казалось), то ли у них были какие-то особо высокие покровители, но трогать их он не решался.
Главным злом на кафедре была особа, которую один из аспирантов называл «дама, неприятная во всех отношениях». Дама была со связями, шумная, крикливая и не слишком образованная. Самарин ее на дух не переносил и, если видел в расписании, что она должна появиться на кафедре, спешил куда-нибудь уйти. Мне он ее не однажды крыл открытым текстом, хотя и сильно приглушенным голосом. В моем представлении эта дама была скорее гротескным персонажем, чем кем-нибудь еще.
На этом фоне мои скромные лекции пользовались немалым успехом. Это было видно и по посещаемости, и по тому, как сосредоточенно слушали и записывали студенты, и по тому, как после каждой лекции ко мне всегда подходило несколько человек, даже не столько с вопросами, сколько с желанием как-то пообщаться. В результате у меня даже возникло несколько знакомств, которые продолжились в последующие годы.
Вскоре я стал замечать, что ко мне на лекции ходят студенты с соседних отделений – славянского и русского, а со временем – это было на третий год моего преподавания в МГУ – довольно просторная аудитория на филфаке уже не вмещала всех желающих. Мои лекции перенесли в большую аудиторию в соседнем корпусе (там, где памятник Ломоносову), где тогда находились исторический и философский факультеты. В тот год я подробно читал о западноевропейском романтизме. Этот курс был у меня хорошо отработан, и когда, перейдя к немецкому романтизму, я стал подробно разбирать философские идеи Шеллинга и Фихте, лежащие, как я доказывал, в основе мировоззрения немецких романтиков, моя аудитория стала пополняться студентами философского и исторического факультетов.
Ни Шеллинга, ни Фихте в программе, разумеется, и близко не было, но никто не препятствовал мне читать лекции так, как я считал нужным.
Моя деятельность на кафедре зарубежных литератур Московского университета продолжалась четыре с лишним года, и надо прямо сказать, в бытовом плане создавала мне немало трудностей. Работа в Академии, как-никак, а все же требовала времени. В Москву же надо было ездить каждую неделю, а то и дважды в неделю. Приходилось вставать в 6 утра, наскоро что-то заглотнуть и – бегом на вокзал.
В Москве – тоже не сахар. В отдельные месяцы надо было вести два лекционных потока, причем один в первой половине дня, другой – у вечерников, то есть начиная с шести, а то и с восьми вечера. Соответственно в Калинин я возвращался за полночь. Или приходилось ночевать без особых удобств в Москве.
За всё это я получал гроши – что-то 70 или 80 рублей в месяц. Это при том, что за ничегонеделание в Академии мне исправно платили четыреста. Моя тогдашняя приятельница поэтесса даже стихи сложила насчет этого абсурда:
- Ей виднее, судьбе-затейнице,
- Где подбросить, а где отнять…
Обедал я в студенческой столовой. В перерыве между дневными и вечерними лекциями занимался в Ленинской библиотеке. Откуда на все только сил хватало! Ночевал у маминого брата на 2-й Тверской-Ямской, 18. Потом Самарин устроил меня в аспирантское общежитие в высотном здании на Ленинских горах. Но там я долго не продержался: заметили, что я не живу там постоянно, а только ночую раз в две-три недели, и стали селить в мою комнатушку приезжавших ненадолго заочных аспирантов. Однажды я вернулся в общежитие уже около 12-ти и обнаружил, что моя комната занята какой-то девушкой. Деваться было некуда. Но тут я вспомнил, что здесь же живет аспирантка с нашей кафедры. По счастью, она оказалась без предрассудков и взяла меня к себе.
Позже одна из моих студенток Ксения Атарова познакомила меня со своими родителями, и с тех пор я останавливался у них в писательском доме напротив Третьяковской галереи. Дружеские отношения с Ксенией и ее семьей сохранились у меня и в последующие годы: благодаря им я шире познакомился с самиздатом, с диссидентским движением. А когда Ксения стала работать в издательстве «Прогресс», а затем в «Радуге», мои заявки на двуязычные издания стали, наконец, приниматься.
Как я налаживал отношения с Ирландией
Я недавно слышал такой анекдот:
Кассир в авиакассе спрашивает очередного клиента:
– Вы куда хотите лететь?
– В Ирландию, Даблин[34].
– Нет, блин, – отвечает кассир, – в Ирландию мы не летаем.
В 60-е годы мы не только не летали в Ирландию, но у нас с этой страной даже не было дипломатических отношений. Хотя ирландцы («ирлянские немцы», как их называли при Царе Алексее Михайловиче) жили в Москве еще во времена первых Романовых.
А история, которую напомнил мне этот анекдот, такова.
На столе у Самарина постоянно скапливалось много бумаг – разного рода приглашения на конференции, симпозиумы, выставки и т. п. Роман Михайлович иногда их бегло просматривал и, если в это время на кафедре находился кто-то из преподавателей, обращался к нему:
– Вы не хотите поехать в Минск (в Абакан, в Уфу)? Там будет конференция…
Преподаватели вежливо отказывались, поскольку действительно интересные поездки – в Лондон, в Бонн, в Париж – организовывались по другой линии…
Обратился он как-то и ко мне:
– Хотите съездить в Тбилиси? Там юбилей Важа Пшавелы – сделаете доклад на конференции, дорогу Вам оплатят.
– Спасибо, Роман Михайлович. Но я не специалист по грузинской литературе и никого, кроме Шота Руставели, не знаю.
– Ну и что, – возразил Самарин. – Конференция еще не скоро, успеете и прочесть, и доклад сочинить.
– Нет, Роман Михайлович, у меня и времени на это нет. Конечно, я с удовольствием побывал бы в Тбилиси: и город прекрасный, и поклонился бы могилам Грибоедова, Руставели.
– Могилы Руставели там нет: он похоронен в Израиле.
– В Израиле? Разве он еврей?
– Слава Богу, нет.
Прошло довольно много времени – несколько месяцев, может, и год, когда Самарин, привычно просматривая письма, спросил меня:
– У Вас есть работы о Свифте?
– Нет, но в лекциях я говорю о нем довольно подробно и не только о «Гулливере», но и о его сатирических стихах…
– Здесь письмо из Дублина. У них будет отмечаться 300-летие Джонатана Свифта, и по этому поводу намечается международный симпозиум. Вот, взгляните.
В то время за рубеж мало кого выпускали, я не был исключением. Но в своем воображении я представлял свои поездки примерно в таком порядке: Лондон, Дублин, Рим. Много лет спустя, когда границы приоткрылись, мне не один раз и подолгу довелось жить в Лондоне и в Риме, но в Дублин я так никогда и не попал…
Самарин протянул мне письмо. Я взял его и, сам даже не понимая зачем, в тот же вечер написал на английском языке секретарю оргкомитета Свифтовского юбилея профессору Морису Хармону с просьбой прислать мне приглашение на этот симпозиум. Через месяц приглашение действительно пришло. Что с ним делать и как им воспользоваться, я не знал. Обратил только внимание, что оно на прекрасной бумаге с изящными гербами и что симпозиум будет проходить под патронажем самого Президента Ирландской республики Де Валера.
Дня три спустя я показал приглашение своему хорошему знакомому по Академии полковнику Николаю Яковлевичу Попову, который был у нас начальником научно-исследовательского отдела, порассуждав при этом, как печально, что я не могу воспользоваться таким случаем.
– А Вы действительно занимались Свифтом? – спросил Попов.
– Да, занимался.
– Знаете что, – сказал он. – Давайте-ка я покажу эту бумагу начальнику Академии. Вы лицо гражданское. Чем черт не шутит…
Через несколько дней мне позвонили из приемной, чтобы я зашел к начальнику Академии, каковым был тогда генерал-полковник авиации Георгий Васильевич Зимин (ставший впоследствии маршалом авиации).
– Я говорил по поводу этого приглашения с людьми, от которых многое зависит. Я понял, что если Вы согласитесь выполнить некоторые условия, то они Вас поддержат.
– И какие же это условия?
– Во-первых, Вы нигде и ни при каких обстоятельствах не должны упоминать, что работаете в Военной академии. Говорите, что Вы преподаватель Московского университета.
– Это очень легкое условие!
– Второе. Вы должны будете подробно написать обо всем, что там увидите.
– Что, собственно, я могу увидеть? Понятно, что там ходят по улицам люди, ездят автомобили. Едва ли это интересует тех, о ком Вы говорите.
– Очень интересует. С Ирландской республикой у нас нет дипломатических отношений. Нашим людям туда въезд практически закрыт. Любая информация об этой стране, каков там уровень жизни, как ирландцы сейчас относятся к англичанам, как – к Советскому Союзу, и многое другое представляет огромную ценность.
– Ну, если дело только в этом, то я, конечно, смогу это выполнить.
– Может быть, перед отъездом Вас попросят еще о какой-нибудь мелочи…
Эта фраза меня, понятно, насторожила («Знаем мы эти мелочи, о которых и говорить-то нельзя иначе, чем накануне отъезда!»), но ответил как ни в чем не бывало:
– Что ж, если эта мелочь такого же характера, то почему же нет.
После этого разговора дела пошли очень быстро и гладко. Зимин подписал мне блестящую характеристику. («Как на Героя Советского Союза», – съязвил Попов.) В строевом отделе оформили все необходимые документы, и бумаги ушли в Москву. Время от времени Зимин сообщал мне, что на поездку дали согласие в Министерстве иностранных дел, в органах Госбезопасности (хотя он напрямую их так не называл) и осталась только подпись главнокомандующего войсками ПВО страны и выездная комиссия ЦК КПСС.
Я уже настроился, что и дальше никаких заминок не будет, прикинул, в каком костюме поеду, срочно написал доклад об известности Свифта в России. Но заминка всё же произошла, и очень серьезная. Из рассказа всезнающего Попова я узнал, что главком ПВО генерал армии (будущий маршал) П. Ф. Батицкий устроил дикий разнос Зимину и всем, кто продвигал мою поездку: «Что они там, совсем сдурели? – бушевал Батицкий, добавляя к этому обычную в таких случаях ненормативную лексику. – Закрытая Военная академия! У человека допуск по форме один к секретнейшим образцам современного оружия! Голову надо снимать таким начальникам!»
Батицкий не очень жаловал Зимина, который до Академии был первым замом главкома ПВО и наиболее вероятным кандидатом на освободившуюся должность главкома. Но главкомом назначили Батицкого, и он тут же снял Зимина с должности первого зама, отправив командовать нашей Академией.
Зимин вызвал меня только через две недели и, как ни в чем не бывало, сказал, что главком счел неуместным направлять меня за рубеж.
Извинившись, что сам не смогу приехать, я послал профессору Хармону свой доклад о Свифте. В ответ от него пришло письмо с сожалением, что меня не было на конференции. «Я понимаю, – писал Хармон, – мы сами виноваты, что слишком поздно прислали приглашение, и Вы, понятно, не могли успеть скорректировать Ваши планы и пренебречь намеченными делами…»
– Да, – острил мой знакомый из Пушкинского Дома, – у них представление, что всё дело в нашей занятости. А если выпадет свободная минута, то, пожалуйста: надел калоши, взял зонтик и поехал хоть в Дублин, хоть куда.
В зарубежных журналах
Хармон опубликовал мой доклад о Свифте в виде статьи в своем университетском журнале и даже прислал договор, по которому мне причитался гонорар в размере пяти ирландских фунтов и скольких-то шиллингов (вероятно, тоже ирландских). Ни фунтов, ни шиллингов я, понятно, не получил, но статья к моему удивлению определенные плоды принесла.
Еще до того, как до меня дошел дублинский журнал с этой статьей, я получил письмо из США от профессора Ирвина Эренпрайса с весьма лестным отзывом о статье, чего она, по моему убеждению, явно не заслуживала. Я не знал тогда, что Эренпрайс – ученый с мировым именем, автор фундаментального трехтомного труда о Джонатане Свифте, где он изложил буквально всё, что было известно об этом замечательном писателе. Но вот то, что Свифт пользуется популярностью, широко издается и изучается в России, он не знал и не написал в своем исследовании. Моя статья в его глазах как бы восполняла этот пробел.
Переписка с Эренпрайсом продолжалась в течение нескольких лет. Его письма чрезвычайно содержательны. Они полны тончайших жизненных наблюдений и философской глубины. Ни до, ни после мне не приходилось читать таких писем, и я очень жалею, что мне так и не довелось встретиться с этим человеком. Он погиб в Мюнхене от несчастного случая в конце 70-х годов.
Эренпрайс всячески тормошил меня, чтобы я писал статьи об английских авторах XVIII–XIX вв., редактировал мой английский язык (стилист он был первоклассный) и рассылал их в английские и американские филологические журналы. Его имени было достаточно, чтобы присланный им материал публиковался без дальнейших формальностей и рецензий. Так мои труды увидели свет в таких престижных изданиях, как «Victorian Studies», «Philological Quarterly», «Victorian Poetry» «Review of English Studies», «Notes and Queries» и в каких-то еще.
Заметили мою статью о Свифте и в Филадельфийском университете, где издавался журнал «Scriblerian», аннотировавший всё, что появлялось в мире о Свифте и писателях его круга. Здесь дело не ограничилось письмами. Ко мне на лекцию в Московском университете явился американский журналист (я его сперва даже не заметил) и, как он сказал, по поручению его друзей из журнала «Scriblerian» он просит меня писать для этого журнала аннотации о русских работах о Свифте и других английских писателях XVIII века. Они со своей стороны введут меня в состав редколлегии журнала и, если я пожелаю приехать в Филадельфию, то поселят и примут по первому разряду. До Филадельфии я не доехал, но с конца 60-х до начала 90-х годов числился в редколлегии этого милого журнала с изображением ослика на обложке и исправно посылал им краткие заметки на интересовавшую их тему.
Журналист еще несколько раз приходил в университет ко мне на лекции, приглашал после этого с ним отобедать в «Национале». Я не отказывался, хотя понимал, что у меня из-за этого могут быть неприятности в Академии. Фамилия журналиста была Чапмен: он мне пояснил, что это американский вариант русской фамилии Шапкин, которую носил его прадед, приехавший в США из России.
Письмо академика М. П. Алексеева
Пушкинский Дом
В Пушкинском Доме – три академика. Один всё знает, но ничего не понимает. Другой всё понимает, но ничего не знает. А третий ничего не знает и ничего не понимает.
Из пушдомовского фольклора 1940-х годов
После того, как я распростился с Военной академией и вернулся в Ленинград, центром профессиональных и духовных интересов стал для меня Пушкинский Дом.
Пушкинский Дом часто путают с домом на Мойке, 12, где была последняя квартира Пушкина, а теперь – мемориальный музей. В действительности, Пушкинский Дом – это научно-исследовательский институт, где хранятся и изучаются рукописи русских писателей с самых ранних времен до наших дней. Мало кто знает, что эта работа лежит в основе высочайшего качества (в смысле достоверности текстов) многочисленных изданий Пушкина, Лермонтова, Грибоедова, Толстого, Тургенева и многих других. Изучаются не только рукописи произведений, но и биографии писателей, их письма, их окружение, культурная среда – всё то, чем воспользуются потом те, кто пишет школьные учебники, монографии, энциклопедии или просто книги о писателях и их времени.
Полное название этого замечательного учреждения звучало в мое время так: Институт русской литературы Академии наук СССР, и в скобках – Пушкинский Дом.
Я впервые попал в Пушкинский Дом в 1949 году еще студентом – там работал руководитель моей дипломной работы членкор (в дальнейшем академик) Михаил Павлович Алексеев. На филфаке Ленинградского университета было тесно, и на кафедре зарубежной литературы ни у кого – будь ты хоть трижды академик – своего рабочего места не было. А в Пушкинском Доме у Михаила Павловича был целый кабинет, где он принимал студентов, аспирантов и других посетителей.
Мне нравилось бывать в Пушкинском Доме: парадный вестибюль с мраморной лестницей, интерьеры с изящной мебелью из царских дворцов, попавшей сюда после революции, никакой суеты, тишина, атмосфера спокойного достоинства.
Я приобщаюсь к пушкинистике
После университета, то есть с 1950 г. я попеременно жил в Ростове, в Свердловске, в Шахтах, в Твери, в Москве, но несколько раз в году бывал в Ленинграде. С Михаилом Павловичем я переписывался, а приезжая в Ленинград, сразу же отправлялся общаться с ним в Пушкинский Дом. Именно общаться, ибо участия в научно-исследовательской работе Пушкинского Дома до начала 70-х годов я не принимал.
Научно-исследовательская деятельность меня тогда не слишком привлекала. Занимался я ею лишь в той мере, в какой это было нужно для диссертации («ученым можешь ты не быть, но кандидатом быть обязан») или для участия в научных сборниках, что в провинциальных вузах, где я преподавал, ценилось исключительно высоко.
Преподавательская работа, напротив, мне всегда очень нравилась. Я любил читать лекции и понимал, что мне это удается, любил общаться со студентами и (что греха таить) ловить многообещающие взгляды студенток… Что по сравнению с этим могла дать научная работа!
Совсем по-другому относились к научной деятельности мои старшие друзья и наставники Михаил Павлович и Юрий Давыдович Левин, с которым я подружился еще в университете и который теперь тоже трудился в Пушкинском Доме. В их шкале ценностей научная работа занимала самое высокое место, тогда как преподавание находилось неизмеримо ниже. И тот и другой не раз подталкивали меня заниматься «настоящим делом». Михаил Павлович, который знал меня с третьего курса университета и проверил на дипломной работе о Маргарет Гаркнесс (я писал об этом выше), считал, что у меня какие-то особые способности к историко-литературным разысканиям, и не раз упрекал за то, что, как он говорил, я «зарываю свой талант в землю».
Во время одного из таких разговоров он сказал: «Вы, наверное, знаете, что когда Пушкин был в Южной ссылке, он сблизился с английским врачом философом-атеистом доктором Гутчинсоном. Что это за личность и почему им так заинтересовался Пушкин, так пока никто и не прояснил. Вы уже достаточно натренировались на Гаркнесс, на этом, как его, Брэмсбери, на Ваших забытых социалистических поэтах, которых, откровенно говоря, невозможно читать даже в прекрасном переводе Юрия Давыдовича. Переключите-ка свой замечательный талант на одесского знакомца Пушкина доктора Гутчинсона!»
Биографией Пушкина я, по правде сказать, тогда не интересовался, хотя искренне любил его поэзию и знал многие его стихи наизусть. Как он попал в Южную ссылку, что он там делал, я, если и знал в школьные годы, то уже изрядно позабыл. О докторе Гутчинсоне я, естественно, нигде и никогда не слышал. Но подумал: раз Михаил Павлович так подробно об этом рассказывает и предлагает мне этим заняться – надо попробовать.
Занялся я этим далеко не сразу, а когда решил, что пора уже заняться, не очень представлял, с чего начать. Я уже по опыту знал, что если Михаил Павлович говорит, что ему что-то не известно, значит, в общедоступных справочниках об этом ничего сказано не будет и в нормальные библиотеки и соваться нечего. И действительно: я очень быстро убедился, что ни одно справочное издание никаких материалов по этой теме не содержит. Поразмыслив, я отправился в библиотеку Военно-медицинской академии. Там я нашел английские и французские медицинские журналы пушкинской поры и после долгого изучения содержащихся в них объявлений, протоколов заседаний различных медицинских обществ и т. п. облик доктора Хатчинсона (которого Михаил Павлович на старый лад именовал «Гутчинсон») стал приобретать определенные очертания. Становилось даже понятным, чем он мог заинтересовать Пушкина. Я решил, что пора познакомить со своими находками и соображениями Михаила Павловича: набросал всё это на первой попавшейся под руку старой пожелтевшей бумаге и отправился в Пушкинский Дом.
Михаил Павлович выслушал мой рассказ с нескрываемым интересом. Оказывается, он еще в Одесский период своей жизни пытался докопаться, кто такой доктор Хатчинсон, но так и не докопался.
– Ну, а Вы что-нибудь написали об этом? – спросил он.
– Нет, пока ничего.
– А что это у Вас за листки в руках?
– Так, наброски для памяти.
– Давайте-ка их сюда.
– Но, Михаил Павлович, это же…
– Давайте, давайте.
На следующей неделе я зашел в Пушкинский Дом, рассчитав, что Михаил Павлович скорее всего уже просмотрел мои листочки и подскажет, что делать дальше. У Михаила Павловича были какие-то посетители, и пока я крутился в коридоре, ко мне подошел Олег Алексеевич Пини: он был тогда секретарем Пушкинской комиссии, то есть фактически помощником Михаила Павловича, и отвечал за подготовку «Временника Пушкинской комиссии» – одного из наиболее престижных изданий Пушкинского Дома. Пини с таинственной улыбочкой взял меня под руку и провел к своему столику в просторном Виноградовском кабинете, где находились рабочие места еще семи или восьми сотрудников Пушкинского Дома. Затем, торжественно достав из ящика стола мои листочки, не без ехидства спросил: «Это что, у вас в Москве (он почему-то считал, что я живу в Москве) особый шик – посылать в журнал свои статьи на оберточной бумаге?»
За соседними столами насторожились и посмотрели на нас с любопытством. Кто-то, кажется, даже хихикнул.
– Извините, Олег Алексеевич, я ничего ни в какой журнал не посылал и не собирался посылать. Это черновые листки, которые Михаил Павлович взял у меня просмотреть, чтобы поговорить о дальнейшей работе.
– Ах, у Вас просто не было приличной бумаги! – не унимался Пини. – Вот, возьмите для следующего раза.
– Да не надо мне Вашей бумаги, – я обозлился не на шутку. – У меня хватает своей. Давайте листки – я их перепечатаю.
– Мы уже всё перепечатали с редакторскими поправками Михаила Павловича, и вчера «Временник» с Вашей статьей ушел в издательство.
В то время готовые научные сборники и журналы лежали в издательстве «Наука» месяцами и выходили с опозданием на год или два. Помню, как мы дружно расхохотались, когда приезжий английский издатель, посетивший Пушкинский Дом, отвечал на наш вопрос: «Сколько времени проходит у вас между поступлением рукописи в редакцию и выходом статьи в свет?» – «По-разному, – отвечал он. – Если вы сдаете рукопись не на последней неделе месяца, статья выйдет в следующем месяце, а если позже… А почему вы все смеетесь?»
В конце концов моя статья о Пушкине и докторе Хатчинсоне все же вышла. Лиха беда начало! С той поры я довольно основательно втянулся в научно-исследовательскую круговерть Пушкинского Дома. За два десятка лет мне удалось найти немало любопытного о творчестве и биографии Пушкина, Лермонтова, Грибоедова, Жуковского. Результаты опубликованы во «Временниках Пушкинской комиссии», в сборниках «Пушкин. Исследования и материалы», в журнале «Русская литература», в «Лермонтовских сборниках» и других изданиях Пушкинского Дома.
Смех делу не помеха
Научная деятельность в Пушкинском Доме своеобразно сочеталась с царившей в нем игровой стихией. Веселые шутки и ирония были, можно сказать, фирменным знаком, отличавшим научных работников этого института. М. П. Алексеев не мог, по-моему, слова сказать без иронического подтекста. Остроумнейшим человеком был Б. В. Томашевский. Когда на должность ученого секретаря в Пушкинский Дом стали присылать людей из Смольного или из Большого Дома на Литейном (до той поры эту должность исполняли видные ученые), Томашевский разъяснял: «Разница между ученым и ученым секретарем такая же, как между «Государь» и «милостивый государь»». Немало остроумных людей было и в следующем поколении, тогда еще 40–50-летних. Ближе других из этого поколения я знал Юрия Давыдовича Левина и Вадима Вацуро (из которых первый был лет на пять меня старше, а второй лет на десять моложе).
В те годы вошло в моду привносить юмор в надписи на книгах или оттисках статей, которые дарили друг другу ученые Пушкинского Дома. К примеру, Вацуро опубликовал как-то статью про англо-ирландского поэта-романтика Томаса Мура и, зная, что Левин является специалистом в этой области, преподнес ему свою статью с такой надписью:
- Известно всем, что Ю. Д. Левин
- Порой бывает хмур и гневен,
- И с тайной робостью Вацуро
- Несет ему статью про Мура,
- Чтобы, услышав слово «Мур»,
- Он был не зол, а только хмур.
Юрий Давыдович не остался в долгу и отреагировал в том же ключе:
- Мне с тайной робостью Вацуро
- Принес свою статью про Мура.
- Я заглянул в нее вчера:
- Там не про Мура, а мура.
Мне Вацуро подарил несколько статей с шутливыми подписями, но они требуют слишком долгого объяснения, чтобы суть острот и шуток была понятна, и потому я их не привожу.
Что касается Левина, то он, безусловно, был наиболее плодовит и остроумен в этой сфере. Чтобы не затягивать тему, еще только один пример. Левин долгое время занимался исследованием шотландских песен, приписываемых легендарному барду Оссиану. Ю. М. Лотман как-то достал по случаю редкое издание Оссиана и преподнес его в подарок Левину. Юрий Давыдович отметил этот щедрый дар такой шуткой:
- С размахом истым россияна
- Дарит мне Лотман Оссиана.
- Чтоб не прослыть жидовским жмотом,
- Его в ответ дарю Мельмотом.
(Книга «Мельмот-скиталец» тогда только что вышла в «Литературных памятниках», приобрести ее было чрезвычайно трудно, и Юрий Давыдович подарил Лотману чуть ли не свой единственный экземпляр.)
Юрий Давыдович Левин на протяжении многих лет дарил мне свои книги и статьи (по-моему, в моей библиотеке их около сорока). Одну из статей (о Вальтер Скотте), вышедшую в довольно тяжелое для него время (его тогда за что-то стало основательно донимать местное партийное начальство), он сопроводил весьма остроумной, но не столь уж веселой надписью:
- Средь удручающих забот
- Житейской суеты
- Приятно вспомнить: был-де Скотт,
- А не одни скоты…
Взгляд, конечно, очень пасмурный, но верный[35]: были в Пушкинском Доме и «малоинтеллигентные люди», как называл их Дмитрий Сергеевич Лихачев, были и «прохвосты», как именовал их Михаил Павлович Алексеев, были и «милостивые государи», как иронизировал Борис Викторович Томашевский.
И, тем не менее, не прохвосты и не дутые ученые определяли атмосферу Пушкинского Дома, а люди достойные и порядочные. Пусть не все они при этом были талантливы. Но как утверждал Вадим Вацуро, для нормального функционирования научного учреждения достаточно и пяти процентов талантливых ученых. В Пушкинском Доме эта пятипроцентная норма была соблюдена.
Виноградовский кабинет
В Пушкинском Доме, если это был не кабинет Михаила Павловича и не рукописный отдел, я чаще всего бывал в Виноградовском кабинете, названном так в честь академика В. В. Виноградова.
Я был немного знаком с Виктором Владимировичем (меня представил ему Михаил Павлович). Но запомнился мне только его внешний облик – элегантный, холеный. Ранее я читал его книгу «Стиль Пушкина» – исследование, безусловно, серьезное, но особого интереса книга у меня не вызвала, я ее даже не дочитал до конца. Но вот что у меня не могло не вызвать интереса в связи с Виноградовым, – это то, что он принадлежал к числу людей, вознесенных на карьерную вершину какими-то неожиданными причудами судьбы. Такие судьбы меня всегда занимали – может быть, оттого, что я еще в детстве начитался Дюма и Вальтер Скотта, придумывавших и изображавших в своих романах именно такого рода неожиданные перипетии в судьбах своих героев.
Весенним утром 1950 года я проснулся от того, что услышал доносившийся из уличных радиорепродукторов необычайно приподнятый и торжественный голос диктора с подвываниями, каких не слышал уже пять лет, со времени взятия Берлина и победы в Великой Отечественной войне. Я подумал, что началась война с Америкой, к которой нас морально готовили все эти годы. Ан нет! Оказалось, это читаются ответы И. В. Сталина по вопросам языкознания. Сейчас об этих ответах (их тут же стали называть «историческими трудами») уже мало кто помнит, а если и вспоминают, то словами издевательской песенки Юза Алешковского:
- Товарищ Сталин, Вы большой ученый,
- В языкознании познавший толк,
- А я простой советский заключенный…
В этих трудах Сталин идейно громил так называемое «новое учение о языке» Николая Яковлевича Марра. Сталин всегда громил только идейно, предоставляя другие формы разгрома другим людям.
Надо, впрочем, заметить, что «новое учение о языке» (или «марризм», как его называли) действительно было учением на грани шарлатанства и вполне заслуживало, чтобы его разгромили. Это была совершенно параноидальная лингвистическая теория, возникшая, когда спрос на такие идеи был довольно высок, лишь бы они не имели корней в «буржуазной» науке и каким-то образом увязывались с марксизмом. А тут само имя автора было почти Маркс. На рубеже 1920–30-х гг., когда Марр выступил со своим учением, этого было достаточно, чтобы новоявленные ученые из числа рабоче-крестьянской интеллигенции безоговорочно и массово его поддержали. Представители старой профессуры позволили себе проявить скепсис. В их числе был Виктор Владимирович Виноградов, известный уже тогда своими работами о стиле Пушкина и Гоголя. В 1946 году, несмотря на оппозиционность марризму, В. В. Виноградов был избран академиком.
Когда же Сталин своим вышеупомянутым выступлением поставил марристов на место, для Виноградова наступил звездный час. Он занял главенствующее положение в лингвистической науке: стал директором академического Института языкознания, главным редактором центрального лингвистического журнала «Вопросы языкознания», зав. кафедрой русского языка Московского университета, кем-то еще и еще, но главное – академиком-секретарем Отделения литературы и языка Академии наук СССР. Последняя должность была очень значительна: академику-секретарю фактически подчинялись все академические институты данной отрасли, от него зависело их финансирование, утверждение их директоров, а во многом и избрание новых академиков.
В конце 1960-х годов Виктор Владимирович решил, что ему пора и по возрасту, и по состоянию здоровья сменить интенсивный труд в Москве на тихую заводь в Ленинграде. В качестве таковой он избрал Пушкинский Дом. Для своего будущего сектора он облюбовал там одно из лучших помещений: просторный зал на втором этаже с высоченным потолком и огромными, почти во всю стену окнами. Сюда он распорядился перевести свою обширную библиотеку и кое-что из домашней кабинетной мебели. Однако его планам не суждено было сбыться: в октябре 1969 г. Виктор Владимирович скончался.
Зал отдали рядовым научным сотрудникам. Впритык к застекленным книжным шкафам поставили небольшие письменные столики, за которыми эти сотрудники и расположились. В 70-е годы это были научные работники, трудившиеся – и уже не первый год – над созданием «Лермонтовской энциклопедии».
Не буду останавливаться на том, как я познакомился с обитателями Виноградовского кабинета и как постепенно втянулся в работу над «Лермонтовской энциклопедией». Но втянулся. И за пять с лишним лет написал около ста (а точнее, 96) энциклопедических статей, вошедших в окончательный текст энциклопедии.
Лермонтовская энциклопедия
«Лермонтовская энциклопедия» была первым в России опытом создания персональной энциклопедии, и как следовало организовать эту работу, какими должны были быть энциклопедические статьи, никто четко себе не представлял.
Трудности в работе над энциклопедией во многом предвиделись. Собственно, потому и решили начать с Лермонтова: и жизнь его была, увы, довольно короткой, и стихотворений он написал в несколько раз меньше, чем, скажем, Пушкин. Но даже в таком «облегченном» варианте создавать энциклопедию оказалось не так-то просто. Во всяком случае, когда я появился в Виноградовском кабинете, работа над энциклопедией шла уже лет десять или двенадцать без видимого продвижения вперед.
Очень точно, хотя и в гротескной форме, описал сложившуюся тогда ситуацию главный редактор энциклопедии Виктор Андроникович Мануйлов.
«Дорогой Леонид Матвеевич! – обращался он ко мне в своем шутливом послании. – Какое счастье для всех нас, загубивших годы, что Вы существуете на этом свете и благодаря Вашему доброму участию ЛЭ, кажется, станет реальностью, хоть и обедненной и устаревшей за годы своего рождения…»
Оставляю гротескные похвалы на совести Виктора Андрониковича, но еще через несколько лет «Лермонтовская энциклопедия» была все-таки завершена.