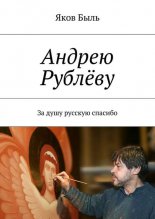Муза Кормашов Александр

– Ты меня использовал.
– Разве? Олив, я никогда тебе ничего не обещал. Я не говорил, что люблю тебя. Ты видела и слышала то, что хотела видеть и слышать.
– Ты со мной спал, Исаак. И не один раз.
– Да. И я согласился на твою авантюру с картинами. Мы все совершаем ошибки.
– Что ты этим хочешь сказать? Чем больше я рисовала, тем меньше ты меня любил?
Он отвернулся.
– Я хочу сказать, что твоя мать… это другое. Это что-то отдельное.
– Нет ничего отдельного, Исаак. Ее поведение влияет на всех нас, как и поведение моего отца… как и мое, я полагаю. Ты здесь остался из-за нее?
Он молчал, не зная, что ответить, и она зажмурилась, словно от боли.
– Уж не думаешь ли ты, что ты у нее первый? – сказала Олив. – Она переспала с тобой, чтобы наказать меня.
Он засмеялся.
– Вот что значит художница. Ты уверена, что все упирается в тебя, и во всем ищешь больную точку. Но это никак не связано с тобой. Ты тут вообще ни при чем.
– Я ухожу. Удачи. Так, кажется, ты сказал мне на прощанье?
Она поглядела в темноту, где скрылась ее мать.
– Что ты собираешься делать?
– Вернусь в Англию. Ты был прав. Найду себе жилье и уеду от родителей. Может, меня возьмут в художественную школу.
– Хороший план.
– Посмотрим. Держи. – Олив протянула ему пистолет. – Тебе он скорее пригодится.
– А Тере? – спросил он, засовывая пистолет под ремень. – Вы заберете ее с собой?
Олив вздохнула.
– Пока не знаю. У нее нет никаких документов
– Она столько пережила.
– Минуту назад ты сказал, что от нее одни неприятности.
– Ей шестнадцать лет, что ты хочешь.
Олив не смогла скрыть удивления.
– Она говорила, что ей восемнадцать.
– Вот видишь. Если Хорхе или мой отец… если они решат…
– Без тебя знаю. Я это видела своими глазами. Пока ты находился здесь.
Он протянул ей руку, но она молча на нее посмотрела.
– А знаешь, правильно я сделала, нарисовав тебя с зеленым лицом.
Это была шутка. Она не имела в виду, что он наивный или больной. Она как бы утверждала, что как художник вправе рисовать его так, как считает нужным. Ей хотелось, чтобы он считал ее взрослой, способной принимать самостоятельные решения, хотя сама она до конца не была в этом уверена. Исаак навсегда останется мужчиной, изменившим ее жизнь. И когда она наконец взяла его руку, чтобы произнести эти слова, он упал ей в ноги.
Она не верила своим глазам, с ужасом видя в свете фонаря, как кровь хлещет из головы Исаака, заливая лицо. А затем она расслышала то, что ускользнуло от ее внимания в первый раз: приглушенный выстрел извне, явно направленный в их сторону. Эхо разнесло по холмам еще два громких хлопка, постепенно затерявшихся в дальних лесах. И Олив бросилась бежать.
Хорхе, полчаса назад услышавший выстрел, поднялся по склону в надежде обнаружить источник стрельбы и с тех пор пристально следил за сторожкой на расстоянии. Вот так удача: мало того что в ней прячется Исаак Роблес, так здесь еще и бритоголовая сестрица, передающая ему пистолет. Дурочка включила фонарь, так что, прикончив братца, Хорхе мог без труда догнать теперь ее, бежавшую вниз по склону вместе с прыгающим перед ней лучом.
Хорхе выстрелил еще три раза, пока фонарь не упал на землю маленькой бледной луной. Он подождал. Никаких признаков жизни. Тишина была такой явной, такой убойной, что, казалось, сама природа расписалась в ее смерти.
V
Руфина и лев
Ноябрь 1967
Лифты на Гудж-стрит не работали, и когда я наконец села на поезд в направлении Ватерлоо, он то и дело останавливался в туннелях. В общей сложности мне потребовалось полтора часа, чтобы добраться до дома Квик, после того как я вышла из телефонной будки неподалеку от школы Слейда. Окна передней части дома Квик (и на первом и на втором этажах) были ярко освещены. Хозяйка не задернула шторы, и в одной из верхних комнат я заметила трещину на белом потолке и лампочку без абажура, что бросалось в глаза своим несоответствием традиционно безупречному стилю Квик. Четко очерченный полукруг света нимбом наползал на карниз, высвечивая обветшалое величие в тех местах, о которых хозяйка не позаботилась.
Чувствуя глубокое беспокойство, я постучала в дверь и подождала. Ответа не последовало.
– Эй! – крикнула я сквозь щель в почтовом ящике, но дом оставался безмолвным.
Я поразмыслила: можно было это прекратить, вернуться домой в Клэпхем – в мою столь же тихую квартиру. Но чувство вины заставляло меня находиться здесь; а еще любопытство, необходимость докопаться до самой сути.
Становилось уже очень темно, когда я проскользнула вдоль боковой ограды; последние осенние листья похрустывали у меня под ногами. Даже в боковых окнах горел яркий свет: казалось, что там пожар, так отчаянно пламенела каждая лампочка. Я отчетливо ощутила, что нахожусь на виду. Мне казалось, я на съемках фильма, в гигантском кольце слепящей натриевой иллюминации, мощность которой была призвана завлечь и поглотить.
Когда я очутилась в саду и заглянула в его мрак, глазам было трудно справиться с тем, что свет пропал. Стоило мне моргнуть, и оранжевые круги начинали прыгать перед глазами, превращаясь в маленькие планеты, пляшущие вокруг силуэтов деревьев. Часы на башне пробили восемь. Я снова попала в сказку.
Я никогда не забуду то, что увидела, вернувшись в дом. Квик сидела на кухне, выпрямившись в своем кресле. Здесь шторы тоже не были задернуты, и все помещение ярко освещено. Мне показалось, что я закричу от шока. У Квик совсем не осталось волос. На голове у нее не было почти ничего, кроме нескольких тусклых пучков; словно карта, состоящая из одних белых пятен, лишенная координат. Квик смотрела на меня, и я подняла руку в знак приветствия, но она не отреагировала, и тогда я с ужасом поняла, что она смотрела вовсе не на меня, а на кого-то – или на что-то – позади меня, притаившееся в саду.
Послышался треск ветки, и у меня от страха перехватило дыхание; я повернулась, чтобы лицом к лицу встретиться с темнотой, куда Квик меня заманила; я приготовилась бороться, приготовилась кричать. Я не сомневалась, что за кустами кто-то был, прятался в буйных зарослях, но никто не показался.
Я рванулась обратно в дом, подбежала к кухонной двери и ворвалась туда, отчаянно стараясь удрать от того неведомого, что могло быть в саду. Теперь я стояла прямо перед Квик. Она все еще сидела в кресле, выпрямившись. В ее бледном черепе была какая-то мертвенная красота, а на спокойном лице отразилась блаженная завершенность. Ее парик лежал на полу, словно шкура животного. Я даже не подозревала, что она ходила в парике.
– Квик? – позвала я ее и в ужасе осеклась.
Конечно же Квик не ответила, потому что Квик была мертва.
Я позвонила в полицию, не успев подумать о том, как это будет выглядеть: дом закрыт, а я нахожусь внутри, дверь на кухню по-прежнему распахнута, на траве следы моих ног. Только тогда, когда вскрытие установило примерное время смерти Квик и тот факт, что в крови у нее содержалось в десять раз больше болеутоляющего, чем ей было прописано, и патологоанатом узнал о ее диагнозе, – повторяю, только тогда с меня сняли подозрения, а ее смерть признали случайностью. Мне трудно объяснить вам, как все это меня рассердило. Меня, единственного человека, которому Квик доверяла, могли заподозрить в том, что я вломилась к ней в дом и убила ее. А ведь только я за всю жизнь Квик сделала попытку узнать ее настоящую историю.
Позвонив в полицию, я вернулась на кухню, опустилась перед Квик на колени и дотронулась до ее тела. Оно все еще было теплым. Возможно, мы с ней разминулись всего на несколько минут. Строго говоря, Квик не приглашала меня к себе тем вечером – я сама была убеждена, что ее нельзя оставлять одну. Но хотела ли она такого конца? Я сказала ей, что приеду, поэтому она должна была понимать, что я найду ее первой. Может быть, она хотела, чтобы ее спасли. Этого я никогда не узнаю.
Я огляделась. Перед ней стояли пузырек с таблетками и полупустая бутылка джина. Это еще ничего не значило – Квик любила выпить, к тому же ей было очень больно. Я не могла смириться с мыслю, что она могла сознательно сделать это с собой.
– Полиция, – раздался голос.
Я вздрогнула и пошла к дверям.
На пороге стояли двое полицейских, а за ними следовала машина «Скорой помощи». Я была в шоке: когда они вошли в дом, их реакция сильно отличалась от моей. Они немало повидали на своем веку, поэтому в их лицах сквозила смесь навязчивости и утомленности. Для меня же все это было в новинку, я чуть не подпрыгивала от ужаса и шока.
– Кто ее ближайший родственник? – спросил один из полицейских.
Я сказала, что мне это не известно, но что Эдмунд Рид ее начальник и, наверное, стоит позвонить ему.
Рид все еще был в институте: открытие выставки назначили на следующий день, и он трудился до упора. Я не слышала его ответ, когда полицейский, стоя в коридоре, сообщил ему по телефону о происшедшем. Звонок был коротким. Я сидела в гостиной; ко мне подошел полицейский и сел напротив. Часы тикали. Сотрудник полиции смотрел на меня, и тут я поняла, о чем он мог думать; я представила, как меня заключают под стражу; в голове у меня мелькнула мысль – карибская убийца, я представила себе возмущение, которое такая история могла бы вызвать, неизбежность всего этого, вспомнила о «людях вроде меня»…
Казалось, Рид появился всего через несколько минут. Промчавшись на своей машине через мост Ватерлоо, он ворвался в дверь. «Какого дьявола тут произошло, где, черт подери, она… какого…» – но слова замерли у него во рту, когда он увидел, как медбратья выносят Квик из дома. Она выглядела такой маленькой и хрупкой, и я заметила выражение шока на лице Рида – боль, которую он в кои-то веки не смог контролировать.
В сущности, именно благодаря Риду полиция не арестовала меня там же и тогда же. Они как-то оробели перед директором института. Он быстро взял себя в руки и снова предстал властным и авторитетным, а полицейская форма значила для него так же мало, как много она значила для меня. Рид разгневался, почувствовав по их поведению и вопросам, к чему они клонят, и твердо сказал им, что если они хотят обвинить в чем-то меня, то могут, черт возьми, обвинить и его. Помню его фразу: «Еще час назад она была со мной в кабинете».
Должна признать, меня это удивило. Я никогда не думала, что придет день, когда я почувствую себя обязанной Эдмунду Риду, и мне это совсем не нравилось, потому что я не знала, что смогу дать ему взамен. Мы вместе вышли из дома Квик, и он подвез меня домой в Клэпхем.
– Какой голос у нее был, когда вы ей позвонили? – спросил Рид, когда мы мчались вдоль Клэпхем-Коммон.
– Слабый. – Я хотела сказать что-то еще, но осеклась.
Он посмотрел на меня.
– В чем дело?
– Она была больна, мистер Рид.
– Больна?
– Серьезно больна. Мне кажется, ей… недолго оставалось.
Рид снова посмотрел на дорогу.
– Боже милосердный. Она всегда слишком хорошо умела хранить секреты. И, судя по всему, вы тоже. Неудивительно, что вы ей нравились.
Мы погрузились в молчание. Я чувствовала себя совершенно выжатой. Мне было трудно поверить, что она ушла, оставив после себя столько вопросов без ответа.
– Мистер Рид… вы давно ее знали? – нарушила я наконец молчание.
– Практически с тех пор, как она была еще девушкой.
– Мне очень жаль.
Хотелось знать, о чем он думает: задело ли его то, что Квик не сообщила ему о своей болезни, а может, он был просто в шоке и печали из-за того, что она умерла?
– Я хотел бы, чтобы вы и мисс Радж занялись похоронами, – промолвил Рид.
– Конечно. А у нее остались какие-то члены семьи, которых нужно поставить в известность? – спросила я.
– По крайней мере, я о таких не знаю. Но у вас есть немного времени. Полиция не сразу отдаст нам ее тело.
– Но почему? Неужели они в чем-то меня подозревают?
– Не волнуйтесь, мисс Бастьен. Все будет нормально.
Но я не разделяла его оптимизма.
– И выставка все равно состоится? – спросила я.
– А разве у нас есть выбор? К тому же она бы хотела, чтобы выставка состоялась.
Но половина проблем – думала я, сбрасывая туфли и падая на кровать прямо в одежде, пока машина Рида с ревом отъезжала от моего дома, – как раз и заключалась в том, что никто из нас толком не знал, чего на самом деле хотела Марджори Квик.
На следующий вечер выставка действительно открылась. В это время тело Квик все еще остывало в полицейском морге. Я с большим трудом могла объединить два этих факта: она, мертвая и одинокая, лежала там, пока здесь, в шуме и пестроте, среди оживленно движущихся тел, росло всеобщее воодушевление, вызванное заново открытым творчеством Исаака Роблеса.
Мимо проплыла Джули Кристи – ее лицо было так прекрасно, что просто не могло существовать на самом деле. Зал заполнился до краев. Актрису я узнала, а кто были все остальные посетители? Актеры, критики, лорды и банкиры – золотые пуговицы, выплавленные не в бою, но в горниле власти. Они пили вино в таких количествах, словно находились в собственных винных погребах. К вящему огорчению Памелы, Джаггера тут не оказалось. Упитанные министры общались с пожилыми искусствоведами потертого вида, а тут какой-то оптимист поставил пластинку с блюзом – и звуки трубы брызнули и вихрем закружились под потолком. Эта освобожденная музыка понравилась не всем – двое мужчин в блейзерах обменялись презрительными взглядами. Где были их искусные Ван Дейки, легкие Гейнсборо, пышные и величественные лошади Стаббса? Все, что предлагалось им здесь, – модернистские подтеки красок, женщины, держащие в руках головы, женщины, склонившиеся над своими разбитыми горшками, замерший лев; лишняя спица в колесе трагической игры ренессансных святых.
Тут в дело вступил малый барабан, и его синкопы только еще больше разожгли во мне чувство горечи. Без Квик я чувствовала себя совершенно потерянной. Ей следовало быть здесь; она должна была рассказать мне правду. В другом конце зала маячила фотография Исаака Роблеса и Олив Шлосс, черно-белая, зернистая; на лице девушки, как я теперь понимала, застыло неуместное выражение надежды. Мне казалось почти оскорбительным, что фотография там висит. Я хотела, чтобы блюз зазвучал громче, чтобы пара раскрасневшихся от вина упитанных мужчин задергалась в модном ритме, закружив какую-нибудь старушонку так, чтобы у нее вылетела вставная челюсть.
Я подавила вздох и направилась дальше, держа в руках бокал вина, словно оружие. Лавируя среди все разрастающейся толпы, я приблизилась к «Руфине и льву»: теперь полотно находилось за алым веревочным заграждением, а по бокам стояли два охранника. Рид явно знал, к каким приемчикам прибегнуть, чтобы все выглядело официально.
Я заметила, что худощавый седой мужчина в костюме навис над веревкой, стремясь получше рассмотреть один из углов картины. Он придвинулся очень близко, его нос оказался буквально в нескольких дюймах от крошечных хохолков краски на отрубленной голове девушки. Он прямо-таки впился в картину, не в силах от нее оторваться. Стоявший слева охранник беспокойно задвигался, его практичные ботинки заняли угрожающую позицию. Я почувствовала прилив тревоги – вот-вот случится что-то плохое; впрочем, худшее уже произошло.
– Это отвратительно, Фредерик, – сказала женщина, подходя к этому мужчине. – Это просто мучительно.
За моей спиной усиливался гул публики. По мере того как повышалась температура, а народу все прибавлялось, гости начали смотреть друг сквозь друга, словно сквозь дверные проемы. Где-то на гребне волны засмеялась женщина, и ее смех показался мне криком о помощи. Зачем все эти люди сюда пришли? Им не было дела до Исаака Роблеса. Им не было дела до Квик.
Я почувствовала, как меня кто-то ущипнул за локоть: Памела.
– Ты в порядке? – спросила она. – У тебя такой вид, словно ты увидела привидение.
– По-моему, так и есть.
Памела скорчила гримасу. Я не сказала ей о Квик – Рид попросил меня держать ее смерть в тайне, пока выставка не наберет обороты.
– Слишком много читаешь, Делл, – заметила Памела. – Привидений не бывает, так-то. Слушай. – Тут стало видно, что она чем-то расстроена. – Я рассталась с Билли.
– Ох, Памела. Мне жаль.
На ее лицо легла тень.
– Выяснилось, что он не хотел на мне жениться. Я дала объявление, что сдаю свою комнату и все такое, и тут мерзавец со мной порвал. И теперь туда въезжает другая девушка.
Я толком не поняла: другая девушка въезжает к Билли или в ее бывшую комнату? – но не стала расспрашивать. И тут я сама не поверила словам, сорвавшимся с моих губ:
– Может, ты бы хотела поселиться со мной?
Лицо Памелы озарила улыбка:
– Это было бы хорошо. Это было бы просто здорово.
– И я была бы рада.
Порозовев, Памела обняла меня, а потом отвернулась и смешалась с толпой.
Я нашла Лори и встала рядом с ним.
– Моя мама и вообразить такого не могла, – признался он, сделав жест рукой, словно старался охватить весь зал. – Но ей бы это понравилось. Вот так снежный ком – все растет и растет.
– Лори, – прошептала я, – мне нужно тебе что-то сказать. Квик… она умерла.
Он обернулся ко мне:
– Что?
– Я ее обнаружила. Прошлым вечером.
– Ох, Делли. Мне так жаль. Ты-то как?
– Да не особенно.
– А что случилось?
– Я тебе позже расскажу.
Как можно было объяснить, на открытии его выставки, что я вовсе не считала картины на стенах принадлежащими кисти Исаака Роблеса и что настоящий автор этих произведений умер, унеся тайну вместе с собой? Синт предупреждала меня, чтобы я держала все свои соображения об Олив Шлосс и Марджори Квик при себе, если забочусь о гармонии в моей личной жизни. Но если вся эта выставка основана на лжи, как я могла совместить это с собственным чувством творческой цельности? Я старалась понять, что для меня важнее: чувства Лори или восстановление прав Квик на ее художественное наследие. Если бы картины написала я, то, черт возьми, непременно хотела бы, чтобы об этом все узнали.
Лори взял меня за руку.
– Знаю, что она для тебя много значила.
Раньше я не думала о нашей с Квик близости в категориях привязанности или качества отношений. Да и вряд ли я когда-либо говорила о таком чувстве к ней. До того дня я относилась к ней как к интересной головоломке, любопытному времяпрепровождению, одновременно источнику вдохновения и препятствию. Но Лори оказался прав – она и вправду много для меня значила. Несмотря на ее уклончивую манеру общаться, Квик оказала мне радушный прием, помогла мне. Она мне нравилась, но я уже никогда не смогу ей об этом сказать. Правда, где-то на задворках моего сознания все еще свербила мысль о том, что она во мне каким-то образом нуждалась, но теперь было уже слишком поздно.
– Делл, ты хочешь уйти?
– Что ты, конечно нет. Со мной все будет в порядке.
– Ладно. Слушай, Джерри приглашает тебя на ужин. Кстати, он тут.
– Правда? Хорошо, что он понемногу стал выходить.
– Думаю, да. Но ты не должна приходить, если не хочешь. Джерри о тебе всегда спрашивает. Он прочитал твой рассказ в «Лондонском книжном обозрении» и растрезвонил всем друзьям, что знаком с писательницей. Похоже, у тебя появился поклонник.
– Я не писательница.
– Ах да, я забыл. Ты рядовая машинистка. – Раздражение в голосе Лори заставило меня обернуться. – Ну правда, Оделль. Ты собираешься и дальше себя так вести? Ты знаешь, сколько людей отдали бы почку, чтобы только напечататься в «Лондонском книжном обозрении»? Я бы не стал разбрасываться такими возможностями.
– Я и не собираюсь разбрасываться, – ответила я. Меня охватила усталость, и становилось все труднее скрывать свою горечь. – И не тебе говорить мне, как мне стоит себя называть, а как – нет.
Лори поднял руки вверх, сдаваясь.
– Хорошо. Просто я… в общем, знаешь, ты должна писать.
Я закатила глаза.
– Ты точно как Синтия. Ты точно как Квик. Все хотят, чтобы я писала, но никогда сами не пробовали, каково это. Если бы попробовали, то, может, заткнулись бы наконец.
Лори пожал плечами:
– Квик оказала тебе неоценимую услугу. И если бы она узнала, что ты тянешь резину…
Я чувствовала, что последние несколько часов меня доконали.
– Я не тяну резину… не упоминай ее… она умерла, Лори. Умерла. Я не… я не могу… не у всех есть картины, которые можно продать, понимаешь? Мне надо заниматься другой работой.
– Ты права. Конечно. Но иногда мне кажется, что тебе нужно напоминать о том, какая ты молодец.
Мы несколько минут простояли молча. Я знала, что он прав, что я опять взяла паузу в своих литературных делах. В кои-то веки я была слишком занята проживанием своей жизни, чтобы остановиться и перевести этот опыт в слова. Люди вроде Лори – насколько мне известно, в жизни не написавшие ни строчки, – видимо, хотели, чтобы те, кто пишет, расхаживали вокруг с блокнотом и карандашом на веревочке, записывали все происходящее и оперативно превращали это в книгу на потеху публике.
Видимо, поняв, что наступил мне на больную мозоль, Лори сменил тему.
– Похоже, есть пара-тройка людей, заинтересованных в приобретении «Руфины», – сообщил он.
– Это хорошо, – ответила я, но тут же заметила его горестную ухмылку. – Не правда ли?
– Мда, все едино для Руфины. Я ведь говорил тебе, что я поэт?.. Понимаешь, я вдруг понял, что мне вовсе не улыбается расстаться с этим полотном.
– Ну, конечно, нельзя сказать, что это рядовая вещь.
Лори обратил свой взор в другой конец зала, где пламенели краски «Руфины и льва», а люди ходили взад и вперед, то и дело заслоняя от нас картину.
– Это точно. Но как же мне поступить, Делл? У меня совсем нет денег, а картина не сможет меня кормить.
Когда мы смотрели на полотно, исчезающее и снова возникающее над головами людей, я поняла: мы с Лори смотрим на него по-разному. В уникальности картины я читала множество разных историй. Вглядываясь в манеру художника класть мазки, я испытывала метафизические переживания. Я должна была сделать все, чтобы защитить это исключительное произведение и сохранить его в поле зрения публики. Я угадывала импульсы, подтолкнувшие автора к тем или иным решениям, я могла размышлять о том, какие чувства картина у меня вызывала, но я понимала, что никогда не узнаю о ней всей правды.
А Лори видел что-то другое. Новая рама, заказанная Ридом, была для него окном, а картина – занавеской, которую он отодвигал. Он сказал, что ему не улыбается расставаться с картиной, но он ведь еще не видел суммы на чеке. Вряд ли он так уж стремился оставить у себя «Руфину» – хотя она и принадлежала его матери, он, видимо, не находился во власти воспоминаний, которые картина явно пробуждала у Сары. Да и по какой причине Лори вообще появился в Скелтоновском институте? Он говорил, что хотел найти меня, но, возможно, я была только бонусом. Для него полотно было вещью, приготовленной для продажи, переходным объектом, который давал ему новые возможности. Лори видел в картине шанс начать все с чистого листа.
Рид постучал по бокалу с вином и обратился к собравшимся. Стоя перед «Руфиной и львом», он начал с рассказа о жизни Исаака Роблеса; о важной роли, которую Роблес сыграл в художественных исканиях первой половины двадцатого века, хотя его судьба и оборвалась слишком рано. Рид поблагодарил фонд Гуггенхайма в Венеции и заговорил об особой тайне этого открытия, указав на присутствующего здесь Лори, который, в свою очередь, залился краской и поднял бокал под одобрительные аплодисменты; и правда, как повезло молодому человеку, что у него в доме была спрятана такая картина, и как хорошо, что он проявил щедрость и поделился своим богатством с широкой аудиторией.
Когда Рид говорил о том, что в своем творчестве Роблес размышлял о превратностях судьбы, посетители выставки, вероятно, думали, что он имеет в виду войну и диктатуру; многие из присутствующих прожили на этом свете уже немало, так что могли и сами столкнуться с такими напастями и помнить о них на инстинктивном уровне. А мне вспомнились только слова Квик, сказанные ею о картине: «Ее содержание поистине захватывает. Такое впечатление, что здесь есть некий дополнительный смысловой слой, который ускользает от нас. Мы не знаем, как к нему подступиться, но тем не менее он там есть».
«Руфина и лев» повлияли на меня в тот вечер в трансцендентном смысле; картина стала для меня туннелем, по которому я направила свое ощущение утраты, чувство принятия того, что я, возможно, так никогда и не узнаю правды, но что именно в этом и заключена тайна искусства. И возможно, в своих переживаниях я не была одинока: когда Рид закончил свою речь, я заметила, что люди – даже те старые дуралеи в клубных блейзерах – начали смотреть на «Руфину» чуть более уважительно.
Отзывы об открытии выставки «Проглоченное столетие» носили смешанный характер. Некоторые из них оказались откровенно равнодушными. «На полотне запечатлена сцена, призывающая смерть, и было бы неверно это игнорировать», – подобный «положительный» отзыв соревновался с рецензией журналиста в «Дейли Телеграф», сообщившего на следующее утро после открытия следующее: «Эдмунд Рид подтвердил в конце вечера, что „Руфина и лев“ будут выставлены на продажу» и размышлявшего, сколько эта картина может стоить. В «Таймс» вышел материал о мероприятии, где было полно знаменитостей, но в статье почти не упоминалось о самом художнике. Я улыбнулась – Квик, конечно же, увидела бы в этом массу иронии. И когда один журналист написал о «явно выраженном символизме» полотен Роблеса, я не могла согласиться. Этот журналист критиковал картину, считая ее смысл слишком очевидным, но я думала, что от него ускользал подлинный язык этих произведений, а единственный человек, владевший этим языком, от нас ушел.
Газета «Дейли мейл» задавалась вопросом, не было ли все это мероприятие тщательно спланированным розыгрышем, утверждала, что Исаака Роблеса стоило оставить там, где он все это время и пролежал, и что если таково состояние современного искусства, то какими же кошмарами нас будут пичкать в семидесятые годы. Однако «Обсервер» придерживался иной точки зрения, поздравляя Рида с тем, что тот отказался почивать на лаврах, когда речь шла о «пересмотре истории искусства, забытых художниках и их палитре». Мне даже смешно стало при мысли, что все эти люди смотрели на одну и ту же картину.
Я чувствовала отсутствие Квик, проходя по коридорам, зная, что она больше никогда не пригласит меня на ланч, что никогда больше ресторан по соседству не пришлет нам охлажденную бутылку своего лучшего «Сансера». Рида в институте не было; интересно, видел ли он газеты и как нам поступать дальше. Памела, которой сообщили о Квик, то и дело заходила поплакать в туалет. Даже опустевшие комнаты, казалось, находятся в трауре. А если бы Квик была жива, могли бы рецензии и отзывы носить более хвалебный оттенок? Ведь Квик сумела бы умаслить критиков, заставить их отложить свое эго в сторону и хорошенько рассмотреть, что находится у них перед носом.
При всем при этом резкая критика «Дейли мейл» нам даже помогла. К «Руфине» выстраивались очереди – люди хотели сами убедиться, розыгрыш это или нет. Но для меня ситуация только ухудшилась. Почему Квик не заговорила? Почему она с таким упорством считала свою жизнь тайной за семью печатями?
Я стала размышлять о том, что сказал Лори: Квик оказала мне неоценимую услугу, отправив «Беспалую женщину» в «Лондонское книжное обозрение», и я не должна была упускать свой шанс. Моя зеленая записная книжка несколько недель пролежала нетронутой; я просто не знала, о чем писать. Не думаю, что Квик когда-либо хотела, чтобы я чувствовала себя ей обязанной; она поспособствовала какому-то хорошему делу и была рада, что оно удалось. Тем не менее я начала думать, как бы я могла поблагодарить ее за оказанную мне помощь, раз уж я не сделала этого, пока она была жива. Похороны были назначены на следующую неделю, и я решила не тратить оставшееся время зря, а сочинить надгробную речь. Все-таки Рид поручил организацию похорон нам с Памелой, а больше никто не предложил свою помощь.
Первая почта пришла в тот день довольно поздно; Памела была на улице – решила устроить печальный перекур, так что за приемную отвечала я. Казалось странным, что почта на мое имя пришла в Скелтон, но тем не менее вот он – конверт с моим именем.
Если первое письмо, посланное мне Квик, было пробным камнем грядущей трансформации, то это послание оказалось совсем из другой сферы. Хотя к тому моменту я получила множество невероятных сообщений, это письмо, пришедшее в Скелтон, все их заткнуло за пояс.
Юридическая фирма под названием «Парр & Co», чьи офисы находились на Брэд-лейн в лондонском Сити, просила меня непременно посетить их в четверг; они также просили меня не забыть паспорт и какое-то подтверждение местожительства. Боже, как я тогда испугалась! Видите ли, если вам то и дело напоминают о том, что вам в этой стране не место, несмотря на предшествующие заверения в обратном, то неудивительно, что от письма, в котором вас просят принести удостоверение личности, у вас кровь стынет в жилах.
Я попыталась представить себе, как бы в такой ситуации повела себя Квик. Без ее помощи я чувствовала себя потерянной, мне не хватало защиты ее стального крыла. Если бы я позвонила Лори и сообщила бы о письме ему, он бы не понял, поскольку сам был отсюда. Он был окутан невидимой, но очень плотной сеткой, слой за слоем, которую начали плести для него еще до того, как он появился на свет, и она предохраняла его от опасности и давала ему такое чувство уверенности, какое ни один юрист из Сити не мог бы поколебать своим письмом. Более того, Лори бы еще посмеялся над моей тревогой, тем самым только ее усилив.
Я решила показать письмо Памеле.
– Что ты об этом думаешь? – спросила я.
– Бог его знает, Оделль. Но, по-моему, нет повода для беспокойства. Если бы они хотели тебя за что-то арестовать, то сделали бы это прямо тут.
Как всегда, в словах Памелы была доля истины. Так закончился тот четверг. Интересно, была бы я менее или более напугана, если бы знала, что на следующей неделе услышу завещание мисс Марджори Квик? Не могу сказать точно. Выбор был сделан; оставался только один путь, и Квик даже из могилы не позволяла мне с него сбиться.
VI
Точка забоя
Они похоронили ее в саду, под оливковым деревом. Тереза мало что запомнила, кроме стука комьев земли, падающих на крышку гроба, той самой земли, которую они когда-то вместе копали под летним дождем на фоне радуги. Поскольку отец Лоренцо покинул деревню, импровизированную траурную службу провел доктор Моралес. Гарольд и Тереза наблюдали за происходящим, поддерживая друг друга, в то время как Сара спала у себя наверху, накачанная снотворным.
Доктор избегал встречаться взглядом с Терезой. Неужто поверил слухам, что это она нажимала на спусковой крючок? Она знала, о чем толковали в деревне. Хорхе, опережая обвинения в двойном убийстве, клялся на каждом углу своей месячной зарплатой, что не кто-нибудь, а Тереза застрелила Исаака и Олив на вершине холма. Решила наказать брата, не иначе. Тереза же не сомневалась, что это сделал он, но не могла ничего доказать. А в смутные времена правда никогда не останавливает таких людей, как Хорхе. Ночью она лежала без сна в мыслях о том, что ее ждет, если люди ему поверят.
В каком-то смысле, полагала Тереза, не так уж он неправ. Она действительно желала как-то наказать брата. И не она ли послала Олив в сторожку, чтобы открыть ей глаза на человека, которого она считала ключом к своему успеху? Тереза пришла к тому, что Олив погибла из-за нее, и по ночам она извывала свою вину в подушку. Если бы пущенный Хорхе слух дошел до Гарольда… Тереза этого одновременно жутко боялась и страстно желала. В своем горе он мог ее и убить, но, по крайней мере, это положило бы конец ее мучениям.
В первые дни после похорон все трое двигались словно в полусне. Терезе не хватало воздуха. За это время Марбелья и Алама оказались в руках повстанцев, но Шлоссы не предпринимали никаких шагов. Только после того как пятисоткилограммовая бомба, упав на здание в Малаге, убила пятьдесят два человека, а в отеле «Регина» девушка накануне свадьбы лишилась обеих ног, семья Шлоссов смогла стряхнуть с себя скорбное оцепенение.
Артиллерийские обстрелы с моря, как и воздушные налеты, усилились. В прибрежных водах Фуэнхиролы появились пять боевых кораблей. В Малаге, по рассказам, никто ничего не контролировал, власть отсутствовала. Ни общественных служб, ни какой бы то ни было организации. Милиция вела себя неадекватно. Электричество, трамваи, полиция отсутствовали как класс. В сравнении с Малагой, говорили шутники, Мадрид после бомбежки – что твоя лужайка для пикника.
– Давайте уедем, – сказала Тереза Гарольду. – Пожалуйста. Половина деревни обвиняет меня в смерти Исаака. Как я могу здесь оставаться?
– Как-нибудь выживешь, – был ей ответ.
– Сеньор, я все делала для вас. Я ни в чем не виновата.
Он посмотрел ей в глаза.
– Ты уверена?
Тереза выдержала его взгляд.
– Сеньор, я никому не выдала вашу тайну.
Она видела по его глазам, что до него дошел смысл сказанного, сама же она не выдала своего волнения, хотя сердце у нее колотилось. У нее не осталось выбора.
– Вы думаете, ваша супруга продолжила бы давать вам деньги, если бы она узнала о вашей немке?
– Мы заберем Терезу с собой, – сказал Гарольд жене на следующий день. – Сделаем для нее хотя бы это. Она воспользуется документами Олив.
– Хорошо. – Сара избегала встречаться взглядом со служанкой, и та прекрасно понимала, что хозяйка предпочла бы держать ее на большом расстоянии, но Тереза хранила и ее тайну, поэтому англичанка решила помалкивать.
Корабль отчалил холодным днем. Они представляли собой странное соединение – единственная троица на корабле, где каждый существовал сам по себе, и это говорило о многом. В самом отплытии, если сравнивать с приездом, не было ничего яркого: небесный свод, меняющий серые краски, и океан без начала и конца. Дребезжание ржавых цепей, когда отдавали швартовы, вызвало у Терезы прилив невообразимого счастья. Но к чувству облегчения от того, что ее отсюда увозят, примешивалась пульсирующая боль собственной вины. За свой отъезд она заплатила кровью Олив.
Такие же смешанные чувства читались на лицах других пассажиров, пока суша уменьшалась в размерах, превращаясь в узкую полоску. Это было чудо с оттенком горечи. Они своего добились, покинули страну… но и не покинули, по большому счету. Уж Тереза-то знала, что часть ее навсегда останется здесь.
Корабль был для нее открытием, до сих пор она ни разу не покидала сушу. Гарольд объяснил ей, что это миноносец. Как пугающе точен английский язык, подумала она и пожалела, что не может записать это слово в пропавшую тетрадку. Она вцепилась в поручни, противясь желанию прыгнуть за борт и пропасть без следа в бурлящей воде. Море поражало своей цветовой гаммой: илистый и молочный, грифельный и лиственный, бронзовый, когда луч света падал на гребень волны, а водная гладь, еще не прошитая носом корабля, радовала глаз чистейшей синевой. За прошедшие месяцы Тереза научилась различать столько цветовых оттенков, которых прежде и не замечала. Ей хотелось, чтобы ветер исхлестал ее по щекам, чтобы он в нее впивался до онемения, но ничего такого не происходило. Природа была бессильна стереть ее с лица земли.
Память в очередной раз вернула ее к тому утру, когда они обнаружили тело Олив. Гарольду до сих пор было невдомек, зачем она на ночь глядя ушла из дому. Но в своей тоске и стремлении бежать из этого ада сейчас, когда его дочь мертва, он не задавался подобными вопросами. Ему и в голову не приходило, что члены его семьи тоже могли искать любви, смысла жизни, спасительной гавани в ком-то другом. В то утро, когда Олив так и не появилась к завтраку, Сара с Терезой обменялись взглядами и пришли к пониманию, что наилучшей стратегией в этой ситуации будет молчание. Так и повелось.
Первая реакция в виде легкого дискомфорта позже сменилась настоящим кошмаром. Когда до Гарольда дошло, что его дочь пропала, он сел в машину и отправился на поиски. Ее тело он нашел на склоне холма. Спустя час женщины снова услышали рев мотора, а затем грохот, когда он крылом зацепил железные ворота, отчего мертвое тело подпрыгнуло на заднем сиденье. Гарольд, пошатываясь, нес дочь на руках. «Она поедет с нами». Его непривычно тусклый голос, донесшийся из глубокого туннеля, прозвучал так, словно его и женщин разделяли несколько миль. При виде безжизненного тела дочери Сара грохнулась в обморок.
Вспоминая сейчас эту жуть и заставляя себя взглянуть на все открытыми глазами, чтобы двигаться дальше, Тереза ловила себя на том, что память сохранила лишь отдельные фрагменты – главным образом, визуальные, обонятельные, тактильные. Стук Сариных колен при падении; запах дешевого желудевого кофе, когда ее вырвало на плитняк; тело Олив на ощупь и проглядывающие сквозь свитер сизоватые, с кровавыми подтеками огнестрельные ранения, всего три.
– Она считала это место своим домом, – сказала Сара, с трудом ворочая языком, спустя несколько часов, когда они втроем сидели в восточной гостиной. Гарольд напился. Сара накачалась таблетками. Это был кошмар наяву. Они отнесли тело на кухню, самое прохладное место в доме. – Похоронить ее надо здесь, – прошептала Сара, осунувшаяся от горя.
– А что с моим братом? – спросила Тереза. Сара закрыла лицо руками.
– За ним пришел Хорхе, – ответил Гарольд. – А я нес Олив.
– Хорхе? – не поверила своим ушам Тереза. – Куда он его унес?
– Этого я не знаю.
Когда хозяева окончательно вырубились – Сара на диване, а Гарольд в кресле, готовый выронить свою выпивку, – Тереза поставила стакан на пол, а сама на цыпочках вышла из комнаты. Представив себе, как Хорхе уносит тело ее брата в лес и там забрасывает землей в наспех вырытой могиле, где его уже никогда не найдут, она, обессилев, привалилась к стене и засунула в рот кулак, чтобы не закричать в голос.
Олив была не похожа на себя. Лицо в пятнах, веки опущены, рот слегка приоткрыт, так что видны зубы, отчего она казалась еще более уязвимой. Тереза тронула ее руку – обескровленную, одеревеневшую. Потом коснулась ее головы и почувствовала себя живой покойницей, призраком из плоти и крови. Тут она заметила, что из кармана юбки что-то торчит. Это была фотография, на которой Олив и Исаак стоят на чердаке перед картиной «Руфина и лев».
«Своей жизнью тебе клянусь, – сказала Тереза мертвой подруге по-испански, пряча фотографию в свой карман, – я за тебя отомщу».
Но внутренний голос ее тихо одернул: это практически невозможно. Ты будешь сражаться с тенью на деревенской площади? Вот оно, самое страшное – ее полная беспомощность перед лицом этого бессмысленного двойного убийства. При всем желании она не могла вернуть их к жизни. Одно только и можно было сохранить вживую – память об ушедших.
На следующий день Сара поднялась на чердак, когда Тереза заканчивала паковаться. Все краски и альбомы для зарисовок были уже спрятаны. Осталась только «Руфина и лев», приставленная к стене.
– Это она? – спросила Сара. – Последняя?
– Да.
Сара стояла перед картиной, не говоря ни слова, выпивая ее маленькими глотками. Потом повернулась к служанке и, глядя ей в глаза, спросила:
– Тереза, что здесь делает картина Исаака?
– Олив… она за ней присматривала.